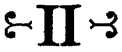
ЖАН-БАТИСТ ЛАМАРК
ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ
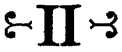
РЕДАКЦИЯ
И.М.ПОЛЯКОВА И Н.И.НУЖДИНА
ПЕРЕВОД А.В.ЮДИНОЙ
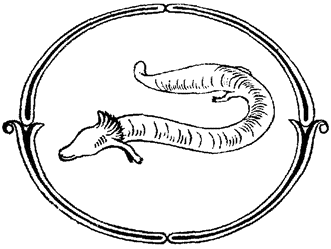
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1959
| {8} |

| {9} |

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ
1959 год — знаменательная дата в истории эволюционной теории — учения об историческом развитии органического мира. 150 лет тому назад, в 1809 г., в Париже был издан известный труд великого французского натуралиста Ламарка «Философия зоологии». 100 лет назад в Лондоне вышел бессмертный труд Чарлза Дарвина «Происхождение видов». Если Ламарк был первым ученым, сформулировавшим целостное учение о развитии органического мира, то полная победа эволюционной теории пришла уже в форме дарвинизма. Важнейшие принципиальные положения сближают корифеев науки Ламарка и Дарвина.
Редакционная коллегия серии «Классики науки» и редакция настоящего издания приурочивают выход в свет II тома избранных сочинений Ламарка к этой знаменательной дате.
Первый том, вышедший в конце 1955 г., содержал «Вступительные лекции к курсу зоологии» (1800—1806), «Философию зоологии» (1809) и несколько небольших работ Ламарка, а также комментарии к ним.
Во второй том мы включили «Введение» к «Естественной истории беспозвоночных животных» (1815), три статьи из «Нового словаря естественной истории» Детервилля (1817) и последний труд Ламарка, носящий итоговый, синтетический характер,— «Аналитическая система положительных знаний человека» (1820). Все эти труды Ламарка имеют огромное значение для понимания его эволюционного учения, а также его философских, общебиологических и {10} психофизиологических концепций. «Введение» и статья «Привычка» впервые издаются на русском языке.
Во второй том включены две нигде и никогда ранее не издававшиеся работы Ламарка, которые впервые увидят свет на русском языке: «Аналитический обзор», относящийся, по-видимому, к 1810—1814 гг., и «Вступительная лекция к курсу зоологии 1816 г.». Эта важная публикация могла быть осуществлена только благодаря исключительной любезности директора Национального музея естественной истории в Париже, академика, профессора Р. Гайма, который, в ответ на нашу просьбу, прислал микрофильмы соответствующих рукописей Ламарка, хранящихся в архиве центральной библиотеки Музея. Редакция пользуется возможностью принести профессору Р. Гайму, а также библиотекарю г-же М. Мадье, много содействовавшей подбору нужных нам материалов, свою глубокую признательность.
К тому приложены сопроводительные материалы — статьи, комментарии, библиография и указатель имен.
| {11} |
ЕСТЕСТВЕННАЯ
ИСТОРИЯ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
ЖИВОТНЫХ
ВВЕДЕНИЕ

| {12} |
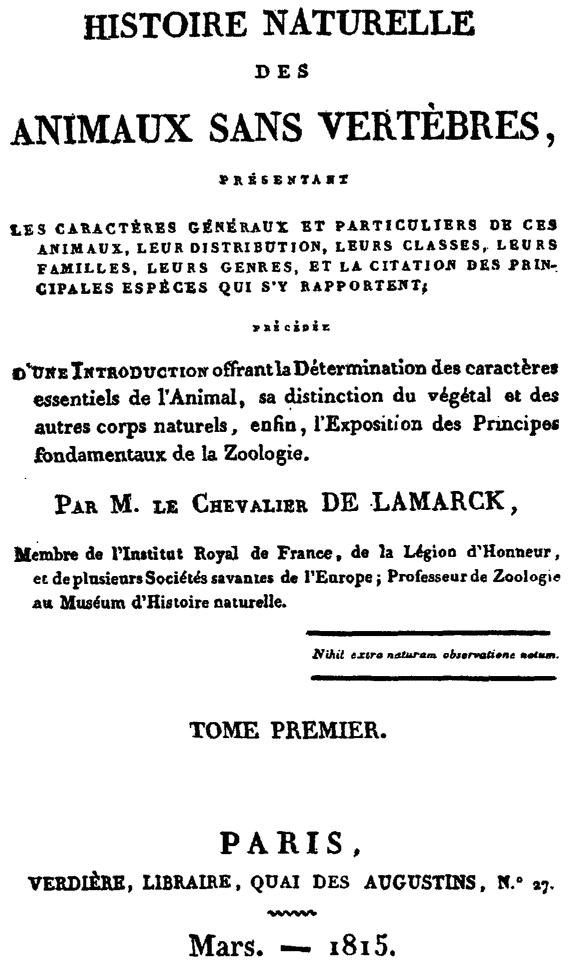
Титульный лист первого тома первого французского издания
«Естественной истории беспозвоночных животных»
Париж, 1815
| {13} |
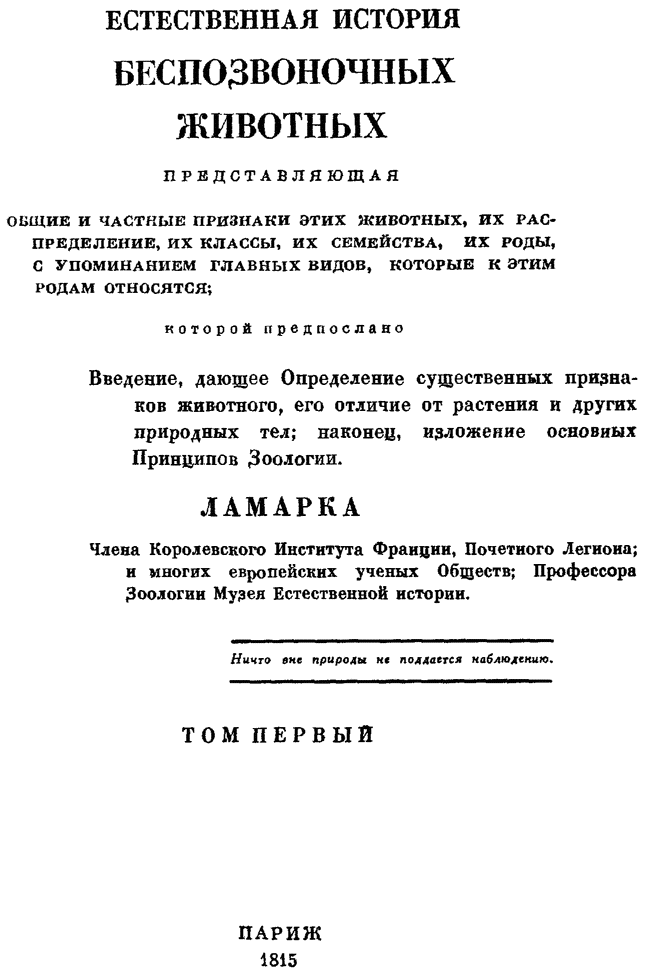
| {14} |
17 | |
25 | |
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ | |
43 | |
Глава первая | |
45 | |
Глава вторая | |
56 | |
Глава третья | |
79 | |
Глава четвертая | |
98 | |
ВТОРАЯ ЧАСТЬ | |
110 | |
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ | |
135 | |
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ | |
168 | |
ПЯТАЯ ЧАСТЬ | |
200 | |
ШЕСТАЯ ЧАСТЬ | |
232 | |
СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ | |
258 | |
287 |
| {17} |

Я полагал, что прежде чем наступит конец моей жизни, я должен изложить в новом труде1, который можно было бы рассматривать как второе издание моей «Systeme des animaux sans vertebres», основные факты, собранные мной для моих лекций, как о животных вообще, так и о тех из них, которые были предметом моего наглядного преподавания в Музее естественной истории, а также мои наблюдения и размышления об источниках этих фактов. Помимо того, в этом труде должны были быть представлены в определенном порядке классы, роды и главные виды беспозвоночных животных и приведены наиболее существенные факты, касающиеся их организации, а также способностей, приобретаемых ими в зависимости от этой последней. Поэтому мне казалось, что настоящий труд мог бы служить, если можно так выразиться, оправдательным материалом того, что было опубликовано в моей «Philosophie zoologique», и тех новых идей, которые я развиваю здесь во «Введении».
Всякий, кто любит изучать природу, кто интересуется, в частности, изучением животных и кто много их наблюдал, сможет установить путем рассмотрения всех фактов, приводимых мною о животных, являются ли результаты моих наблюдений и моих размышлений столь обоснованными и столь необходимыми, какими они мне кажутся. В положительном случае, улучшенные или исправленные чужими наблюдениями, они будут служить прогрессу науки. {18}
Достаточно известно, насколько интересно наблюдать и изучать животных, насколько своеобразны, помимо того, беспозвоночные животные по различиям их организации и по способностям, которые они получают в зависимости от этой последней. Поэтому никакие средства, которыми можно себя обеспечить, изучая этих животных, никакие рассуждения о них не покажутся излишними, если хотят составить себе правильное понятие о них, словом, если хотят всесторонне их изучить.
Таким образом, особая точка зрения, с которой я рассматривал животных, а также выводы, сделанные мною из всего того, что мне удалось собрать относительно их, наконец, общая теория, которую я выдвигаю в связи со всем тем, что касается этих интересных существ,— все это представляется мне заслуживающим большого внимания. Следовало бы установить, если это окажется возможным, в какой степени я был прав во всем том, что мною изложено по этому вопросу.
Здесь, действительно, найдут поистине общую теорию об источнике существования, способе бытия, способностях, изменчивости и явлениях, свойственных организации различных животных,— общую теорию, части которой всегда связаны, всегда последовательную в своих принципах и приложимую ко всем известным случаям. Эта теория является, как мне кажется, первой и, следовательно, единственной, предложенной в этой области, ибо мне неизвестен ни один труд, который содержал бы иную теорию с подобной же совокупностью принципов и соображений, лежащих в их основе.
Обоснована ли эта теория, которая признает за природой способность создавать что-либо, и даже создавать все то, что мы наблюдаем? Без сомнения, она мне представляется именно такой, поскольку я выступаю с ней в печати и поскольку мои наблюдения, по-видимому, полностью и во всем ее подтверждают. Если о ней будут судить иначе, то, по всей вероятности, будут пытаться заменить ее другой теорией, столь же общей, такой, которая будет иметь своей целью достигнуть еще большего согласования ее со всеми наблюдаемыми фактами. Однако я не считаю это возможным. {19}
Быть может, мне возразят, что то, что мне кажется столь правильным, столь обоснованным, является не чем иным, как моим личным мнением, соответствующим уровню моих познаний; быть может, будут утверждать, что все, что является результатом наших суждений, всегда подвержено ошибкам, и что достоверными на самом деле являются для нас только факты, установленные путем наблюдения.
На это я отвечу, что эти философские соображения, весьма правильные вообще, тем не менее, подобно многим другим соображениям, имеют свои границы и свои исключения.
Без сомнения, наши суждения весьма подвержены ошибкам, ибо, несмотря на то, что они всегда соответствуют тем элементам, которые мы в них вводим, и что, с этой точки зрения, они редко бывают неправильными, все же у нас почти никогда не бывает уверенности в том, что мы использовали в каждом из этих актов нашего ума те элементы, и притом всю совокупность их, которые необходимо было применить.
Однако бывают случаи, когда наши суждения представляют собой не только плод нашего отношения к наблюдаемым фактам, но являются результатом силы вещей, которая при рассмотрении этих фактов, особенно если мы сумели их объединить, управляет нами помимо нашей воли. И вот эта властно воздействующая на нас сила вещей, когда мы научаемся ее понимать, становится для нас могущественным началом, которому не уделяют достаточного внимания, началом, заставляющим делать исключения из приведенных выше слишком общих утверждений. Таким образом, бывают случаи, когда наши выводы становятся вынужденными и не допускают никакого произвола2.
Теперь представьте себе, что после того, как я собрал по поводу важного предмета, которым я занимаюсь в продолжение сорока лет, многочисленные и наиболее существенные факты, после того, как я рассмотрел все эти факты, в результате этого и проявилась сила вещей, позволившая мне открыть и постепенно разработать теорию, представленную мною здесь, теорию, которую я, без сомнения, не мог бы создать, если бы не было причин, приведших меня к ней. {20} И вот, хотя меня, возможно, будут упрекать в том, что в этом труде я высказал мои мысли в слишком категорической форме, нетрудно понять, что меня влекло, помимо моей воли, выразить мою глубокую убежденность и что я мог излагать только так, как я понимал.
Быть может, мне сделают и другой упрек, ибо может показаться странным, что я рассматриваю ряд вопросов, с первого взгляда кажущихся весьма далекими от тех, которые одни только должны были бы служить предметом моего рассмотрения. Между тем, если глубже вникнуть во все эти вопросы, станет понятной их тесная связь с вопросами, имеющими непосредственное отношение к моему труду, и даже станет понятной необходимость для меня оценить их взаимную зависимость и показать, что все они являются неотъемлемыми элементами тех выводов, к которым я пришел.
Настоящий труд есть труд серьезный; он имеет своей целью только сообщение знаний и не может, но своей природе, обладать некоторыми из тех качеств, которые многие читатели привыкли находить в ряде других работ. Моему сочинению будет тем более трудно привлечь к себе все то внимание, в котором оно нуждается, что вкусы и условия нашего времени побуждают уделять внимание предметам, совершенно чуждым моему труду. Наконец, поскольку этот труд, по-видимому, должен интересовать только определенный круг читателей, именно тех читателей, взгляды которых он стремится изменить, то все то, что в нем есть действительно заслуживающего внимания, останется, быть может, еще долгое время мало известным.
Я знаю, однако, что со многих точек зрения содержание этого труда действительно важно и что было бы полезно отнестись к нему серьезно. Именно таково было мое убеждение, поддерживавшее меня в работе. И вот, если признают, что этот мой труд действительно выполнил назначение, которое я имел в виду, я буду в достаточной мере вознагражден за все мои усилия. Но для того чтобы меня поняли, я нуждаюсь в благосклонности, которую не принято уделять любому автору и которую я всегда стремился заслужить.
В самом деле, известно, что чтение или изучение любого сочинения, в особенности научного, плодотворно лишь при условии понимания {21} его в духе самого автора; разумеется, мы должны оставить за собой свободу суждения о том, в какой мере последний приблизился к поставленной цели, ибо, если подходить к изучению того или иного сочинения, проникшись духом отрицания или предубеждения, то самые обоснованные положения и даже самые очевидные истины покажутся лишь ошибками.
Таким образом, в случае расхождения взглядов читателя и тех, которые представлены в изучаемом труде, полезно, чтобы читатель соблаговолил на время отказаться от своей собственной точки зрения, для того чтобы установить гармонию со взглядами автора при рассмотрении вопросов, обсуждаемых последним. Если при этом он найдет, что автор выполнил свою задачу, ему останется только решить на основе фактов и рассуждений, который из двух взглядов на вещи заслуживает предпочтения.
Итак, я жду от каждого читателя, что он согласится привести себя в то состояние духа, о котором я говорил, чтобы он мог полностью усвоить мое понимание вещей и лежащие в основе его мотивы. Что же касается окончательного суждения; которое он вынесет затем, то последнее, каково бы оно ни было, без сомнения, будет тем более благоприятным, чем больше будут ему знакомы приведенные здесь факты, чем глубже он сам вникнет в рассматриваемые вопросы и чем больше он будет наблюдать природу.
Я не говорю здесь об обычной трудности заметить в сочинении, до некоторой степени философском, все, что в нем достойно внимания. Эта трудность, обусловленная то усталостью, то различными отвлекающими мыслями, действительно более или менее велика, в зависимости от большей или меньшей привычки читателя к размышлению, но она реальна, и всякий знает, что при вторичном чтении подобного сочинения обычно в нем находят много такого, чего не могли заметить при первом чтении.
Что касается плана настоящего труда, последовательного развития идей, которые в нем представлены, а также приведенных в нем фактов, полученных путем наблюдения, я счел необходимым придерживаться следующего порядка: {22}
Во «Введении», по необходимости несколько пространном, но весьма существенном для понимания предмета, я стремлюсь установить основы зоологии, дать наиболее общие принципы, которые должны служить ее фундаментом, и даже пытаюсь вскрыть самый источник, которому обязаны своим происхождением рассматриваемые явления и предметы.
В самом деле, сначала я сравниваю животных с остальными телами природы; я пытаюсь определить действительные и отличительные признаки тех и других; я привожу наблюдаемые факты из области зоологии, преимущественно — факты, имеющие первостепенное значение, и указываю те выводы, которые мне представляется уместным сделать из них. Далее я исследую вопрос о происхождении различных животных, а также причину возрастающего усложнения их организации и тех способностей, которыми они обладают; выясняю причину многочисленных расхождений, которые могут быть обнаружены между постепенным усложнением [различных ступеней] организации животных и неправильным ходом развития различных систем специальных органов, входящих в состав большей части этих ступеней организации. Далее я показываю, что все, что мы можем обнаружить у животных, и даже их склонности, всецело определяется их организацией и что все наблюдаемые у них явления — это явления чисто органического порядка. Наконец, объяснив, что представляет собой то своеобразное действующее начало, которое мы обозначаем словом природа, я привожу явные доказательства того, что именно этому началу животные обязаны всем, чем они являются.
В заключение настоящего «Введения» я привожу наиболее правильное общее распределение различных существующих животных, принципы, которые должны быть положены в основу этого распределения, и то надлежащее расположение, которое следует придать всему ряду в целом, чтобы он соответствовал порядку, которому следовала природа.
Для того чтобы упорядочить этот разнообразный материал, я разделил «Введение» на семь ясно отграниченных частей, каждая из которых, при всей сжатости изложения, содержит дальнейшее развитие {23} идей, приведенных мною в моей «Philosophie zoologique», и дополняет то, чего не хватает в ней, придавая законченность теории, все части которой связаны между собой.
После «Введения» я перехожу к описанию многочисленных беспозвоночных животных, послуживших предметом моих наблюдений, потому что именно они составляют главную тему настоящего труда, и потому что состояние их организации, приобретаемые благодаря ей способности, а также присущие им особенности подтверждают те положения, которые содержатся в этом «Введении».
Итак, я даю последовательное описание различных классов, семейств, родов, установленных среди беспозвоночных животных, и даже многих наиболее изученных видов, входящих в эти роды.
На протяжении всего труда я поместил в начале каждого класса, каждого отряда и даже каждого рода некоторые пояснения, необходимые для лучшего ознакомления с животными, рассмотренными в каждом из этих подразделений. Эти пояснения тем короче, чем менее широкий характер носят соответствующие подразделения и, следовательно, чем меньшую важность они представляют.
Что касается тех видов, которые я привожу при описании каждого рода, то я руководствовался при этом либо определениями авторитетных исследователей, либо моими собственными определениями. Вообще же я привожу их только для того, чтобы подтвердить правильность установления тех (родов, которые я признал или которые я сам установил. Я желал бы иметь возможность привести здесь таблицу видов, настолько исчерпывающую, насколько это позволяет состояние современных знаний, тем более, что составление подобной таблицы чрезвычайно желательно. Однако это потребовало бы длительной и сложной работы, предпринять которую мне не позволяют обстоятельства, лично меня касающиеся, и выполнение которой, быть может, вообще не под силу одному человеку. Таким образом, я, долго не раздумывая и почти без предварительных сопоставлений, привел в каждом роде в одних случаях — небольшое число видов, в других — гораздо более значительное число их, в зависимости от того, располагал ли я большими или меньшими возможностями их изучить. {24}
Такова сущность труда, предлагаемого мною вниманию читателей, любителей зоологии и всех тех, кто интересуется изучением природы. Я льщу себя надеждой, что они найдут в нем кое-что полезное, те или иные воззрения, которые они сумеют использовать для содействия прогрессу в области естественных наук.
| {25} |

Животные — существа настолько замечательные, настолько интересные, а организация и способности тех животных, о которых мне поручено прочитать курс лекций, настолько разнообразны, что не следует пренебрегать ни одним из средств, которые могут дать нам верное представление о них и осветить по возможности полнее все, что их касается.
Между тем я осмеливаюсь утверждать, что направление, которому следовали при изучении этих замечательных существ, еще далеко не охватывает всего того, что нам важнее всего изучить в них.
В самом деле, если при изучении зоологии вопрос заключался бы только в том, чтобы наблюдать различия формы, отличающие разных животных друг от друга, если бы речь шла только об определении их многочисленных пород, об их объединении в небольшие группы для образования родов, словом, о том, чтобы тем или иным способом расклассифицировать их и тем самым составить огромный систематический перечень видов, известных нам из наблюдений, то нам почти нечего было бы добавить к общепринятому направлению в изучении зоологии. Достаточно было бы усовершенствовать то, что уже сделано, и закончить собирание и определение всего того, что до сих пор не вошло в круг нашего наблюдения.
Но можно найти у животных много других особенностей, помимо тех, которые мы старались у них обнаружить, и в этом отношении предстоит разрушить еще немало предубеждений и исправить немало ошибок. {26}
Вот то, в чем, к моему большому удивлению, меня сильнейшим образом убедило изучение животных; вот то, что я могу прочно обосновать и что было уже опубликовано в моих сочинениях. Тем не менее, все это, быть может, еще долго останется бесплодным, ибо причины, поддерживающие эти предубеждения, очень могущественны, и даже разум почти бессилен, когда ему приходится бороться с привычными понятиями, иными словами — с общепринятыми мнениями.
В продолжение ряда лет, с тех пор как мне было поручено читать в Музее ежегодный курс зоологии, а именно курс беспозвоночных животных, т. е. тех, которые не относятся ни к млекопитающим, ни к птицам, ни к рептилиям, ни к рыбам3, я вынужден был тщательно изучать этих животных не только со стороны их общей формы, их наружных отличительных признаков, но, помимо того, со стороны их организации, способностей и привычек; наконец, я должен был быть готовым дать моим слушателям самое правильное понятие об этих животных, со всех указанных точек зрения, по крайней мере в пределах приобретенных мною о них знаний.
Посвятив себя этим обязанностям, я вскоре убедился, что выполнение моей задачи сопряжено с исключительными трудностями, ибо мне предстояло заняться разделом животного царства, наиболее обширным, наиболее богатым по числу разных входящих в него пород,— разделом, охватывающим животных, наиболее разнообразных по их организации и способностям4. Это был раздел зоологии, до сих пор вызывавший к себе лишь незначительный интерес, которым больше всего пренебрегали, а те основные факты, которые удалось собрать и изучить в этой области, касались исключительно наружной формы относящихся сюда животных.
Между тем потребность знать организацию человека с целью устранять нарушения, вызываемые болезнями, с давних времен побуждала изучать его физическую природу — наиболее сложную из всех видов организации. В дальнейшем путем наблюдения убедились в том, что она весьма приближается к организации некоторых животных, а именно — млекопитающих. Но вместо того чтобы понять, {27} что выводы, сделанные с полным основанием из наблюдений над организацией человека, можно было приложить только к самому человеку, стали выводить из этих наблюдений общие принципы физиологии и, помимо того, распространяли ряд заключений, относящихся к способностям высшего порядка, на всех животных вообще.
Не считались с тем фактом, что всякая способность, по существу, зависит от организации, которая ее обусловливает, и что вследствие этого значительные различия между сравниваемыми [системами] организации должны были не только повлечь за собой большие различия в способностях, но, помимо того, могли положить предел способностям, поскольку для своего проявления эти последние требуют определенного порядка вещей, который мог оказаться уничтоженным некоторыми из этих различий.
Таким образом, не принимали во внимание эти неоспоримые истины, а упомянутые мною выводы, распространяемые на всех животных вообще, были положены в основу теории, которой руководствовались и до сих нор еще руководствуются в зоологических науках.
Таково было положение вещей в зоологии, когда обязанности профессора потребовали от меня изложения в курсе зоологии беспозвоночных животных всего того, что следовало знать относительно этих животных, и сообщить все то, чему научило нас наблюдение над разнообразием их пород, форм и признаков, а также их организации и способностей. Одним словом, я должен был показать, каким образом общепринятые принципы могут быть приложены к фактам, полученным путем наблюдений над множеством этих животных.
Правда, во всем, что относится к искусственным приемам разграничений, я не встречал иных трудностей, кроме тех, которые легко могут быть устранены путем изучения и наблюдения самих объектов.
Но когда я пытался приложить к этим животным общепринятые теоретические принципы, когда я хотел найти среди их действительно существующих способностей те, которые им приписывали, исходя из вышеупомянутых принципов; наконец, когда я старался найти полное соответствие, которое должно было бы существовать между {28} этими, приписываемыми им способностями и обусловливающими их органами, трудности стали для меня непреодолимыми.
В самом деле, чем больше я изучаю животных, чем больше я исследую проявления присущей им организации, а также изменения, претерпеваемые их органами и их способностями как в результате самой жизни, так и под влиянием изменений, происшедших в их привычках; чем больше я вникаю во все то, чем животные обязаны обстоятельствам, в которых пребывает каждая их порода, тем сильнее я убеждаюсь в невозможности согласовать наблюдаемые факты с общепринятой теорией, иными словами,— тем больше расходятся принципы, к которым я пришел, с теми, которые выдвигаются другими.
Что делать при этом положении вещей? Мог ли я ограничиться в преподавательской работе, которая мне была поручена, простым описанием внешнего вида животных, перечислением обнаруженных у них признаков, большую часть которых можно найти в книгах, ознакомлением моих слушателей с искусственно введенными подразделениями этих существ; наконец, допустимо ли было, заглушая в себе голос совести в угоду господствующим мнениям и способствуя укреплению заблуждений, лишать тех, кто приходил меня слушать, знакомства с моими собственными наблюдениями, со всеми теми фактами, которые подтверждают, насколько необходимо для преуспеяния физики животных изучение различных изменяющихся особенностей организации, встречаемых нами у беспозвоночных животных; короче говоря, мог ли я лишать моих слушателей знакомства с той истиной, согласно которой подлинные принципы зоологии должны опираться на результаты одновременного рассмотрения всех существующих видов организации?
Я не пошел и не мог пойти по этому пути, т. е. я не мог утаить то, что мне позволили обнаружить мои исследования. Тем самым я невольно оказался вовлеченным в распри, которые будут пресечены скорее временем, чем разумом, ибо у меня нет сейчас иного судьи, кроме тех, с чьими воззрениями я борюсь, и кто имеет за собой преимущество господствующего мнения. {29}
Я мог бы ограничиться рассмотрением одних только беспозвоночных животных, так как именно они составляют предмет настоящего труда, если бы мне не нужно было привести о них множество важных положений, которые не могли бы быть установлены на основе общепринятых принципов, и если бы я не хотел показать, что несовершенство, обнаруженное мною в этих принципах, отнюдь не иллюзорно. Таким образом, я должен предварительно исследовать, что представляют собой животные вообще, попытаться уточнить, если это окажется возможным, понятие, которое мы должны составить себе об этих своеобразных существах, подойти к изложению только что упомянутых мною спорных вопросов и пытаться убедить моих читателей в том, что некоторые выводы, сделанные на основе фактов, полученных из наблюдений, на самом деле далеко не подтверждаются указанными фактами.
Мне кажется, что главное, что нужно было сделать в труде по зоологии, это — определить понятие животного и найти для него общий, только ему присущий и не допускающий никаких исключений признак. Между тем это и есть то, что невозможно было сделать в настоящею время, не возвращаясь к тому, что уже было установлено раньше, и не опровергая тех принципов, которые повсюду проводятся на практике.
Кто бы мог поверить, что в наш век, когда физические науки сделали такие успехи, определение того, что заключает в себе понятие «животное», еще прочно не установлено, что не научились еще безошибочно определять разницу между животным и растением, и что существуют сомнения в вопросе, действительно ли животные отличаются от растений какими-либо существенными, только им одним присущими признаками. А между тем хорошо известно, что ни одному зоологу не удалось указать признак, действительно присущий всем известным животным и резко отграничивающий их от растений. Отсюда — вечные расхождения во взглядах натуралистов при попытках установить границу между царством животных и царством растений. Отсюда также — ложное, но пользующееся почти всеобщим признанием мнение об отсутствии такого рода границы и о том, что {30} существуют животные-растения или растения-животные. Причину такого положения вещей в области наших зоологических познаний нетрудно понять5.
Так как при изучении природы и способностей животных до сих пор исходили из данных, полученных на основе исследования наиболее сложной организации, т. е. организации наиболее совершенных животных, то не могли составить себе правильного представления о действительных пределах большей части присущих животным способностей, так же как и об органах, которые эти способности производят; не понимали еще, в чем состоит животная жизнь [vie animale] на самой ее низкой ступени и в чем проявляется та единственная способность, которой эта жизнь может наделять живое существо.
Чтобы показать, что все то, что писали относительно способностей животных и признаков, якобы присущих всем им, не может доставить нам фактических знаний и ведет лишь к заблуждениям, задерживающим истинный прогресс зоологии, я не мог бы выбрать более подходящего текста, чем тот, который мы находим под словом «Животное» в «Dictionnaire des sciences naturelles», в статье, автором которой является знаменитый анатом и зоолог, один из самых выдающихся ученых нашего времени6.
«Нет ничего легче, чем определить понятие животного» — говорит этот ученый. «Под словом животное все понимают существо, наделенное чувством и произвольным движением; но когда речь идет о том, чтобы определить, является ли наблюдаемое существо животным или нет, это определение делается чрезвычайно трудно приложимым». Отсюда ясно, что у меня есть основания настаивать на необходимости исследовать вопрос о сущности животной природы, ибо ученый, слова которого я здесь привел, не отрицает общепризнанного определения, даваемого обычно животным, но лишь считает его трудно приложимым; меня побуждает к этому и то, что приведенное определение до сих пор содержится во всех сочинениях и во всех руководствах по зоологии, кроме моих собственных.
Без сомнения, сохраняя подобное определение, созданное в период несовершенства знаний и опирающееся исключительно на {31} рассмотрение наиболее совершенных животных, очень трудно применить его теперь к огромному множеству существ, повседневно наблюдаемых нами, наконец, можно добавить, что оно вовсе не приложило к большинству изученных животных.
Причина этой трудности станет понятной, если я покажу, что неверно утверждение, будто все животные наделены способностью чувствовать и способностью произвольно двигаться. Тогда мы поймем, что это определение, повсюду даваемое животным, является ошибочным и что в свете современных знаний оно должно быть отвергнуто. Чтобы в этом убедиться, достаточно собрать и рассмотреть известные факты, которые будут приведены мною в настоящем труде.
Оставляя в стороне искусственные приемы в естественных науках, приемы, которые заключаются в установлении разграничений, применяемых для образования классов, отрядов, родов и видов, я имею полное основание утверждать, что в зоологии никогда не будет ничего ясного, ничего неоспоримого до тех пор, пока при описании животных по-прежнему будут пользоваться приведенным выше определением и не будут придавать никакого значения постоянным отношениям, существующим между системами специальных органов и способностями, порождаемыми этими системами, короче говоря — до тех пор, пока не признают некоторых основных принципов, без которых теория всегда будет носить произвольный характер.
Точно так же, до тех пор, пока положение вещей останется таким же, мы всегда будем наблюдать в зоологии все то, что имеет место в настоящее время, а именно, что те, кто разрабатывает вопросы зоологии или преподает ее, не смогут дать точный ответ на вопрос: что такое животное? Наконец, если все останется по-прежнему, вечно будет открыт широкий простор для самых странных гипотез, как, например, гипотезы о том, что некоторые органы как бы растворены в раздражимом и обладающем чувствительностью веществе тела животного, гипотезы, выдвинутой для объяснения того, почему эти органы не могут быть обнаружены у самых несовершенных животных в тех случаях, когда возникает необходимость предположить, что эти органы у них имеются и выполняют присущие им функции. {32}
Здесь я должен был бы обьяснить все эти положения, показать неприемлемость господствующих принципов и доказать, что в тех положениях, которыми мы хотим их заменить, речь идет отнюдь не о новых гипотезах, но о ясных и очевидных истинах, которые, если мы захотим исследовать их, не вызовут ни малейшего сомнения, ибо они вполне подтверждаются наблюдением.
Между тем необходимо прежде всего выдвинуть основные принципы для того, чтобы исключить всякий произвол в тех выводах, которые могут быть сделаны из изученных фактов.
Первый принцип. Всякий факт или явление, которые могут быть познаны наблюдением, является чисто физическим и обязан своим существованием или своим происхождением только телам или отношениям между телами.
Второй принцип. Всякое движение или изменение, всякая действующая сила и всякий результат действия, наблюдаемые в теле, неизбежно вызываются механическими причинами, управляемыми законами.
Третий принцип. Всякий факт или явление, наблюдаемые в живом теле, являются одновременно как физическим фактом или явлением, так и результатом организации.
Четвертый принцип. В природе не существует ни одного вида материи, которому, как таковому, была бы присуща способность жить. Всякое тело, которое обладает жизнью, обнаруживает в проявлениях как своей организации, так и тех последовательных движений, которые возбуждаются в его частях, физическое и органическое явление, составляющее жизнь* — явление, которое осуществляется и поддерживается в этом теле до тех пор, пока сохраняются необходимые для этого условия.
Пятый принцип. В природе не существует ни одного вида материи, которому была бы присуща способность иметь или образовывать {33} представления, оперировать ими, словом,— мыслить. Там, где подобные явления имеют место (а такого рода явления наблюдаются у наиболее совершенных животных), мы всегда находим особую систему органов, способную производить их, систему, развитие и целостность которой всегда соответствуют степени совершенства и состоянию упомянутых выше явлений.
Шестой принцип. В природе нет ни одного вида материи, которому, как таковому, была бы присуща способность чувствовать. Там, где эта способность наблюдается, только там можно обнаружить у живого тела, наделенного этой способностью, особую систему органов, могущую обусловить физическое, механическое и органическое явление, которое одно лишь и составляет ощущение.
К этим принципам7, против которых нельзя выдвинуть ни одного серьезного возражения и без которых зоология не имела бы прочной основы, я добавлю:
1. Всегда существует полное соответствие между состоянием органической способности — ее целостностью и наличием нарушений, а также степенью ее развития или совершенства, с одной стороны, и состоянием органа или системы органов, которые данную способность производят,— с другой.
2. Чем выше органическая способность, тем сложнее организация, к которой принадлежит система органов, порождающая эту способность.
Теперь, опираясь на эти принципы, очевидность которых всюду подтверждается наблюдением, я покажу, что ни способность мышления и суждения, ни способность иметь желания, испытывать ощущения не могут быть присущи всем животным, ибо эти способности не могут быть свойственны наиболее простым по своей организации животным, что я и намерен доказать.
Прежде всего я должен заметить, что способность, которая в той или иной степени составляет то, что принято называть умом, т. е. та способность, которая дает индивидууму возможность оперировать представлениями, сравнивать их, выносить суждения, иметь желания, что эта способность, повторяю, резко отличается от той способности, {34} которая составляет чувствование, будучи несравненно выше последней и совершенно от нее независимой.
И действительно, можно мыслить, судить, желать, не испытывая при этом никакого ощущения; известно также, что, когда весьма сложный орган, в котором осуществляются умственные акты, повреждается или претерпевает какие-нибудь изменения,— представления возникают в беспорядке, то частично, то полностью, в зависимости от характера повреждаемой части органа или от размера повреждения, и даже совершенно исчезают, если повреждение значительно, между тем как способность чувствовать остается незатронутой и не испытывает никакого изменения.
Кому не известно, что слабоумие, помешательство представляют собой результаты длительного повреждения того органа, в котором образуются представления и производятся операции над ними, н что бред является результатом повреждения того же органа, но более преходящего, так как причиной его является лихорадка или какое-нибудь менее длительное болезненное состояние. Известно, что во всех этих случаях, особенно при безумии, где это явление легче обнаружить, орган, обусловливающий чувствование, оказывается совершенно незатронутым, в полной мере сохраняет свои функции; ощущения возникают, как и в здоровом состоянии.
Следовательно, система органов, обусловливающая операции над представлениями, а также суждения и акты воли, отличается от системы, при посредстве которой образуются ощущения, ибо первая может претерпевать повреждения, изменяющие ее способности и в то же время не оказывающие никакого влияния на функции системы, от которой зависит образование ощущений.
Способность оперировать представлениями четко отграничена и даже совершенно независима от способности чувствовать, а наиболее совершенные животные явно обладают обеими этими способностями. Теперь мы докажем, что ни та, ни другая из этих способностей не может быть присуща всем без исключения животным.
Что касается способности совершать произвольные движения, приписываемой всем животным в тех определениях, которые принято {35} давать этим существам, то, принимая во внимание наблюдения, касающиеся актов воли, нетрудно убедиться в неправильности и даже невозможности предположения, что все животные могут выполнять подобные акты и что все они могут обладать достаточно сложной организацией и специальной системой органов, производящей стол» выдающуюся способность. И в самом деле, этой способностью могут обладать только наиболее совершенные из них.
Известно и признано, что воля представляет собой направляемое мыслью побуждение, которое наблюдается только в том случае, если существо, проявляющее желания, может и не иметь таковых; что это решение является результатом умственных актов, т. е. операций над представлениями, и что вообще акты воли возникают на основе сравнений, выбора, суждения и всегда в результате предварительного размышления. И вот, так как всякое предварительное обдумывание ест», использование представлений, оно предполагает не только способность приобретать эти последние, но, кроме того, способность пользоваться ими и выполнять умственные акты.
Такого рода способности не могут быть присущи всем животным, и так как способность выполнять умственные акты, без сомнения, является наиболее выдающейся из всех способностей, которыми природа могла наделить животных, то понятно, что немногие животные, обладающие этой способностью, должны иметь специальную, очень сложную систему органов, которую природа могла создать только у животных с наиболее сложной организацией. Можно даже утверждать, что природа пришла к созданию этой способности не сразу я как бы через ряд постепенных переходов, установив ее первоначально в едва различимой форме, и довела ее затем у наиболее совершенных животных до весьма высокого уровня.
Итак, поскольку всякий акт воли — не что иное, как побуждение, направляемое мыслью и являющееся следствием выбора и суждения, а всякое произвольное движение является результатом акта воли, т. е. преднамеренного решения, и следовательно,— умственного акта, нельзя утверждать, что все животные обладают способностью к произвольным движениям. В самом деле, это значило бы приписывать {36} всем вообще животным умственные способности, а это неверно, так как умственные способности не могут быть присущи животным любой организации. Это допущение противоречит фактам, относящимся к наиболее несовершенным животным; наконец,— это явное заблуждение, совершенно недопустимое при современном уровне знаний.
Но, несмотря на то, что наиболее совершенные из позвоночных животных больше других способны к произвольным действиям, т. е. действиям преднамеренным, поскольку они на самом деле обладают в той или иной мере умственными способностями, наблюдения подтверждают, что они редко упражняют эти способности: большая часть их действий обусловлена их внутренним чувством, возбужденным потребностями. Это внутреннее чувство заставляет их действовать сразу же и непосредственно, без предварительного обдумывания и без участия какого-либо акта воли с их стороны.
У меня нет подходящего термина для обозначения этого внутреннего действенного начала, которым обладают не только животные, наделенные умом, но и те, которым присуща только способность чувствовать, того действенного начала, которое, будучи возбуждено ощущаемой потребностью, заставляет индивидуума действовать сразу же, т. е. в тот самый момент, когда он испытывает эмоции; если даже этот индивидуум относится к числу тех, которые наделены умственными способностями, он все же при этих обстоятельствах производит действия прежде, чем какое-либо предварительное размышление, какие-либо операции над представлениями возбудят его волю.
Это факт совершенно неоспоримый, и достаточно лишь отметить его, чтобы признать: у животных, о которых я только что говорил, и даже у человека для немедленного выполнения действия достаточно одной эмоции внутреннего чувства; в этом действии ни в какой мере не участвуют мысль, суждение, иными словами — воля индивидуума. Известно, что эти эмоции могут быть вызваны любым воздействием или внезапно почувствованной потребностью. Это вполне реальный факт, и достаточно его заметить, чтобы понять.
Таким образом, при некоторых обстоятельствах мы сами подвластны этому внутреннему действенному началу, заставляющему {37} нас действовать без предварительного обдумывания. В самом деле, несмотря на то, что мы очень часто действуем, движимые ясно выраженной волей, очень часто также каждый из нас совершает множество поступков под влиянием внезапных внутренних воздействий, в которых не участвует мысль и, следовательно, какой-либо акт воли. Эта своеобразная сила, побуждающая нас выполнять действия без предварительных размышлений, под влиянием испытываемых эмоций, и является тем действенным началом, которое у животных назвали инстинктом.
Мы видели, что инстинкт присущ не только животным, ибо и мы тоже подвластны ему. Я добавлю еще, что инстинкт не является даже общим свойством всех животных, так как животные, совершенно лишенные способности чувствовать, не могут действовать под влиянием внутренних эмоций и обладать инстинктом.
Здесь не место приводить обоснование этих наблюдений; но абсолютно верно, и на это важно указать, что среди непосредственных причин как наших собственных поступков, так и действий животных, необходимо отличать те, которые выполняются в результате заранее обдуманного намерения, обусловливающего [акты] воли, от действий, выполняемых непосредственно под влиянием эмоций внутреннего чувства, и что даже следует отличать эти последние от тех действий, которые обязаны своим происхождением возбуждениям, полученным извне. Так как сущность всех этих непосредственных причин того или иного действия различна, то все животные не могут быть подвластны каждой из них, поскольку различия в их организации не допускают этого.
Таким образом, неверно, будто все вообще животные наделены способностью произвольного движения, т. е. способностью совершать действия под влиянием актов воли, ибо этим актам всегда должно предшествовать заранее обдуманное намерение.
Посмотрим теперь, действительно ли способность чувствовать присуща всем животным, т. е. является ли чувствование, которое считают отличительным признаком животных в определении, даваемом этим существам, как мы это встречаем во всех трудах и как это {38} повторяется всеми,— является ли оно на самом деле свойством, присущим всем им, или же оно представляет способность, которой обладают лишь некоторые из них, подобно способности произвольно приводить в движение части своего тела.
Нет ни одного физиолога, которому не было бы очень хорошо известно, что без влияния нервной системы не может иметь место чувствование. Это — обязательное условие, и даже известно, что те нервы, которые наделяют определенные части тела способностью чувствовать, будучи повреждены, тотчас же перестают обусловливать эту способность. Следовательно,— совершенно неоспорим факт, что способность чувствовать представляет собой явление органическое, что ни один вид материи сам по себе не обладает этой способностью. («Philosophie zoologique», ч. III, стр. 642), и что, наконец, чувствование может осуществляться только при посредстве нервов. Из этих истин следует, что никто не может привести возражений против утверждения, что животное, совершенно лишенное нервов, не способно чувствовать.
Я добавлю еще в качестве второго условия, что для осуществления явления чувства нервная система должна иметь достаточно сложное устройство. В самом деле, я могу доказать, что для того, чтобы животное могло чувствовать, еще недостаточно наличия у него нервов, но необходимо, чтобы его нервная система была настолько развита, чтобы у него могло возникнуть явление ощущения.
Таким образом, для того чтобы способность чувствовать была присуща всем животным, необходимо: чтобы нервная система, которая одна только может обусловить ее, имелась у всех животных без исключения; чтобы она была частью всех наблюдаемых среди них систем организации; чтобы повсюду у всех них она могла осуществлять свои функции и чтобы даже наиболее простые по всей организации животные обладали не только нервами, но, кроме того, нервным аппаратом, достаточно развитым для осуществления способности чувствовать, например,— нервной системой, состоящей по крайней мере из центра отношений [centre de rapports]8 со сходящимися в нем нервами, от которых зависит образование ощущений. Но природа {39} создала все это далеко не у всех известных нам животных, и возможность этого отнюдь не подтверждается наблюдением.
У самых простых и самых несовершенных растений природа установила только растительную жизнь; она не смогла видоизменить клеточную ткань этих тел и образовать в ней различного рода каналы.
Точно так же у самых несовершенных и самых простых по организации животных она установила только животную жизнь, т. е. порядок вещей, необходимый для ее существования. У обладающих ничтожной плотностью студенистых тел, которые оказались пригодными для этой цели, она не могла создать ни одного специального органа. Это совершенно очевидно, и изучение этих мельчайших животных подтверждает, что природа не могла поступить иначе.
Можно сколько угодно искать у монады, у вольвокса, у амебы9 нервы, сходящиеся в головном или продольном мозгу, наличие которых является необходимым условием для того, чтобы могло осуществляться явление чувства. Очень скоро мы убедимся в бесплодности я даже смехотворности подобных изысканий.
Природа мало-помалу усложняла организацию животных и постепенно увеличивала, как я это докажу в дальнейшем, число их способностей, по мере того как в них возникала необходимость; поэтому, поднимаясь по лестнице животных, можно определить, в какой именно точке этой лестницы впервые появляется способность чувствовать. Действительно, с момента появления этой способности у животных всегда можно найти весьма отчетливо выраженный нервный аппарат, ее обусловливающий; при этом почти всегда на наружной поверхности тела можно различить один или несколько специальных органов чувств.
Если вышеупомянутый нервный аппарат отсутствует, если нет ни центра отношений для нервов, ни головного, ни продольного, мозга, то у такого животного никогда не бывает отчетливо выраженных органов чувств. В этом случае стремление приписывать ему способность чувствовать, в то время как у него отсутствуют соответствующие органы,— явная химера. {40}
Мне, быть может, возразят, что мое утверждение, будто чувствование отсутствует там, где не удается обнаружить нервов и где животное действительно лишено их, является суждением, не опирающимся на опыт, ибо известно, что нередко природа умеет достигать одной и той же цели различными средствами.
На это я отвечу, что ошибочным суждением является само это возражение, ибо никто из тех, кто его выдвигает, не может доказать:
1) что способность чувствовать необходима животным, у которых совершенно отсутствуют нервы;
2) что там, где отсутствуют нервы, способность чувствовать все же может существовать.
Без сомнения, только исходя из суждения, не опирающегося на опыт, можно допустить подобные утверждения.
И вот я могу показать, что, если бы природа наделила способностью чувствовать животных столь несовершенных, как инфузории, полипы и т. д., то она тем самым сделала бы одновременно и бесполезное и опасное для них дело. В самом доле, эти животные никогда не испытывают надобности производить выбор того, чем они питаются, отыскивать пищу, двигаться по направлению к ней. Они всегда находят все это возле себя, поскольку воды, изобилующие этой пищей, непрерывно предоставляют ее в их распоряжение; поэтому ум — для того, чтобы судить и выбирать, и чувство — для того, чтобы познавать и различать, были бы для этих животных способностями излишними, которым они не могли бы найти никакого применения, а последняя способность (способность чувствовать), возможно, была бы вредной для этих столь хрупких существ10.
Во всем этом только то является истиной, что мнение о природе животных, как таковых, сложилось вначале на основании изучения организации наиболее совершенных из них, и сейчас этот утвердившийся взгляд на животных заставляет рассматривать, как беспочвенное умственное построение, всякую попытку его опровергнуть, даже если она опирается на факты и наблюдения законов природы.
Не имея надобности входить здесь в дальнейшие подробности, я полагаю, что мне удалось доказать ошибочность утверждения, что {41} все вообще животные наделены способностью чувствовать. Я показал, что это даже невозможно:
1) потому, что далеко не все животные обладают нервным аппаратом, необходимым для того, чтобы обусловить чувствование;
2) потому, что даже не все животные имеют нервы; между тем только нервы, заканчивающиеся в центре отношений, могут обусловить способность чувствовать;
3) потому, что способность испытывать ощущения необходима не для всех животных я что для более хрупких и несовершенных из этих существ она могла бы даже оказаться чрезвычайно вредной;
4) потому, что чувствование представляет собой органическое явление, а не особое свойство, присущее какому-либо виду материи, и потому, что это явление, как бы удивительно оно ни было, может быть произведено только системой органов, способной осуществить-ого;
5) наконец потому, что наблюдается, что нервная система, чрезвычайно сложная у млекопитающих и особенно у животных первых родов четвероруких, постепенно все более и более деградирует и упрощается по мере того как мы спускаемся по лестнице животных; что на протяжении этого пути она постепенно теряет многие из способностей, которыми наделяла животных, и полностью исчезает еще задолго до того, как мы достигнем нижнего конца лестницы.
Если все это — истины, подтверждаемые наблюдением, если не все животные обладают способностью чувствовать, совершать произвольные движения, то насколько ошибочной оказывается общепризнанная теория, допускающая определение животного, как существа, обладающего способностью чувствовать и способностью двигаться под влиянием актов воли!
Я не стану распространяться дальше на эту тему, но так как я должен внести много исправлений в те принципы, которые надлежит принять в зоологии, и так как мне предстоит дополнить основные положения, которые, по своей очевидной связи с ними, могут доказать обоснованность этих принципов, я разобью настоящее «Введение» на семь главных частей. {42}
В первой части я рассмотрю существенные признаки животных, сравнивая их с признаками прочих природных тел, доступных изучению, и дам точное определение этих своеобразных существ.
Во второй части я покажу существование возрастающего усложнения организации различных животных и обусловленного этим увеличения числа способностей и их совершенства. Этот факт, установленный путем наблюдения, будет иметь решающее значение для предлагаемой мною теории.
В третьей части я приведу обзор средств, которыми пользуется природа для утверждения животной жизни в теле, в котором она до этого не существовала, чтобы затем постепенно усложнять организацию животных и образовывать у них различные специальные органы, все более и более сложные и наделяющие их соответствующими способностями.
В четвертой части все способности, наблюдаемые у животных, будут рассмотрены как явления чисто органические и мною будут представлены доказательства этого.
В пятой части я рассмотрю источник склонностей и страстей, как у животных, обладающих способностью чувствовать, так и у самого человека, и покажу, что этот источник является подлинным результатом внутреннего чувства и, следовательно, организации.
В шестой части необходимость выяснить связь основных причин заставляет меня подвергнуть рассмотрению понятие о природе, т. е. о том, до некоторой степени механическом действенном начале, которое обусловило существование различного рода животных и сделало их такими, какие они есть. Я попытаюсь уточнить представления, которые мы должны связывать с этим столь широко употребляемым, но, столь расплывчатым по своему значению словом.
Наконец, в седьмой и последней части я приведу общее распределение животных, его подразделения и принципы, на которых оно должно быть основано; тогда место, принадлежащее различным беспозвоночным животным и взаимоотношения этих существ с другими известными нам телами нашей планеты, будут ясно установлены.
| {43} |

До сих пор я пытался доказать, что общие принципы изучения животных были весьма несовершенными и представляли ценность только в отношении устанавливаемых нами классификаций, разграничения видов и т. д.
И действительно, я показал, что эти принципы совершенно не предусматривают средств, которые обеспечивали бы точное знание того, чем в сущности являются животные, чем они обязаны природе и что в них обусловлено обстоятельствами, а также знание источника и границ их способностей. Таким образом, в результате ограниченности принципов наших исследований в области зоологии мы даже в настоящее время еще не в состоянии связывать со словом животное ясных, правильных и точных представлений.
Чтобы получить определенное понятие о том, что в действительности представляют собой животные, а также о признаках, присущих исключительно им одним, и чтобы установить правильное определение, которое следует давать этим существам, мне казалось необходимым еще раз сравнить их с телами нашей планеты, не наделенными жизнью, и затем с живыми телами, не относящимися к царству животных. Это сравнение позволит нам установить точные границы, отделяющие эти различные существа друг от друга.
Многим те новые определения первичных групп, установленных среди созданий природы, которые я намерен здесь привести, покажутся излишними, ибо они сочтут, что общепринятые деления вполне {44} удовлетворительны, достаточно разработаны и не нуждаются в каких-либо исправлениях. Но я буду иметь возможность показать всю неточность, которую прежние первичные подразделения не могли устранить, если укажу на явные заблуждения, обусловленные ими даже в наше время.
Таким образом, подвергнув пересмотру самые основы всей системы принятых нами подразделений природных тел, я сначала рассмотрю, что представляют собой в сущности тела, не способные жить; я исследую затем то, чем фактически являются тела, наделенные жизнью, и каковы те условия, которые необходимы для существования и сохранения у них способности жить. Далее, переходя к исследованию растений в целом, я покажу, что эти живые тела обладают особыми признаками, настолько отличающими их от животных, что ни в одной точке своего ряда они не сливаются с последними. Наконец, уделяя внимание только наиболее существенным соображениям, которые могут обосновать эти первичные разграничения, не вдаваясь ни в какие частности, я, ради скорейшего достижения цели, закончу изложение том, что приведу существенные и отличительные признаки животных, то признаки, которые не оставляют места ни для неопределенности, ни для каких-либо исключений. Тогда определение каждого из этих трех родов тел будет простым, ясным и точным.
Для выполнения этой задачи я разделю настоящую первую часть на четыре отдельные главы и начну с той, которая имеет своей целью дать точное определение существенных признаков тел, не способных обладать жизнью.
| {45} |

Прежде чем исследовать, что представляют собой на самом деле и животные и растения, необходимо знать, что, с своей стороны, представляют собой тела, которые не могут обладать жизнью, и уточнить наши представления о происхождении, состоянии и природе этих тел, не способных жить. Тогда, сравнивая их с теми телами, в которых существует явление жизни, нам удастся обнаружить признаки,— если такие признаки вообще имеются,— определяющие границу, которая разделяет эти два рода тел.
В мои намерения, разумеется, не входит рассматривать здесь какие-либо неорганические тела в отдельности или вдаваться в мельчайшие подробности сильно продвинувшегося вперед изучения этих тел, но, поскольку мы должны стремиться создать правильное и ясное понятие о животном и пытаться всесторонне изучить это существо и поскольку животное несомненно является телом живым, то Для нас важно прежде всего знать, чем отличаются тела, не способные обладать жизнью, от тех тел, в которых жизнь существует или может существовать. {46}
Итак, окинем беглым взором эти не способные жить тела, являющиеся, однако, источником различных веществ для тех тел, которые одарены жизнью, и точно установим подлинную границу, отделяющую их от живых тел. Существование этой границы признано, однако, она не настолько твердо определена, чтобы пресечь многократные даже в наше время попытки нарушить ее, приписывая жизнь телам, в которых ее существование невозможно*.
Внимательно изучая все то, что мы можем наблюдать вне нас, все, что может воздействовать на наши чувства и достигнуть нашего сознания, мы видим, что среди этого множества различных тел, о которых здесь идет речь, некоторые представляют ту особенность, что они не связаны между собой по происхождению; что продолжительность их существования, их объем или размеры совершенно не поддаются определению; что у них нет никакой потребности к сохранению существования и что последнее могло бы быть беспредельным, если бы в результате движения, распространенного повсюду в природе, и воздействия одних из этих тел на другие в соответствия с различными условиями их положения, состояния и сродства они не были бы в большей или меньшей мере подвержены всякого рода изменениям. Мы видим, наконец, что несмотря на гораздо меньше» число видов, чем у живых тел, именно эти тела, они одни составляют главную массу обитаемого нами земного шара. И вот именно эти тела: и твердые, и жидкие, и упругие, или газообразные, мы называем неорганическими телами; и мы увидим, что ни в одном из них не может осуществляться явление жизни.
Во избежание всякой неясности и всякого произвольного суждения в отношении этих тел определим в первую очередь их существенные признаки. {47}
Неорганические тела, независимо от их природы, состава и размеров, существенно отличаются от тел, обладающих жизнью, следующими особенностями:
1. Видовая индивидуальность присуща только составной молекуле [molecule integrante], определяющей их особый вид; массы и объемы, которые эти молекулы могут образовывать путем их соединения или скопления, не ограничены постоянными пределами, а их изменения не влекут за собой никаких изменений вида12.
2. Не существует одинакового для всех их способа происхождения: одни образуются путем наложения (аппозиции) последовательно отлагающихся снаружи частиц, другие — путем частичного разложения или изменения определенных тел или же путем тех или иных сочетаний различных видов материи, находящихся в соприкосновении между собой.
3. У них совершенно отсутствует клеточная ткань, являющаяся основой внутренней организации; им присуща только структура, некое состояние скопления, или соединения молекул13.
4. У них совершенно отсутствуют какие бы то ни было потребности, удовлетворение которых связано с их самосохранением.
5. Они совершенно лишены способностей и имеют только свойства.
6. Они не имеют определенного предела продолжительности существования индивидуумов: как начало, так и конец последнего неопределенны и зависят от непредвиденных или случайных обстоятельств.
7. Им не свойственно какое-либо развитие, они не способны сами образовывать собственное вещество; движения, происходящие в частях [тела] некоторых из них, зависят от случайных причин, но никогда не являются результатом возбуждения.
8. Наконец, они вовсе не испытывают неизбежных потерь и не способны самостоятельно восстанавливать нарушения, которые могут быть вызваны в них случайными причинами; их состояние не {48} подвержено постепенным и последовательным изменениям, их внешний вид не позволяет обнаружить каких-либо признаков молодости или старости; наконец, не обладая жизнью, они не подвержены и смерти.
Таковы существенные признаки неорганических тел14, тех тел, природа и видовая индивидуальность которых выражаются исключительно в образующих их составных молекулах; ни одна индивидуальная составная молекула не может обладать жизнью, потому что невозможно допустить, чтобы составная молекула могла обнаружить явление жизни, не будучи сама в это же мгновение разрушена. Добавим еще, что некоторые из этих тел в результате соединения своих молекул образуют иногда различные массы, в которых может существовать жизнь; однако это происходит лишь в том случае, когда тела превращаются в тела организованные и когда в них устанавливается порядок и состояние вещей, допускающие жизненные движения и те изменения, которые они вызывают.
В самом деле, так как жизнь в теле проявляется, как я это попытаюсь доказать, в последовательной смене движений, которые влекут за собой ряд вынужденных изменений в этом теле, природа не могла бы установить ее [жизнь] в какой-либо составной молекуле, не разрушив при этом состояние, форму и свойства этой молекулы. Разве не известно, что основное свойство всякой составной молекулы заключается в том, что она способна сохранять свою природу и свои свойства только до тех пор, пока сохраняет форму, плотность и состояние? Только это постоянство формы у каждого вида положен но в основу принципов кристаллографии, которые Гаюи15 имел счастье открыть и которые были столь удачно разработаны им.
Таким образом, жизнь не могла бы существовать в составной молекуле, какова бы ни была эта молекула; тем не менее, всякое неорганическое тело обладает видовой индивидуальностью только в составной молекуле. Жизнь не могла бы существовать и в массе объединенных составных молекул, если бы эта масса не приобрела организацию, наделяющую их индивидуальностью, иными словами, если их внутреннее строение не приобрело бы того порядка и состояния {49} вещей, которые делают возможным выполнение в них жизненных Движений.
Вот неоспоримые, основанные на фактах истины, которые необходимо было установить и которые подтверждают существование значительного разрыва между телами неорганическими и телами живыми.
Как мы увидим в дальнейшем, природа может внести жизнь только в массу, состоящую из совокупности различных составных молекул, образующих определенное тело, но никогда — не в составную молекулу, как таковую. Однако она способна выполнить это, только если ей удается установить в этом теле состояние и порядок вещей, необходимые для того, чтобы ев нем могло происходить явление жизни. И вот это состояние и этот порядок вещей, необходимые для возникновения жизни, обусловливают одновременно и организацию данного тела и его видовую индивидуальность. Отсюда следует, что в тот самый момент, когда части живого тела утрачивают состояние вещей, обеспечивавшее существование в нем явления жизни, и в результате этого оно делается неспособным осуществлять его в дальнейшем, оно тотчас теряет свою видовую индивидуальность и переходит в категорию неорганических тел, хотя в нем еще можно обнаружить явные следы организации, которой оно обладало и которая постепенно уничтожается, так же как и само вещество этого тела.
Следы организации, наблюдаемые в теле, обладавшем жизнью, но в котором жизнь больше не существует, не оставляют никаких сомнений относительно того, к какому царству это тело принадлежит теперь.
Все тела, называемые неорганическими и образующие царство, столь отличное от царства живых тел, характеризуются не только единственным признаком — отсутствием какой-либо организации, но отличительной особенностью их является такое состояние частей, которое делает невозможным проявление в них жизни.
Эти признаки, при сопоставлении их с признаками живых тел, свидетельствуют о наличии до некоторой степени огромного разрыва [hiatus] между этими двумя родами тел. Разрыв этот обусловлен тем, {50} что жизнь не может существовать у одних, тогда как у других она возможна и почти всегда энергично проявляется. Эти два рода тел при сравнении их между собой обнаруживают такие большие различия во всем, чем они характеризуются, что невозможно найти ни одного разумного довода, который позволил бы предположить, что природа могла объединить их где-нибудь, т. е. перейти от одних к другим через ряд последовательных форм.
Неорганические тела вследствие их взаимного притяжения и скопления, обусловленных всемирным тяготением, составляют — именно они одни — главную массу обитаемой нами планеты. Несмотря на меньшее по сравнению с живыми телами разнообразие их видов, как раз эти тела, благодаря громадным объемам и образуемым ими большим массам, заполняют почти целиком место, занимаемое в пространстве земным шаром.
Однако массы и объемы этих тел не остаются всегда неизменными, ибо преимущественно те из них, которые находятся на поверхности Земли, беспрерывно подвергаются действию господствующих здесь сил, обладающих способностью проникать в тела и разъединять их частицы; в результате действия этих сил поверхностные частицы неорганических тел отрываются от остальной их массы, а дождевые воды уносят их в новые места, где они постепенно осаждаются; наконец, те частицы, которые перешли в состояние свободных составных молекул, соединяются в одно целое, слагаются в новые тела, или же, присоединяясь к существующим уже телам, способствуют увеличению объема последних.
Если к действию сил, обладающих способностью к отталкиванию и проникновению в другие тела, т. е. тех сил, которые могут только разъединять частицы тел, способные отделяться вследствие условий, в которых они находятся, присоединить действие изменяющих или химических сил, которому также могут подвергнуться эти же тела, и, наконец, действие сродства, управляющего всеми проявлениями этих сил, то мы получим три фактора огромного значения, обусловливающих все наблюдаемые изменения природы, объема и массы неорганических тел. {51}
В мою задачу отнюдь не входит описание особых свойств тех или иных известных нам неорганических тел, однако необходимо привлечь внимание к некоторым из них, поскольку эти тела играют большую роль в явлениях жизни и поскольку без них эти явления не могли бы происходить. Необходимость эта, повторяю, заставляет дать здесь краткий общий обзор тел, не способных жить, подразделив их для большей ясности на тела твердые или плотные и на флюиды16.
Твердые неорганические тела представляют собой вещества различного рода, чаще всего сложные, образующие более или менее твердые, более или менее плотные массы различного размера. Эти массы образуются в результате скопления как однородных, так и разнородных составных молекул, обладающих то более, то менее значительным сцеплением между собой. Каждому известно:
что эти тела, чаще всего каменистые, представлены различными землями, которые встречаются: одни в чистом виде, другие в смеси с другими веществами, одни содержат кислоты, другие вовсе не содержат их;
что, помимо того, в этих твердых массах всевозможной величины, различным образом нагроможденных друг на друга, содержатся: кислоты и щелочи, почти всегда соединенные с каким-нибудь твердым веществом; различные металлы, как самородные, так и в виде окислов; горючие вещества в твердом состоянии, то в чистом виде, то в виде смесей или соединений; наконец, соединения различного рода, большей частью в виде горных пород древней или новой формации, а также каменистые вещества, измененные огнем вулканов. Изучение всех этих тел составляет предмет особой науки, получившей название минералогии; считают, что в основном именно эти тела образуют минеральное царство. Все они представляют интерес для исследователя, изучающего явления жизни лишь постольку, поскольку они доставляют часть веществ, образующих живые тела.
Неорганические тела — флюиды [corps inorganiques fluides]. Это — вещества, составные молекулы которых, независимо от их природы, совершенно не сцеплены между собой или же это сцепление настолько слабо, что оно не может удержать их в обычном положении, когда {52} сила тяготения вызывает их перемещение. В этом состоянии молекулы этих тел удерживаются благодаря некоторой определенной причине.
Эти неорганические тела также должны были бы составлять часть того царства, о котором я упоминал, так как известно, что с прекращением действия той силы, которая удерживает их в состоянии флюидов, почти все они образовали бы твердые, или плотные тела.
Мы получим об этих флюидах необходимое общее представление, если примем во внимание следующее:
1. Одни из них являются жидкими флюидами [fluides liquides]. более или менее сжимаемыми и в массе всегда хорошо видимыми. К числу их относятся те, которые входят в состав различных твердых тел и могут быть выделены из последних, но главным из этих жидких флюидов является столь широко распространенная на земном шаре soda в ее обычном состоянии.
2. Другие представляют собой упругие газообразные флюиды [fluides élastiques], большей частью совершенно невидимые, и вот именно среди них необходимо установить разграничения, ибо существует два особых рода их, рассмотреть которые чрезвычайно важно вследствие их влияния на множество явлений, непонятных, если не принимать во внимание этого влияния. Итак, среди этих флюидов необходимо различать:
1) флюиды упругие сжимаемые [fluides elastiques coercibles], поддающиеся взвешиванию, могущие быть содержимым (contenables);
2) флюиды тонкие [fluides subtils], не способные быть содержимым [incontenables], по-видимому, несжимаемые, обладающие способностью проникать [в другие тела] и не поддающиеся взвешиванию.
Упругие сжимаемые флюиды, способные быть содержимым и поддающиеся взвешиванию. Это те флюиды, определенное количество которых может быть собрано и сохранено в закрытых сосудах, что позволяет исследовать и хорошо изучить их, производя над ними эксперименты.
Атмосферный воздух и различные газы, с которыми нас познакомили химики, относятся к этой группе флюидов. {55}
Флюиды тонкие, не способные быть содержимым, обладающие большой способностью проникать [в другие тела] и не поддающиеся взвешиванию. Это те флюиды, которые совершенно не могут быть собраны в закрытых сосудах и которые лишь с большим трудом и лишь отчасти поддаются нашим экспериментам. Эти флюиды изучены нами весьма несовершенно, тем не менее, в их существовании нас убеждают наблюдения.
Именно эти тонкие флюиды особенно важно рассмотреть здесь, так как они и производят на нашей планете наиболее замечательные, наиболее интересные и вместе с тем наименее изученные явления. Это те флюиды, которые, благодаря их непрерывно возобновляющемуся действию, служат причиной-возбудителем жизненных движений у всех тех организованных тел, у которых эти движения могут выполняться: одним словом, это те флюиды, изучением которых не должен пренебрегать биолог, если он хочет понять явление жизни и постигнуть причину всех тех явлений, которые жизнь может последовательно вызывать у животных, все более и более усложняя их организацию.
Достаточно известно, что этими необыкновенно тонкими, чрезвычайно своеобразными флюидами, не могущими быть содержимым и обладающими необычайно большой способностью к проникновению в другие тела, являются теплород, электричество, магнитный флюид и т. д. К числу их, возможно, следует также отнести свет, ввиду того большого влияния, которое он оказывает на состояние и сохранение живых тел*.
Эти тонкие флюиды заполняют повсюду, хотя и неравномерно, всю массу земного шара ж его атмосферу. Большая часть их проникает, распространяется и непрерывно движется то в промежутках {54} между телами, то в мельчайших пустотах внутри самих тел; изучение этих флюидов чрезвычайно важно, поскольку известно, что без них, или по крайней мере без некоторых из них, явление жизни не могло бы происходить ни в одном теле.
Один из этих флюидов — теплород, помимо движений, связанных с его перемещением, обладает способностью постоянно, то более, то менее интенсивно,— в зависимости от степени его сжатия,— разъединять или раздвигать соединенные частицы тел.
Даже электричество всякий раз оказывается в таком состоянии, когда массы этой материи под влиянием какой-либо причины подвергаются мгновенному сжатию.
Я указал выше, что упомянутые тонкие флюиды, обладающие способностью легко проникать в другие тела, находятся в непрерывном движении в различных частях земного шара, во всех составных частях его массы, в промежутках между телами и даже внутри самих тел, в мельчайших пустотах этих последних. Из приведенной истины, подтверждаемой фактами, известными относительно этих флюидов, следует, что именно они находятся в состоянии постоянной активности и оказывают реальное влияние на большую часть наблюдаемых нами явлений.
Для доказательства того, что рассматриваемые тонкие флюиды постоянно находятся в движении на нашей планете, нет никакой необходимости приписывать каждому из них какое-либо собственное движение. Достаточно предположить, что, вследствие их крайней подвижности и значительной способности к сгущению, они больше, чем другие тела, вынуждены участвовать в движении, повсюду распространенном и поддерживаемом во всей природе17.
Таким образом, не входя в рассмотрение причин суточного вращения Земли вокруг своей оси и ее годичного обращения вокруг Солнца, мы отметим лишь, что эти два непрерывных движения Земли неизбежно влекут за собой движение рассматриваемых тонких флюидов, вызывают их постоянные перемещения и беспрестанно приводят их в состояние своего рода волнения [agitation] и мгновенного и разнообразного сгущения. {55}
В самом деле, если подумать о непрерывном чередовании света и тьмы, поддерживаемом в различных точках земной поверхности сменой дня и ночи, о переменах, почти непрерывно происходящих в атмосфере Земли под влиянием смены времен года, ветров и т. д., нам станет понятным, что все эти причины должны вызывать местные и постоянно возобновляющиеся изменения как температуры и плотности атмосферного воздуха, степени сухости или влажности различных его слоев, так и количества электричества, распространяющегося и скопляющегося в тех или иных частях атмосферы или, в зависимости от обстоятельств, выделяющегося из нее.
Правильно будет сказать, что в любой точке земного шара, куда могут проникнуть свет, теплород, электричество и т. д., эти флюиды никогда не остаются одинаковыми в продолжение двух мгновений подряд, ни в отношении своего количества, ни в отношении своего состояния или интенсивности своего действия.
Следовательно, понятно, что тонкие, несжимаемые, способные проникать в другие тела флюиды, о которых идет речь, являются неиссякаемым источником разнообразных явлений и что в них одних заключается своеобразная сила, возбуждающая жизненные движения в тех телах, где эти движения возможны.
Составив себе ясное представление о существенных признаках как твердых неорганических тел, так и флюидов, перейдем теперь к изучению признаков живых тел.
| {56} |

От большей или меньшей правильности представления, которое мы себе составим о живых телах вообще, будет зависеть большая или меньшая обоснованность и наших знаний о явлениях жизни и наших физиологических теорий, относящихся как к растениям, так и к животным.
Поэтому мы должны внести наибольшую продуманность в те выводы, которые можно извлечь из фактов, касающихся этого предмета, и вспомнить о том, что именно здесь следует избегать обычного риска — делать заключения об общем на основании частного.
Без сомнения, чрезвычайно опасно пытаться установить непосредственно с помощью нашего воображения, что представляют собой живые тела, что представляет собой сама жизнь, которой они обладают и которая отличает их от тел, ею не наделенных! Но я уже давно понял и показал более надежный путь для достижения той же цели, более предохраняющий от возможности впасть в ошибку. Этот путь заключается в том, чтобы на основании наблюдений установить условия, необходимые для существования живых тел, а затем и самой жизни18.
Определение этих условий не требует никаких особых умозаключений с нашей стороны, необходимо только полное и неоспоримое обоснование приводимых фактов. Наконец, эти же условия, освещая {57} природу рассматриваемых тел, приобретают характер отличительных и достоверных их признаков.
Прежде чем точно установить эти признаки, и, следовательно, условия, необходимые для существования живых тел, примем во внимание следующие соображения.
По мере того как мы стали направлять наше внимание на все то, что находится вне нас, на все то, что нас окружает, и в особенности на предметы, доступные нашему наблюдению, мы научились различать и исследовать, помимо неорганических и неживых тел, составляющих почти всю массу земного шара, также множество своеобразных тел иного порядка, которые, несмотря на имеющиеся между ними различия, обладают общей им всем и в то же время им одним присущей формой существования [maniere d'etre].
В самом деле, всем этим телам присущ один и тот же способ происхождения, существует известный предел продолжительности их существования; все они имеют потребности, удовлетворение которых необходимо для самосохранения, и все они существуют лишь благодаря особому внутреннему явлению, называемому жизнью, и той организации, которая позволяет этому явлению осуществляться.
Вот те немногие реальные факты, составляющие необходимые условия существования этих тел. Есть еще много других условий, которые я приведу ниже; и тогда станет понятным, что единственное верное представление, которое мы можем создать себе об этих телах, может быть получено только на основании совокупности всех этих условий.
Изложив в моей «Philosophie zoologique» (Ч. II, стр. 467) условия, необходимые для существования жизни, я намерен заняться здесь только теми телами, в которых происходит или может происходить явление жизни.
Этим своеобразным и поистине чудесным телам, о которых и только что говорил, было дано название живых тел, а жизнь, которой они обладают, и те способности, которые ею обусловлены, существенным образом отличают их от других тел природы. Эти тела, а также различные явления, которые они обнаруживают, составляют {58} содержание особой науки, еще пока не созданной, не имеющей даже названия, науки, некоторые основы которой я предложил в моей «Philosophie zoologique» и которую я назову «биологией»19.
Разумеется, все то, что вообще свойственно как растениям, так и животным, а также все без исключения способности, присущие каждому из этих существ, все это должно составить единую и обширную область биологии, ибо оба рода существ, о которых я упоминал, несомненно являются живыми телами и единственными существами этого рода, обитающими на нашей планете.
Следовательно, все положения, относящиеся к области биологии, совершенно не зависят от различий, которые растения и животные обнаруживают в отношении природы, от состояния, а также от способностей, присущих только некоторым из них.
Способности, общие всем вообще живым существам, притом исключительно им одним, таковы:
1. Обнаруживать явления жизни.
2. Питаться посторонними веществами, которые они превращают в вещества собственного тела.
3. Самим образовывать вещества, из которых состоит их тело, а также те вещества, которые выделяются из тела путем секреции.
4. Развиваться и расти до определенного для каждого из них предела.
5. Размножаться, т. е. производить другие, во всем подобные себе тела и т. д.
Все эти способности представляются нам замечательными и кажутся даже чудесными лишь потому, что мы, в сущности, не изучали средства природы и тот неизменный путь, которому она следует, пользуясь этими средствами, а также потому, что мы не исследовали влияния обстоятельств и всех тех изменений, которые эти обстоятельства вносят в результаты действий природы.
Вследствие недостаточного изучения и исследования того, что действительно существует, наблюдаемые факты, касающиеся живых тел, представляются нам непостижимыми и чудесными, и мы начинаем верить, что можем восполнить отсутствующие наблюдения над {59} средствами и путями природы, прибегая при помощи воображения к построению гипотез; от них пришлось бы тотчас же отказаться, если бы законы, которым природа следует в своих действиях, были нам лучше известны.
Не утверждают ли, в самом деле, что удобрения доставляют растениям, кроме влажности, особые вещества для их питания, между тем как на самом деле вещества, употребляемые в качестве удобрений и больше других пригодные для сохранения влажности (свободной воды), служат только для поддержания вокруг корней растений влажности, благоприятствующей их произрастанию? И если одни виды удобрений оказываются для некоторых разновидностей полезнее, чем другие, то не объясняется ли это тем, что они сохраняют степень влажности, наиболее соответствующую потребностям данного растения? Наконец, если частицы известных веществ, увлекаемые водой, которую всасывают корни, придают этих растениям особые свойства, то противоречит ли этот факт утверждению, что эти вещества являются действительно посторонними для данных растений и что они совершенно не нужны для их произрастания?20
Я ограничусь приведением лишь одного примера ошибочных выводов, сделанных из наблюдений над живыми телами, так как дальнейшие примеры вывели бы меня за пределы моей темы.
Скажу лишь, что, не учитывая тех границ, которые природа не могла переступить, многие допускают ошибку, полагая, что существует цепь из последовательных звеньев, якобы связывающих между собой различные созданные природой тела. Из этого взгляда должно было бы вытекать, что неорганические тела где-нибудь должны были бы образовывать переход к телам живым, а именно — к наиболее простым по организации растениям, и что сами растения, занимая промежуточное положение между двумя другими царствами, должны были бы сливаться в какой-нибудь точке с рядом, образуемым животными.
Только воображение могло породить подобную идею, имеющую, надо заметить, весьма древнее происхождение, по снова выдвигаемую в различных современных сочинениях. Но я докажу, что нет {60} подлинной цепи, которая связывала бы между собой все создания природы, что такая цепь может существовать только в некоторых ответвлениях образуемых ими рядов и что она может быть обнаружена только в некоторых общих отношениях.
Чтобы избежать излишних рассуждений и дискуссий и показать условия, необходимые для существования живых тел, я рассмотрю здесь истинные признаки последних. Они дадут нам представление о действительном и очень значительном различии между телами неорганическими и телами, наделенными жизнью. Далее я приведу один совершенно очевидный разграничительный признак, отличающий растения от животных, так что можно будет убедиться в том, что эти три ветви созданий природы действительно обособлены и не связаны между собой никакими постепенными переходами.
Мы уже познакомились с признаками неорганических тел; к ним следует еще добавить признаки тех тел, которые, сохраняя еще следы своей организации, утратили способность обладать жизнью. Теперь, чтобы завершить наше сравнение, рассмотрим общие признаки, характеризующие живые тела и обусловливающие существование значительного разрыва между ними и телами неорганическими.
Всем живым телам, вследствие доступных определению физических причин, присущи:
1. Видовая индивидуальность, выражающаяся в характере сочетания, в расположении и состоянии различных составных молекул. из которых слагается тело, но никогда [в свойствах] ни одной из этих молекул, рассматриваемых в отдельности*. {61}
2. Тело, составленное из двоякого рода существенных частей, а именно: плотных частей, из которых все или почти все способны содержать [флюиды], и из свободных флюидов, содержащихся в этих частях. Первые обыкновенно состоят из податливой клеточной ткани, способной претерпевать различного рода изменения под влиянием движения содержащихся в них флюидов и служащей для образования различных специальных органов.
3. Внутренние, так называемые жизненные движения, вызываемые только возбуждающими или стимулирующими их причинами, движения, которые могут быть ускорены, замедлены или даже остановлены, но (необходимы для развития этих тел.
4. Порядок и состояние вещей, которые, до тех пор пока они сохраняются в частях тела, делают возможными жизненные движения; выполнение последних и составляет явление жизни*; эти движения и вызывают в теле ряд вынужденных изменений.
5. Потери и восстановления, полностью, однако, не уравновешивающие друг друга, в результате чего во всяком наделенном жизнью теле происходит последовательный ряд изменений его состояния, а это влечет за собой для каждого индивидуума переход от молодости к старости и в дальнейшем его разрушение в тот момент, когда явление жизни не может больше осуществляться. {62}
6. Потребности, удовлетворение которых необходимо для самосохранения живых тел и которые заставляют их усваивать служащие им для питания посторонние вещества, изменяемые или превращаемые в вещество собственного тела.
7. Развитие, которому подлежат в течение известного времени все части их тела, развитие, выражающееся в их росте, который продолжается до определенного для каждого из них предела; оно же обусловливает различия во внешнем облике, объеме и общем состоянии тела, только что образовавшегося, и того же тела, достигшего полного развития.
8. Один и тот же способ происхождения*, ибо все живые тела происходят одни от других, при этом не путем последовательного развития из предсуществующих зародышей, но в результате обособления и последующего отделения некоторой части их тела или доли их вещества, которая, будучи подготовлена в соответствии с системой организации индивидуума, определяет тот способ воспроизведения, который мы у него наблюдаем21.
9. Способности. Одни, присущие всем им и свойственные только живым телам, и, помимо того,— другие, присущие лишь некоторым из них.
10. Наконец, известный предел продолжительности существования индивидуумов. Само существование жизни влечет за собой изменение частей, которое, достигнув известной точки, препятствует дальнейшему осуществлению явлений, составляющих эту жизнь. И вот тогда достаточно малейшей причины, вызывающей нарушения, чтобы остановить жизненные движения. Этот момент их прекращения без возможности возобновления называют смертью индивидуума22.
Вот десять существенных признаков живых тел, признаков, общих для всех их. Ничего похожего мы не встречаем у неорганических {63} тел. Следовательно, те и другие совершенно различны по своей природе23.
Если сопоставить признаки, отличающие живые тела, с признаками тех тел, которые не могут обладать жизнью, легко видеть огромную разницу, существующую между этими двумя родами тел, и становится ясно, вопреки всему, что об этом говорят, что между теми и другими телами не существует никаких промежуточных форм, никаких переходов, которые бы их сближали и позволили бы их объединить. Но несмотря на это и те и другие, действительно, являются созданиями природы; все они не что иное, как результат средств, которыми она располагает, движений, распространенных в ее частях, законов, управляющих всеми видами этих движений, наконец — большего или меньшего сродства между различными видами материи, которыми она пользуется для своих действий.
Хотя здесь нас больше всего интересуют живые тела, поскольку объекты, которыми мы должны заниматься, относятся к их числу, я не стану вдаваться в рассмотрение ни одного из приведенных присущих им признаков. Я напомню только некоторые важные положения, вытекающие из этих признаков, которые необходимо иметь в виду, а именно, что:
1. Все живые тела, для того чтобы жить, т. е. для того чтобы у них могли осуществляться их жизненные движения, нуждаются не только в сохранении в их частях такого состояния и порядка вещей, при которых возможны их жизненные движения, но, помимо того, и в действии стимулирующей причины, способной возбуждать эти движения.
2. Их тело состоит главным образом из клеточной ткани, являющейся в некотором роде той основой [gangue], в которой содержащиеся в этих телах и приведенные в движение флюиды образуют различные органы, по мере того как их движения ускоряются, становятся более разнообразными и начинают осуществляться в различных частях тела.
3. Все они сами образуют вещество собственного тела при помощи посторонних веществ, которые они захватывают или поглощают, {64} затем перерабатывают, ассимилируют и усваивают, увеличивая, по возможности, части своего тела и восстанавливая более или менее полно свои потери. В этом и заключаются основные их потребности.
4. Все части их тела и особенно их собственные флюиды находятся в состоянии постоянного изменения, медленного или быстрого; молекулы, из которых состоят эти тела, усложняются до тех пор, пока они не достигнут состояния, в котором могут быть использованы; в дальнейшем они разрушаются, восстанавливаются путем последовательных замещений за счет питания, поглощения и благодаря влиянию кислорода и процессов жизнедеятельности. Таким образом, изменения, которые претерпевают составные молекулы различных частей тела, приводят к тому, что их плотные части непрерывно, хотя и незаметно, восстанавливаются, а в их основном флюиде появляются элементы, пригодные для образования различных особых веществ, из которых полезные выделяются и используются телом, между тем как другие — бесполезные — выводятся наружу в виде различных выделений.
5. Развитие и рост всех их продолжаются до определенного для каждого из них предела и происходит исключительно путем интусусцепции [внедрения], т. е. благодаря действию внутренней силы или процессам жизнедеятельности, образующим и развивающим все части их тела изнутри, уподобляя введенные и ассимилированные посторонние частицы веществу собственного тола и в дальнейшем закрепляя их.
6. Все они, обладая способностью воспроизводить, хотя и различными способами, индивидуумов, подобных им самим, передают этим новым особям все изменения, происшедшие в их системе организации в продолжение их жизни.
7. Жизнь, которой каждое живое тело обладает, не является ни какой-либо особой сущностью, ни телом или какой-либо материей; она отнюдь не является совокупностью функций*, но представляет {65} собой физическое явление, обусловленное порядком вещей и состоящем частей. До тех пор, пока этот порядок и это состояние вещей сохраняются, они допускают в этих телах движения и изменения, которые и составляют явление жизни и которые вызываются в них некоей возбуждающей причиной.
8. У всех живых тел сами проявления жизни производят всякого рода изменения, наделяющие их способностями, общими всем им, и постепенно приводят их к тому состоянию вещей, которое влечет за собой их гибель.
9. Наконец, жизнь, по причине своего существования в теле и в дальнейшем в тех телах, которые от него происходят при смене поколений, все более и более благоприятствуя движению и перемещению флюидов, беспрерывно приобретает средства для дальнейшего видоизменения клеточной ткани, для превращения части ее в напоминающие сосуды трубки, перепонки, волокна и различные органы, служащие для укрепления, придания твердости или плотности некоторым из этих частей путем внедрения в их ткань пригодных для этой цели частиц. Тем самым достигается постепенное усложнение организации24.
Десять существенных признаков, отличающих живые тела от остальных природных тел, и девять основных положений, которые я к ним здесь добавил, охватывают всю совокупность представлений, относящихся исключительно к живым телам.
Обобщим теперь эту совокупность признаков в виде двух следующих положений, которые помогут нам, в случае надобности, определить отношения между предметами.
Наиболее общими и наиболее существенными функциями, выполняемыми организованными телами, являются следующие две:
1. Функция питания, развития и сохранения индивидуума.
2. Функция воспроизведения и размножения. {66}
Эти две функции являются главными и наиболее важными, ибо все живые существа, от живого тела наиболее простой организации и до живого тела наиболее сложного, выполняют, хотя и весьма различными способами, обе эти функции.
Начиная с момента появления жизни в теле, т. е. с того момента, когда состояние его частей и порядок вещей в нем делают возможным существование этого явления, организация этого тела уже способна выполнять обе вышеназванные функции, но так как она осуществляет их, очевидно, при помощи различных средств, соответственно степени своей простоты или сложности, то из этого следует, что в системе наиболее простой организации эти две функции выполняются без каких-либо специальных органов, тогда как последние абсолютно необходимы и становятся все более и более сложными, по мере того как усложняется сама организация. В самом деле, так как наиболее простые по своей организации тела образованы веществами весьма несложными, то введенные питательные частицы не должны претерпевать почти никаких изменений для того, чтобы они могли быть ассимилированы и усвоены. В этом случае жизненные движения и силы оказываются достаточными, т. е. для питания не нужны специальные органы. Факты, наблюдаемые у наиболее простых живых тел, доказывают, что дело обстоит именно так.
Было бы ошибкой предполагать, что у всех живых тел существуют специальные органы для выполнения каждой из вышеупомянутых двух функций, и утверждать, что органы, необходимые для воспроизведения, всегда существуют одновременно с органами питания и что наличие органов, предназначенных для этих функций, является отличительным признаком живых тел.
Самое веское что можно сказать по этому поводу, это следующее: после того как природе удалось установить у некоторых живых тел специальные органы, сначала для первой, а затем и для второй из указанных функций, признаки, обусловленные этими органами, действительно являются наиболее существенными для определения отношений [между живыми телами], так как выполняемые этими органами функции сами по себе имеют первостепенное значение. {67}
Но неверно, будто у всякого живого тела существуют специальные органы как для одной, так и для другой из этих двух функций, ибо наиболее простые по своей организации животные и растения не имеют специальных органов ни для воспроизведения, ни для питания, если не считать специальными органами наружные поглощающие поры.
Теперь, если методически объединить десять существенных признаков живых тел, присоединить к ним девять положений, приведенных в дальнейшем, и если принять во внимание две основные функции, которые должна выполнить всякая организация, мы получим прочные и неоспоримые основы философии биологии, которые во всем согласуются с полученными наблюдениями. Мы легко поймем, что разнообразные явления, присущие живым телам, представляют собой явления чисто физического порядка, что даже причины их поддаются определению, несмотря на то, что их трудно распознать; короче говоря, нам станет понятным, что единственный путь, которым надлежит идти, чтобы продвинуть вперед наши познания в этой интересной области природы,— это уделять наибольшее внимание приведенным признакам живых тел и тем положениям, которые я к ним добавил.
Утратив жизнь, которой они обладали, рассматриваемые тела в то же мгновение переходят в категорию тел неорганических, хотя у них еще можно обнаружить следы организации, которая была явно выражена у них раньше, и вскоре они оказываются низведенными до состояния прочих неорганических тел. При этом их части на самом деле постепенно разлагаются, утрачивают свои природные свойства, распадаются, и различные остатки или продукты их жизнедеятельности, все более и более изменяясь, теряют мало-помалу признаки своего происхождения и с течением времени делаются неузнаваемыми. Наконец, эти, подвергшиеся изменениям, остатки живых тел при соответствующих обстоятельствах способствуют образованию других, то более, то менее сложных веществ и увеличивают количество различного рода минералов и твердых, жидких и газообразных неорганических веществ. {68}
Различие, существующее между телом живым и телом неорганическим, заключается, следовательно, лишь в том, что у первого состояние частей допускает явление жизни, которое для своего осуществления нуждается только в наличии возбуждающей причины, между тем как во втором это явление невозможно даже при наличии действия какой бы то ни было возбуждающей причины.
Эта разница проявляется и в том, что у живого тела индивидуальность выражается в совокупности различных составных молекул, тогда как у неорганического тела эта индивидуальность полностью выражается в каждой отдельной молекуле.
Состояние частей, делающее возможным осуществление в теле жизненных движений, настолько трудно поддается определению, что человек вряд ли смог бы воспроизвести его. При помощи анализа и синтеза можно произвольно разрушить или восстановить многие неорганические тела или вещества, но человек не в состоянии воссоздать ни живое тело в целом, ни какую-либо из его частей.
Все это — реальные факты, все это — истины, которые не могут быть опровергнуты самым глубоким изучением. Я даю здесь лишь сжатый очерк [этих вопросов], однако его достаточно, чтобы руководствоваться им в наших занятиях.
В дополнение к этой главе скажем несколько слов о сложных живых телах.
Существование живых тел, состоящих из объединенных индивидуумов, сросшихся друг с другом и участвующих в общей жизни,— факт весьма замечательный, которому даже трудно поверить, однако, каким бы необычайным он нам ни казался, мы не можем в настоящее время подвергнуть его сомнению.
Быть может, этот факт никогда не был бы замечен, если бы он ограничивался растительным царством, где он представляет собой общее явление и где он в некотором роде замаскирован особым способом проявления, делающим его менее заметным. {69}
Но у животных, у которых рассматриваемый факт наблюдается только в одном единственном классе, он обнаруживается с такой очевидностью, что не могли не признать его.
Впервые было замечено, что именно у животных природа сумела образовать сложные живые тела, т. е. тела, получающиеся в результате соединения многих отдельных индивидуумов, сросшихся друг с другом, питающихся и живущих сообща. Этот своеобразный факт в настоящее время установлен в царстве животных и в пределах этого царства мы встречаем примеры его почти исключительно среди полипов.
Внимательно изучая явление, о котором здесь идет речь, мы вскоре убеждаемся, что оно отнюдь не является исключительной особенностью некоторых животных, ибо природа придала ему гораздо более общий характер у растений. И вот значительная разница в способе его проявления у тех и других заслуживает быть отмеченной.
Среди полипов, очень большое число которых представляет животных, действительно сложных, следует различать, с одной стороны, тех, которые, хотя и состоят из особей, связанных одна с другой, но, по-видимому, вовсе не образуют общего тела, обладающего жизнью, не зависящей от жизни отдельных особей, и, с другой стороны, тех, также сложных полипов, каждая особь которых участвует й образовании и увеличении особого общего тела, переживающего отдельных индивидуумов, последовательно им производимых.
Разграничение это не всегда легко бывает провести, но без него происхождение множества наблюдаемых фактов, особенно среди растений, осталось бы непонятным.
Примером сложных полипов первого рода, т. е. тех, которые вовсе ив образуют особого и отчетливо различимого общего тела, могут, как нам кажется, служить ветвистые сувойки, гидры, полипы с «футлярообразным» полипняком, полипы, образующие сплетение, и т. д. Эти полипы с нежным й более или менее удлиненным телом срастаются друг с другом, не образуя массивных скоплений и общего тела, переживающего отдельных особей. {70}
Наоборот, полипы, имеющие общее тело, переживающее всех особей, которые последовательно развиваются, воспроизводятся и умирают на нем же, составляют вторую группу сложных полипов. Примером их могут служить астероиды, меандрины, альциониумы, губки и т. д.25 Особенно не вызывает сомнения существование этого общего тела, обладающего самостоятельной жизнью, у плавающих полипов. Мы увидим, что подобного рода общее тело чрезвычайно отчетливо выражено у множества сложных растений.
Известно, что, рассматривая вышеупомянутых сложных полипов и изучая все, что их касается, мы убеждаемся, что они образуют в воде общую живую массу, непрерывно производящую на своей поверхности тысячи отдельных особей, которые срастаются с ней, быстро развиваются и столь же быстро погибают, замещаясь новыми особями, проходящими тот же цикл. Между тем общая масса, образующаяся в результате всех приращений, произведенных этими преходящими особями, продолжает жить почти беспредельно долго, если только окружающая ее вода имеется в достаточном количестве. Впрочем эта общая живая масса частично и постепенно отмирает в своей нижней, более старой части, между тем как боковые и верхние ее части продолжают жить.
Я окончательно постиг природу этого своеобразного общего тела, существующего у некоторых сложных полипов, только сопоставив его с аналогичным образованием у многолетних растений, в особенности у деревьев.
Конечно, для натуралиста все эти вещи представляют слишком большой интерес, чтобы не сказать о них несколько слов. Мне, без сомнения, простят отступление по вопросу о сложных растениях, поскольку оно касается важного факта, изучением которого пренебрегали и который заслуживает внимания со стороны тех, кто изучает природу26.
Сравнение сложных животных со сложными растениями
Без сомнения, нет ничего более замечательного, чем существующая во многих отношениях аналогия между определенными растениями {71} и определенными животными. Она показывает, что, хотя между этими двумя родами существ имеются важные различия, поскольку они принадлежат к двум совершенно различным царствам, тем не менее природа, создавая тех и других, шла одним и тем же путем и выполняла единый план.
Оставляя в стороне другие соображения по поводу явной аналогии между явлениями, наблюдаемыми у некоторых растений и животных, мы остановимся здесь лишь на аналогии, затрагивающей среди этих двух родов живых тел только существа, действительно представляющие собой собрание отдельных особей. Небольшое отступление на эту тему будет поучительным и очень полезным для изучения рассматриваемого здесь вопроса.
В самом деле, не следует впадать в ошибку; подобно тому, как существуют животные простые, представляющие собой обособленных индивидуумов, и животные сложные, т. е. состоящие из индивидуумов, сросшихся и сообщающихся между собой внутренними частями и участвующих в общей жизни, примером чего могут служить очень многие полипы; точно так же есть растения простые, которые живут, как отдельные индивидуумы и, помимо того,— растения сложные, т. е. состоящие из многих индивидуумов, живущих вместе, как бы привитых одно на другое или на общее тело и участвующих в общей жизни.
Я попытаюсь: показать, что рассматриваемый факт в отношении этих,растений столь же реален, как и в отношении вышеупомянутых животных.
Основное свойство, присущее растению, состоит в том, что оно живет до тех пор, пока не принесет цветов, плодов или воспроизводительных телец. Продолжительность его жизни редко превышает год и, если в целях воспроизведения у него развиваются половые органы, эти органы выполняют только однократное оплодотворение, так что, обеспечив воспроизведение, они вслед за тем полностью погибают и разрушаются, также как и произведший их индивидуум. Вот истины, которые нельзя сколько-нибудь обоснованно отрицать. {72}
Если многие растения в продолжение своего однолетнего существования могут служить примером приведенного мною факта, то многие другие, по-видимому, продолжают жить и после плодоношения и на самом деле, прежде чем погибнуть, приносят цветы и плоды несколько лет подряд. Таким образом, у этих последних существует особый, характерный для них порядок вещей, с которым необходимо ознакомиться.
Мы увидим, что своеобразное различие между очень ограниченной продолжительностью жизни некоторых растений, погибающих после плодоношения, и многими другими растениями, которые живут и приносят плоды в продолжение многих лет подряд, зависит в основном от того, что одни из них являются отдельными индивидуумами, то простыми, то дающими отпрыски, которые не могли образовать общее тело, способное к самостоятельной жизни, тогда как другие действительно представляют собой растения, состоящие из индивидуумов, собранных на одном общем теле, обладающем собственной жизнью, независимой от жизни этих отдельных индивидуумов.
В самом деле, всякое однолетнее растение представляет собой самостоятельный растительный индивидуум, обладающий особым телом, наделенным жизнью, не зависящей от жизни других его частей, и более долговечным, нежели они.
Подобное растение может быть либо совершенно простым, когда оно приносит только один цветок или соцветие и погибает после того, как произведет семена, или же оно дает отпрыски, образует ветвистый стебель или несколько отдельных стеблей, погибающих, так же как и корни, после плодоношения. Но так как продукты его вегетации полностью идут на развитие частей, которые должны служить для плодоношения, то они не могут привести к образованию долговечного общего тела. Следовательно, растение это, то простое, то дающее отпрыски, действительно является обособленным индивидуумом.
Доказательством того, что однолетнее растение, о котором была речь, на самом деле является простым растением, служит то, что оно {73} не образует настоящих почек и способно произвести лишь одно или несколько растений, отделяющихся от него.
Однако так обстоит дело далеко не у всех растений: большинство растений — это сложные существа, представляющие собой, подобно полипам, собрания индивидуумов, живущих вместе на долговечном общем теле, на котором последовательно развиваются новые индивидуумы; но каждый из этих индивидуумов редко живет дольше одного года. Прежде чем погибнуть, все они оставляют долговечные продукты своей вегетации, увеличивающие объем общего тела; помимо того, они обеспечивают воспроизведение новых индивидуумов, образуя то семена, то воспроизводительные тельца, то почки.
Что касается общего тела, переживающего однолетних индивидуумов, то оно явно представляет собой результат [жизни] тех поколений, которые его образовали первоначально, и тех, которые последовательно добавляли к нему продукты своей собственной вегетации. Это общее тело, обладающее жизнью, не зависящей от жизни отдельных особей, продолжает, со своей стороны, увеличиваться в объеме благодаря непрерывно получаемым им от последних добавлениям, и без помощи какого-либо полового органа, периодически производит почки и побеги, образующие новые, остающиеся в соединении с ним особи, которых оно должно питать. Таким образом, семена и воспроизводительные тельца (отделяющиеся почечки, глазки и т. д.) служат для образования новых растений того же вида, а побеги [bourgeons], образованные общим телом, служат для возобновления на этом теле индивидуумов, подобных тем, которые на нем жили и погибли.
Это еще не все. Рассматриваемое здесь общее тело обладает не только во всей своей массе жизнью, не зависящей от жизни тех индивидуумов, которых оно питает, но каждая отдельная часть его сама обладает жизнью, не зависящей от жизни остальных частей, вследствие чего любая его часть, будучи отделена, в свою очередь может продолжать жить. Отсюда — прививки.
Если у многолетних растений продукты вегетации каждого индивидуума долговечны, что не наблюдается у однолетних растений, {74} то происходит это потому, что, образуясь при участии продуктов вегетации всех прочих индивидуумов и участвуя в жизни общего тела, эти продукты вегетации приобретают большую крепость и быстро достигают плотности, достаточной для того, чтобы сделать их способными противостоять воздействиям, которые могли бы привести их к гибели. Помимо того, это объясняется еще и тем, что вещества, служащие для их питания, подвергшись переработке в общем теле, вносят в них начала, делающие их более стойкими.
Поэтому, когда я смотрю на дерево или кустарник, для меня совершенно очевидно, что перед моими глазами не простое растение, но множество растений одного и того же вида, которые живут вместе на многолетнем отвердевшем общем теле, обладающем собственной и независимой жизнью, в которой участвуют все живущие на нем индивидуумы.
Это настолько верно, что если привить на ветку сливы побег вишни, а на другую ветку того же дерева — побег абрикоса, то эти три вида будут жить сообща на общем теле, которое их несет, и будут участвовать в общей жизни, не переставая сохранять свои особенности.
Подобно этому, можно заставить жить на стебле розового куста различные виды, которые будут сохранять свои признаки; то же может быть произведено и у растений других семейств, при условии, чтобы прививаемые виды не принадлежали к далеким друг от друга семействам.
Корни, ствол и ветви по отношению к этому сложному растению являются не чем иным, как частями общего тела, о котором я упоминал, не чем иным, как длительно сохраняющимися результатами вегетации всех индивидуумов, существовавших на этом же растении, подобно тому, как общая живая масса астрей, меандрин, альциониумов или пеннатул является не чем иным, как продуктом анимализации многочисленных, совместно живших и обладавших общей жизнью полипов, последовательно сменявших одни других.
Как у тех, так и у других жизнь продолжает существовать в общем теле, т. е. в дереве и внутри той мякотной массы, которая {75} одевает полипняк; между тем каждый отдельный растительный индивидуум дерева и каждый полип упомянутой мякотной массы, соединяющей друг с другом отдельных полипов, сохраняет жизнь только в продолжение короткого времени, но оставляет после себя: один — новые побеги [bourgeons], другой — новые почки [gemmes], служащие для его воспроизведения.
Таким образом, каждый побег растения является отдельным растением, которое должно развиваться так же, как и растение, произведшее его, должно, как и все прочие, участвовать в общей жизни, должно ежегодно образовывать цветы и приносить плоды и способно также произвести новую ветку, несущую новые побеги.
В самом деле, общее тело, продолжающее жить и переживающее отдельных индивидуумов, казалось, могло бы внушить мысль о том, что оно обладает индивидуальностью, но это предположение ошибочно: это растительное тело, как таковое, лишено индивидуальности, поскольку отделенные от него части способны продолжать жить. Помимо того, само оно, очевидно, представляет не что иное, как совокупность растений или сложное растение, поддерживающее жизнь множества отдельных индивидуумов, остающихся на произведшем их общем теле в продолжение их индивидуального существования, а в дальнейшем замещающихся другими, которые подвергаются той же участи и образуют таким образом ряд сменяющих друг друга поколений, до тех пор пока продолжает жить общее тело.
Общее тело, о котором я говорю, настолько отличается от отдельных живущих на нем индивидуумов, что путем искусственных приемов человек научился объединять на этом общем теле любое число отдельных индивидуумов для образования подлинно единого целого. В самом деле, прививки путем сближения, которые природа иногда сама производит и которым так искусно научились подражать, заключаются в том, что сращивают и заставляют участвовать в общей жизни различные, деревья или кустарники одного и того же вида. Иногда даже удается сохранить жизнь ствола, полностью отделенного от его основания и корней, помещая его при посредство этой прививки на другие, соседние стволы, которые его поддерживают. {76}
Можно было бы в пределах одного только вида образовать большой лес, многочисленные, сообщающиеся между собой и ведущие общую жизнь стволы которого с полным правом можно было бы считать одним существом, подобным дереву в целом, включая его корни и ветви.
Внутренние части [тела] растений, как я уже указывал, по-видимому, обладают лишь организацией, которая может обусловить в них жизнь. В зависимости от рода или семейства растения она может представлять те или иные особенности, но в организацию растений никогда не входят какие-либо специальные органы, которые обеспечивали бы их какими-нибудь другими способностями, помимо способностей, присущих жизни вообще27.
Поэтому, отделяя части сложного растения, содержащие один или несколько побегов, или заключающие неразвитые их элементы, можно по своей воле образовать из них любое число новых растений, подобных тем, от которых они происходят, не прибегая к помощи плодов этих растений. Так и поступают на практике садоводы, применяя прививки, отводки и т. д.
Я уже привел в моей «Philosophie zoologique» (ч. II., стр. 464) различные факты, доказывающие, что многие растения представляют собой своеобразные тела, на которых живет, развивается и погибает множество отдельных индивидуумов, многочисленные поколения которых сменяют друг друга до тех пор, пока продолжает жить питающее их общее тело. Здесь я добавлю один только пример, весьма показательный, как мне кажется, в этом отношений.
Среди различных данных, подтверждающих, что дерево не простое растение, но является телом, которое производит, питает и дает возможность развиваться множеству растений одного и того же вида, живущих сообща на общем теле, образовавшемся в результате произрастания на нем подобных друг другу растений, самым выдающимся фактом, на который можно указать, является следующий.
Отличительная особенность живого существа, представляющего собой отдельный индивидуум, состоит в том, что оно в продолжение жизни постепенно изменяет свое состояние, так что, по мере {77} приближения к концу своего существования, все без исключения его части несут на себе все более и более ясную печать старости и в конце концов — разрушения. Для доказательства этого известного факта нет надобности входить в какие-либо подробности.
Между тем, как бы старо ни было дерево, все те его побеги, которые развиваются весной, представляют собой индивидуумы, отмеченные вначале чертами самой нежной юности; спустя шесть недель они приобретают признаки полного развития и, после непродолжительного периода устойчивого состояния, начинают обнаруживать все более и более заметные признаки старости, которая приводит их к смерти до истечения года с момента их образования.
Кто не испытал на себе очарования весенней листвы распускающихся деревьев, независимо от их возраста, этой нежной и обаятельной зелени, отражающей подлинную юность индивидуумов! Есть ли малейшая черта в этих только что возникших частях, которая говорила бы о том, что они принадлежат существу очень старому, стоящему почти у порога смерти? Конечно, нет: все продолжающие на нем развиваться почки и побеги являются отдельными особями, ни в какой мере не участвующими в постепенном отмирании старого дерева, о котором выше была речь. До тех пор пока дерево дает им возможность жить на нем, каждый из этих индивидуумов имеет свою юность, достигает зрелости и приходит, наконец, к своей индивидуальной старости, которая заканчивается его разрушением. Следовательно, поддерживающее их дерево представляет собой сложное растение, на котором живет, развивается и возобновляется множество индивидуумов одного и того же вида, участвующих каждый в общей жизни и ежегодно сменяющих друг друга, до тех пор пока общее тело — результат всех отдельных вегетации — сохраняет состояние, необходимое для поддержания в них жизни.
И вот, подобно тому, как природа создала сложные растения, она создала также сложных животных и для этого она не изменила ни в том, ни в другом случае ни растительную, ни животную сущность. При виде сложных животных было бы такой же нелепостью {78} говорить о животных-растениях, как и при виде сложных растений говорить о растениях-животных.
И если в прошлом веке сложным животным из класса полипов было дано название зоофитов, то заблуждение это в те времена было простительным: низкий уровень знаний о природе животных делал это выражение не столь порочным. Но в настоящее время дело обстоит иначе и было бы неуместным давать классу животных название, вызывающее неверное представление о тех существах, к которым оно относится.
Теперь, после того как мы установили, что существуют два совершенно различных рода живых тел, а именно: растения и животные, перейдем к изучению основных признаков первых и, показав разграничительную линию, установленную природой между этими двумя родами существ, попытаемся доказать, что растения ни в одной точке своего ряда не сливаются с животными, т. е. не образуют с ними единой цепи.
| {79} |

Для того чтобы всесторонне изучить животных, мы решили их сравнить со всеми остальными телами нашей планеты. Рассматривая животных как живые тела, мы видели, что тела, наделенные жизнью, но своим общим признакам и по присущим им способностям отделены от неорганических тел значительным промежутком.
Так, нам хорошо известно, что животных, даже наиболее несовершенных из них,— поскольку все они являются живыми телами,— нельзя объединять с телами неорганическими и что ни одно животное, как бы несовершенно оно ни было, как бы проста ни была его организация, не образует непосредственного перехода к какому-либо телу, в котором не может происходить явление жизни.
Но животные не являются единственными, имеющимися в природе живыми телами, и мы можем убедиться, что существуют два рода живых тел, весьма сильно отличающихся один от другого. Тела этих двух категорий представляют столь большие различия в состоянии и в явлениях своей организации, что позволяют легко обнаружить ту резкую разграничительную черту, которую природа провела между ними.
Однако это лишь отчетливо выраженная разграничительная черта, но не глубокий разрыв, подобный тому, который отделяет неорганические тела от тел живых.
Давно поняли, что между этими двумя родами живых тел {80} существуют подлинные различия и, хотя не умели точно определить, в чем именно эти различия заключаются, с незапамятных времен живые тела принято было подразделять на две первичные группы, создав из них два отдельных царства, а именно: царство растительное и царство животное.
И вот следует выяснить, связаны ли растения в какой-либо точке своего ряда с животными и образуют ли они постепенный переход к ним или же они отличаются от последних какими-нибудь постоянными и легко распознаваемыми признаками.
Прежде всего я замечу, что природа, создавая свои произведения, как и во всем вообще, что она делает, действовала и могла действовать только постепенно, переходя от более простого к более сложному. Это — истина, которую подтверждает наблюдение.
Если это так, то можно было бы предположить, что природа начала с создания растений, при этом с наиболее несовершенных из них, с тех, которые обладают наименее видоизмененной клеточной тканью. Она должна была вызвать их к жизни прежде, чем произвести растения, имеющие внутри многочисленные, различно устроенные трубки, особые волокна, сердцевину и составляющие ее части, словом, клеточную ткань, настолько видоизмененную, что внутренняя организация этих растений представляется уже до некоторой степени сложной. Отсюда очевидно, что если бы растения составляли с животными единую цепь, воспроизводящую последовательность образования тех и других, то именно растения с наименее видоизмененной клеточной тканью должны были бы смыкаться или, так сказать, сливаться с первыми животными, т. е. с животными наиболее несовершенными28.
Между тем этого нет. Я покажу, что природа одновременно приступила к созданию растений и животных, но, так как ей приходилось иметь дело с телами, существенно различными по составляющим их химическим элементам, то все то, что ей удалось образовать у одних, оказалось совершенно непохожим на то, что она могла произвести у других, несмотря на то, что планы ее действий в том и в другом случае были очень сходны. {81}
Если бы растения могли в какой-нибудь точке своего ряда непосредственно примыкать к животным, незаметно переходить в них, то несомненно, что природа могла бы осуществить подобный переход только через наиболее несовершенные и наиболее простые по своей организации живые тела, создав промежуточные формы между самыми несовершенными растениями и самыми несовершенными животными. Все натуралисты поняли это и, действительно, именно в той точке как того, так и другого ряда, где помещаются существа, отличающиеся наибольшей простотой организации, растения, как можно думать, больше всего приближаются к животным. Если в этой точке они почти сливаются, то нельзя не признать, что растения и животные все же не образуют цепи, но составляют две самостоятельные ветви, соединенные у своего основания наподобие буквы V. Но я покажу, что в указанной точке нет никакого постепенного перехода, что обе упомянутые ветви совершенно не связаны между собой у своего основания и что один реальный признак, касающийся химической природы тел, бывших объектами действий природы, создал огромную разницу между существами, составляющими одну из этих ветвей, и теми, которые относятся к другой.
Я на деле покажу, что среди плотных частей, образующих тело растения, нет ни одной, которая на самом деле была бы раздражима, т. е. была бы способна внезапно сокращаться в любое время, притом в продолжение всей своей жизни, и что, следовательно, растения не могут выполнять внезапных движений, повторяемых столько раз подряд, сколько раз их может вызвать возбуждающая причина.
Я докажу далее, что у всех вообще животных среди их плотных частей есть части, которым всегда присущи раздражимость и способность к внезапным сокращениям, и что они могут выполнять мгновенные или внезапные движения и повторять их в любое время столько раз подряд, сколько раз будет на них действовать причина, возбуждающая эти движения.
Посмотрим теперь, что представляют собой растения и каковы их существенные признаки. После описания этих признаков мы приведем факты и доказательства, являющиеся их обоснованием. {82}
Растения — это живые тела, не обладающие раздражимостью29. Существенные признаки их следующие.
1. Они не способны ни производить в любой момент внезапных и повторных сокращений ни одной из своих плотных частей, ни выполнять при помощи этих частей внезапных или мгновенных движений, повторяемых столько раз подряд, сколько раз их вызывает возбуждающая причина*.
2. Они не способны ни производить действий, ни самостоятельно перемещаться, т. е. покидать место, на котором каждое из них находится или неподвижно укреплено.
3. Только их флюиды способны выполнять жизненные движения; их плотные составные части, будучи лишены раздражимости, не в состоянии путем действительных реакций способствовать выполнению этих движений, которые могут вызываться [лишь] действием внешних возбуждающих причин.
4. У них совершенно отсутствуют специальные внутренние органы, но благодаря движениям их флюидов, у них образуется множество большей частью параллельных** друг другу, напоминающих сосуды трубок, боковые стенки которых в большинстве случаев пронизаны порами. Это отсутствие внутренних органов является причиной того, что у всех растений организация лишь более или менее {83} видоизменена, но не подверглась настоящему усложнению, и что части этих тел легко превращаются одни в другие.
5. У них совершенно отсутствует пищеварение; они лишь перерабатывают соки, служащие им для питания и для образования различного рода веществ; таким образом, они имеют лишь поглощающую (наружную) поверхность и поглощают в качестве пищи жидкие вещества или такие, частицы которых обладают малым сцеплением между собой.
6. Их флюиды не подвергаются настоящей циркуляции, но их соки перемещаются, по-видимому, преимущественно по двум направлениям: восходящему и нисходящему, что позволяет предположить существование двоякого рода соков, образующихся: один — в результате поглощения веществ корнями, и другой — листьями.
7. Рост происходит у растений по двум направлениям: восходящему и нисходящему, начиная от некоторой промежуточной точки, или жизненного узла, расположенного у основания шейки корня и обычно более живучего, чем прочие части.
8. Их наземные части стремятся расти по направлению, перпендикулярному к плоскости горизонта, а не к поверхности почвы, которая их поддерживает*.
9. Большинство их образует сложные существа, состоящие из отдельных индивидуумов, собранных на общем живом теле, на котором ежегодно развиваются последовательные поколения этих индивидуумов.
Если противопоставить, как я намерен это сделать, приведенному краткому обзору реальных фактов, характеризующих растения, обзор существенных признаков животных, станет ясно, что природа провела между этими двумя родами живых тел резкую разграничительную {84} черту, которая мешает им соединиться в какой-либо точке образуемых ими рядов. Однако совсем иное принято высказывать об этих двух родах существ. Отсюда очевидно, что почти вся работа еще впереди, если мы хотим дать как о тех, так и о других то правильное представление, которое необходимо иметь о них.
Для того, чтобы устранить заблуждение, направившее науку по ложному пути, важнее всего осветить один единственный пункт, а именно доказать, что все части растений вообще лишены раздражимости.
После того как мне удастся привести доказательства этого факта, легко будет понять, насколько отсутствие раздражимости частей сводит растения в отношении явлений организации к более низкому уровню, и мы поймем, почему источником их жизненных движений, т. е. движений их флюидов, являются только воздействия, получаемые ими извне.
Для доказательства выдвинутых мною положений достаточно подвергнуть их тщательному обсуждению. Прежде всего я покажу, что я был прав, когда утверждал в моей «Philosophie zoologique» (ч. I, стр. 251), что в тех явлениях, которые известны нам относительно растений, называемых мимозами, нет ничего похожего на раздражимость частей тела животных, и что ни одна часть тела растений не способна производить мгновенных сокращений и не обладает этой способностью, характеризующей исключительно животную природу. И вот вследствие этой основной причины — отсутствия раздражимости и сократимости частей тела — все растения ограничены возможностью иметь лишь слабо и неясно выраженную внутреннюю организацию и гораздо более низким уровнем проявлений этой организации по сравнению с тем, чем природа могла наделить животных.
Основное положение, на котором я прежде всего должен остановиться,— это доказательство, что способность чувствовать и раздражимость {85} — совершенно различные явления и что они обусловлены причинами, не имеющими ничего общего между собой. Известно, что еще Галлер30 различал эти два явления, но так как большинство современных зоологов все еще смешивают их, то полезно попытаться напомнить это разграничение, обоснованность которого вполне очевидна.
Я покажу затем, что, помимо заблуждения, заставлявшего смешивать способность чувствовать и раздражимость, допускали и другую ошибку, считая некоторые движения, наблюдаемые у растений при особых обстоятельствах, результатом раздражимости, хотя все они, как я это намерен доказать, не имеют ни малейшего отношения к тем, которые зависят от рассматриваемого здесь органического явления.
Чтобы убедиться в том, что чувствование и раздражимость — весьма различные явления, достаточно рассмотреть три следующих положения, в которых сопоставлены условия, необходимые для осуществления каждого из них.
Первый отличительный признак. Всякое животное, наделенное способностью чувствовать, всегда имеет в своей организации специальную систему органов, без которой данное явление не может происходить. Эту систему органов, всегда состоящую из нервов и из одного или нескольких центров отношений, легко отличить от других частей организации. Отсюда следует, что повреждая некоторые части этой системы, произвольно разрушают способность чувствовать в тех частях тела животного, которые поврежденный орган наделял этой способностью, делая тем самым эти части нечувствительными, однако не разрушая при этом их жизнеспособности.
Наоборот, для того чтобы могло происходить явление раздражимости, раздражимые части животного вовсе не должны обладать каким-либо специальным обособленным органом, который один только мог бы обусловить рассматриваемое явление. Химический состав этих частей таков, что, до тех пор пока в них сохраняется жизнь, они способны сокращаться при действии всякой причины, являющейся раздражителем. Следовательно, уничтожить раздражимость этих {86} частей можно, только отняв у них жизнь, ибо своей раздражимостью они не обязаны никакому особому органу.
Второй отличительный признак. Хорошо известные органы, при посредстве которых осуществляется чувствование, не являются отчетливо или безусловно сократимыми. Кроме того, ни одно наблюдение не подтверждает, что для того чтобы могло иметь место ощущение, нервы должны сокращаться.
Напротив, раздражимые части всякого животного не могли бы выполнить ни одного движения, обусловленного раздражимостью, но претерпевая при этом действительного сокращения. Следовательно, эти части обладают раздражимостью только потому, что они сократимы по своей природе, чего нельзя сказать об органах, обусловливающих чувство.
Третий отличительный признак. Когда животное, наделенное способностью чувствовать, погибает, эта способность угасает у него прежде, чем в его теле полностью исчезнут жизненные движения.
Напротив, раздражимость, которой обладают все или только некоторые части животного, является той из его способностей, которая при наступлении смерти исчезает последней.
Чувствование и раздражимость по самой своей природе отличаются друг от друга, так как причины и условия, необходимые для осуществления каждого из этих явлений, неодинаковы, и в нашем распоряжении всегда имеются вполне надежные средства, чтобы различить их.
Теперь, чтобы показать, насколько еще несовершенны основы теории, принятой в зоологии, я замечу, что даже самые просвещенные зоологи нашего времени до сих пор смешивают чувствование с раздражимостью и что, ссылаясь на некоторые неверно истолкованные факты, они считают возможным распространять на растения как ту, так и другую из этих способностей.
«Многие растения», говорится в «Dictionnaire des sciences naturelles», в статье «Животное», «движутся внешне совершенно также, как и животные: листья мимозы сокращаются при прикосновении к ним с такой же быстротой, как щупальца полипа. Может ли кто-нибудь {87} доказать, что чувство имеется в одном случае и отсутствует в другом?»
Я могу утверждать на основании моих собственных наблюдений, что в приведенном утверждении нет ничего точного, ничего, что соответствовало бы явлению, известному у мимозы или у других растений, у которых наблюдаются подобного рода движения, иными словами,— что нет ничего общего между движениями этих растений и теми, которые происходят в результате возбуждения раздражимых частей у животных, и что еще меньшее отношение эти явления имеют к способности чувствовать.
Прежде всего нет никаких доказательств того, что причиной вышеупомянутого сокращения щупалец полипа при прикосновении к ним является чувствование, т. е. что в данном случае имеет место ощущение, так как это сокращение могло быть вызвано одной раздражимостью. Напротив, есть полное основание утверждать, что никакое ощущение не могло бы быть вызвано вышеупомянутым прикосновением, так как у полипа совершенно отсутствует система органов, необходимая для выполнения этого явления, и так как сущность ощущения вовсе не заключается в том, чтобы производить движения. Таким образом, вообще не следовало бы ставить вопрос о том, почему чувствование свойственно полипу и почему его не может быть у мимозы, поскольку неверно, что полип может испытывать ощущения. Я намерен теперь доказать, что в приведенном примере нет никакого сходства между явлениями, наблюдаемыми у полипа и у мимозы, так как щупальцы полипа приходят в движение только при прикосновении к ним, когда они действительно сокращаются, тогда как прикосновение к мимозе не способно вызвать у этого растения никакого сокращения. Следовательно, в рассматриваемом примере полип движется вследствие раздражимости своих частей, а мимоза — под влиянием совершенно иных причин.
В самом деле, неверно, будто какая-либо часть мимозы сокращается при прикосновении к ней: ни листочки, ни черешки, как главные, так и второго порядка, ни мелкие веточки этого растения не претерпевают никакого сокращения, но части эти просто складываются {88} в сочленениях, и при этом их размеры не меняются; в результате этих движений, носящих характер расслабления, почти все эти части внезапно и быстро опускаются, причем ни одна из них не испытывает ни малейшего сокращения, ни даже самого незначительного изменения размеров. Без сомнения, все это отнюдь не является признаком раздражимости. В самом деле, только у животных части тела могут внезапно сокращаться, изменяя при этом размеры, и сохранять способность повторно сокращаться при каждом действии возбуждающей причины в продолжение всей жизни животного или до тех пор, пока эти части не подвергнутся каким-либо изменениям. Никому еще ни разу не удалось наблюдать подобных сокращений в каких-либо других телах.
После того как это складывание в сочленениях частей мимозы произойдет в результате прикосновения или достаточно сильного толчка, повторное прикосновение или толчок не в состоянии больше вызвать какое-либо движение. Для того чтобы то же явление могло повториться, необходимо довольно долго — не меньше нескольких часов — ждать, пока новое напряжение в сочленениях частей не поднимет или не растянет их, что при низкой температуре происходит чрезвычайно медленно.
Повторяю: все это совершенно нехарактерно для раздражимости, присущей животным. До тех пор пока животное сохраняет жизнь, способность эта остается одинаковой во всех частях, которые ею наделены, и это сокращение частей может повторяться столько раз подряд, сколько раз оно будет вызвано возбуждающей причиной. Кроме того, у животных сокращение той или иной части их тела проявляется не только движениями в сочленениях, как это имеет место у мимозы, но представляет собой внезапное сжатие, подлинное укорочение частей, словом, оно связано с изменением их размеров. Ничего похожего не удается обнаружить у растений.
Поскольку неверно, что внезапные движения, наблюдаемые в некоторых ч:астях растений, называемых мимозами, при прикосновении к ним, представляют собой настоящие сокращения, т. е. действительные изменения размеров этих частей, то, очевидно, что эти {89} движения не имеют ничего общего с раздражимостью; помимо того, они не могут повторяться в любой момент, как это имеет место при тех движениях, которые обусловливаются раздражимостью и могут быть вызваны всякой возбуждающей причиной.
В настоящее время известно, что раздражимость вовсе не является причиной вышеупомянутых движений у растений, называемых мимозами, и что существует резкое различие между этими движениями и явлениями раздражимости у животных. Но какова причина своеобразных движений у упомянутых растений?
На это я отвечу: независимо от того, удастся ли нам действительно установить эту причину или мы можем получить о ней представление только при помощи какой-нибудь правдоподобной гипотезы, опирающейся на факты, неоспоримым всегда останется то, что причина эта не имеет ничего общего с раздражимостью у животных.
И вот я полагаю, что обнаружил эту причину для растений, называемых мимозами, и что эта причина заключается у них в истечении упругих и невидимых флюидов, которые эти растения, подобно другим живым телам, непрерывно образуют в продолжение всей своей жизни, притом — тем обильнее, чем выше температура31.
Предварительно я должен заметить, что движения, наблюдаемые у растений, не ограничиваются теми, которые имеют место у растений, называемых мимозами. Известны также всевозможные другие движения, но путем внимательного исследования их можно убедиться, что ни одно из них не связано с раздражимостью.
Далее я покажу, что все эти разнообразные движения вызываются различными причинами, большая часть которых легко поддается определению.
Одни из них, действительно, — движения внезапные и хорошо заметные, как, например, движения ослабления напряжения, спадания частей и т. д.
Другие, наоборот,— движения медленные и незаметные, вроде тех, которые обязаны своим происхождением причинам гигрометрическим, пирометрическим и т. д.
Все они выполняются и наблюдаются только при определенных {90} условиях. Некоторые из этих движений, будучи однократно выполнены, не возобновляются больше, например движения при вскрытии плодов у некоторых растений, разбрасывающих семена на большое расстояние благодаря разрыву околоплодника. Известны движения, которые происходят только в некоторых частях, например у некоторых цветков в период их распускания или в период особого подъема их жизнедеятельности, когда половые органы приступают к выполнению своих функций.
Здесь я могу показать, что движения в сочленениях мимозы относятся к движениям первого рода и что они обусловлены спаданием частей в результате ослабления напряжения в сочленениях. Я покажу даже, что движения hedysarum gyrans32 относятся к тому же роду движений, хотя они носят менее внезапный характер, и что они выполняются таким же образом, т. е. под влиянием того же рода причин.
В самом деле, движения, наблюдаемые у hedysarum gyrans, носят еще характер движений, происходящих в сочленениях, и ни одна из частей этого растения не претерпевает ни малейшего сокращения. Именно эти своеобразные движения у hedysarum позволили мне разгадать причину движений, наблюдаемых у мимоз.
У упомянутого hedysarum движения листочков всегда носят характер медленных и постепенных движений и бывают хорошо заметны только в теплую погоду, когда истечение веществ у растений особенно значительно. Я понял, что пузырьки или полости, находящиеся в сочленениях этих листочков, могут постепенно наполняться каким-либо газообразным или упругим флюидом растения, соответственно растягиваться благодаря этому, достигая определенного предела наполнения, и затем столь же постепенно опорожняться и опадать. Такое положение вещей должно было обусловить попеременное медленное поднятие и опускание этих листочков, которые описывают полукруг, причем движения эти не вызываются ни сотрясением, ни какой-либо иной посторонней причиной.
Эта простая и чисто механическая причина согласуется с установленным фактом выделения растениями различных веществ. {91}
Известно, что эти газообразные и упругие вещества выделяются особенно обильно в жаркую погоду, что они неодинаковы у различных образующих их растений, что некоторые растения выделяют ароматические вещества, что у dictamnus albus33 они способны воспламеняться. Указанная причина представляется мне вполне достаточной для объяснения рассматриваемого явления. Она показывает, что для того чтобы вызвать внезапное опорожнение пузырьков сочленений у мимозы, требуется прикосновение, толчок и т. д., в то время как у hedysarum gyrans достаточно простого наполнения этих пузырьков, чтобы началось медленное и постепенное выделение содержащихся в них газов.
Тому, кто пожелает знать истинное положение вещей относительно всего того, о чем здесь идет речь, трудно будет не признать обоснованность указанных мною причин.
Что действительно реально,— это то, что в явлениях, наблюдаемых у мимозы, у hedysarum gyrans, во внезапном складывании листьев у мухоловки, во вскрывании пыльников у барбариса, наконец, в выпрямлении плодов у растений с поникшими цветами, а также в разного рода движениях, наблюдаемых в частях некоторых цветов,— во всем этом нет ничего, что можно было бы сравнить с явлением раздражимости у животных и еще менее — с явлениями, обусловленными чувствительностью.
Раздражимость, как утверждают, представляет собой не что иное, как видоизменение чувствительности; она не является способностью, присущей исключительно животным, и свойственна всем вообще живым телам. Нет никакого сомнения в том, что все живые части тела животных наделены ею, но и растения, как утверждают, также дают нам достаточно доказательств того, что и они обладают ею. Действие света, электричества, тепла, холода, сухости, кислот, щелочей, сообщенного извне движения и т. д. и т. п.— вот, по мнению многих, причины, возбуждающие раздражимость у растений. Именно этими причинами якобы следует объяснять распускание некоторых цветов в определенные часы дня, сон растений, направление стеблей, разбрасывание семян, более или менее сильные повреждения, {92} производимые холодом, сухим ветром, и т. д. и между тем, ни один орган растения не передает сообщенное ему движение всему телу, по-видимому, восприимчивому к нему. Вот рассуждения, при помощи которых хотят доказать, что раздражимость является способностью, присущей как растениям, так и животным.
Утверждают также следующее: «если животные в поисках пищи обнаруживают желания, умение делать выбор между различными видами ее, то известно также, что корни растений направляются туда, где почва богаче соками, и даже отыскивают в скалах мельчайшие расселины, в которых они могут найти хотя бы немного пищи. Листья и ветви растений неуклонно направляются в ту сторону, где они находят больше воздуха и света; наконец, если согнуть ветку так, чтобы верхушка была обращена книзу, то листья этой ветки почти закручивают свои черешки, чтобы оказаться в положении, наиболее благоприятном для выполнения своих функций. Можно ли быть уверенным в том, что все это происходит безсознательно?» («Dictionnaire des sciences naturelles», см. слово, указанное выше).
Подобного рода ссылки на поверхностно и даже превратно истолкованные факты вносят в науку взгляды и принципы, от которых в дальнейшем трудно освободиться, потому что они кажутся обоснованными, если в них глубоко не вдумываться, а также и потому, что постепенно создается привычка рассматривать факты лишь под определенным углом зрения. Что касается меня, то я не вижу ничего, что указывало бы на существование у растений, у которых эти явления были обнаружены, сознания, умения распознавать и делать выбор, наконец, ничего, что можно было бы сравнить с явлением раздражимости у животных и еще менее — с явлением чувства.
Мне, как и всем вообще, известно, что различные тела природы, как живые, так и неживые, будучи приведены в соприкосновение, воздействуют, вследствие различных своих свойств, друг на друга, особенно когда хотя бы одно из них находится в жидком состоянии. Однако это не дает еще основания предполагать, что эти тела обладают раздражимостью.
Волосок моего гигрометра, который удлиняется в сухую погоду и {93} укорачивается с увеличением влажности, или железный стержень, удлиняющийся при повышении температуры, вовсе не кажутся мне вследствие этого телами, обладающими раздражимостью.
Когда солнце освещает цветущую верхушку подсолнечника [helianthus], ускоряя испарение в тех точках стебля и основания соцветия, на которые падает свет, когда оно сильнее иссушает волокна одной стороны по сравнению с другой и когда вследствие постепенного укорочения этих волокон каждое соцветие поворачивается в ту сторону, откуда падает свет — я не вижу во всем этом проявлений раздражимости, так же как ее нет у согнутой ветки, которая незаметно распрямляется и поворачивает свои листья и верхушку навстречу падающему свету.
Если корни растений проникают главным образом в наиболее влажные места почвы, которые легче поддаются действию растущих корней, требующих нового пространства, то я не считаю себя вправе приписывать им, на основании этого факта, раздражимость, способность получать восприятия, умение делать выбор и т. д. и т. п.
Конечно, повсюду можно наблюдать действия, производимые и сопровождаемые движением тел, приведенных в соприкосновение, но не обладающих ни раздражимостью, ни чувствительностью; ведь подобные движения мы на самом деле видим и у неживых тел. Все эти действия, сопровождаемые движением, имеют место там, где существует сообщенное движение, где проявляется какое-нибудь сродство, где происходит разложение или соединение, наконец, там, где тела подвергаются влиянию тепла или влажности или испытывают результаты спадания частей, расширения, взрыва, разрыва, сжатия и т. д. и т. п. Во всех этих и им подобных случаях нельзя усмотреть (никакой связи между наблюдаемыми при этом медленными или быстрыми движениями и теми движениями у животных, которые обусловлены раздражимостью. Эти последние движения, возникающие только под влиянием возбуждения и происходящие исключительно в тех частях тела, которые способны повторно производить их при каждом действии возбуждающей причины, не наблюдаются ни у каких других тел природы, кроме животных. {94}
Совершенно неоспоримо, что, помимо животных, мы не найдем ни одного примера движения, обусловленного возбуждением, этого своеобразного движения, всегда могущего возобновиться, и в котором отношение между причиной и результатом ее действия неуловимо,— движения, которое является, по-видимому, мгновенной реакцией частей тела на действующую причину и которое совершенно не похоже ни на одно из движений, наблюдаемых у растений.
Но, возразят мне, как понять существование жизни и, следовательно, возможность жизненных движений у растений, если отсутствует причина, способная производить и поддерживать эти движения, если отсутствуют части тела, реагирующие на действия флюидов, короче говоря, если отсутствует раздражимость?
На это я отвечу, что существование жизни у растения, так же как и у животного, легко и просто объяснимо, если принять во внимание те указанные мной условия, которые необходимы для того, чтобы могло происходить явление жизни. У растений эти условия соблюдены несмотря на отсутствие у них раздражимости.
Жизненный оргазм34 необходим для сохранения всякого живого существа, он является выражением того состояния вещей, которое, как я указал, должно существовать в теле — как для того, чтобы оно могло обладать жизнью, так и для того, чтобы могли выполняться его жизненные движения. Этот оргазм, хотя он присущ всем живым телам, у растений едва заметно выражен и не привлек к себе нашего внимания, между тем как у животных он представляет явление выдающееся, хотя до сих пор не получившее еще полного объяснения.
В самом деле, этот оргазм, существующий во всех точках податливых частей всякого живого растения, вызывает в них только особое напряжение, своего рода эретизм, тогда как в податливых и немедуллярных частях всякого животного он обусловливает явление раздражимости. В том и другом случае химический состав плотных частей этих существ определяет различие между двумя видами оргазма.
Особое напряжение, или эретизм, всех точек податливых частей живых растений легко может быть обнаружено, если обратить на {95} него внимание и особенно если сравнить мертвое растение, еще находящееся на прежнем своем месте, с другим индивидуумом того же вида, который еще обладает жизнью.
И вот это напряжение точек податливых частей живого растения, по-видимому, является результатом действия упругих флюидов, которые непрерывно улетучиваются из растения; оставаясь в нем некоторое время прежде чем рассеяться и благодаря последовательному образованию и выделению, они делают эти тела способными поглощать флюиды извне.
У растений оргазм, о котором здесь идет речь, выражен в своей наиболее простой форме. Он действительно настолько слаб, что зачастую достаточно дуновения ветра при большой сухости воздуха, тумана, инея или мороза, чтобы его уничтожить, а это влечет за собой немедленную гибель растения или той из его частей, которая подверглась этому воздействию. Очень часто можно наблюдать, как у мощного и совершенно здорового кустарника, в продолжение двадцати четырех часов и даже меньше того, отмирают ветви или же он полностью погибает под действием одной из указанных мною причин. Но до тех пор пока сохраняется оргазм или особое состояние упругости отдельных точек податливых частей растения, этот оргазм обеспечивает ему возможность поглощать соприкасающиеся с ним флюиды внешней среды, т. е. жидкие флюиды,— при помощи корней, и упругие, или газообразные, флюиды — при помощи листьев и т. д., иными словами,— оргазм наделяет растение способностью жить.
Этим, однако, ограничивается все то, что может быть обусловлено оргазмом. Этот оргазм отнюдь не делает податливые части растений способными вызывать путем внезапных реакций движения внутренних флюидов, иными словами,— жизненные движения, или хотя бы участвовать в них. В этом и нет никакой необходимости, так как у растений движения содержащихся в них флюидов всегда представляют явный результат тех возбуждений, которые вызывают в них тонкие, несжимаемые и проникающие извне флюиды (теплород и электричество ). {96}
Доказательством того, что сказанное мною опирается отнюдь не на беспочвенные предположения, но имеет реальное обоснование, может служить подтверждаемое наблюдением полное соответствие между температурой окружающей среды и активностью процессов вегетации; в соответствии с понижением или повышением температуры произрастание и движение внутренних флюидов то замедляются, то ускоряются.
При сильном понижении температуры, например зимой в нашем климате, те из растений, которые не привыкли переносить сильный холод, погибают; у других, сохраняющих еще свой оргазм, жизненные движения настолько замедляются, что все процессы вегетации почти полностью замирают. Однако, когда холод достигает определенного предела, их оргазм разрушается и начиная с этого момента явление жизни уже не может осуществляться в них.
Теперь, если верно, что оргазм является существенным условием того состояния вещей, которое необходимо, чтобы жизнь могла существовать в теле, и если верно, что оргазм растений только наделяет их способностью поглощать различные флюиды из внешней среды, то становится понятным, с одной стороны, что, когда флюиды проникают путем поглощения в ткани или внутрь трубок растения и делаются его неотъемлемой частью, то для приведения их в движение достаточно действия тонких или несжимаемых флюидов (теплорода, электричества и т. д.) из внешней среды. С другой стороны, становится понятным и то, что, когда с исчезновением оргазма растение утрачивает свою способность поглощать флюиды и, подобно пористым неживым телам, может лишь в большей или меньшей степени, в зависимости от влажности воздуха, впитывать эту влагу,— это растение уже не содержит внутри своего тела собственных флюидов, которые приводились в движение тонкими флюидами из окружающей среды, и начиная с этого момента жизнь уже не существует в нем.
Это отличие живого дерева от мертвого, еще сохранившего связь с корнями, и на которое тонкие флюиды из окружающей среды уже не могут оказать оживляющего воздействия, хотя присутствие в ней {97} этих флюидов не подлежит сомнению, согласуется с наблюдениями и со всеми известными нам фактами. После разрушения оргазма в какой-нибудь из ветвей или во всем дереве в целом жизнь уже не может больше проявляться в тех частях, которые этот оргазм утратили.
Оргазм, которым обладают живые растения и который наделяет всех их способностью поглощать вещества извне, достаточен для того, чтобы они могли жить. Он дает им возможность обходиться без раздражимости — этой способности, обладать которой они не могут вследствие химического состава их частей.
Таким образом, растения совершенно лишены раздражимости, не обладают способностью чувствовать и не могут двигаться. Есть даже основание утверждать, что, как бы велико ни было могущество природы, как бы значительно ни было время, которое она уделяет непрерывному усложнению организации, растения по самой своей сущности таковы, что никогда природа не могла бы наделить их ни способностью самостоятельно двигаться, ни способностью чувствовать, ни, тем более, способностью образовывать представления, пользоваться ими для сравнения предметов, для построения суждений, наконец для того, чтобы различать то, что им может быть полезно, и т. д. Растения всегда сохранят более низкий уровень органических явлений по сравнению с животными и это всегда будет резко отличать их от животных35.
Рассмотрим теперь существенные признаки животных и сопоставим их с признаками растений, чтобы раскрыть имеющиеся между теми и другими различия.
| {98} |

Мы подошли, наконец, к объектам, непосредственно нас интересующим, с которыми мы намерены познакомиться теперь в свете их действительных отношений.
В самом деле, здесь речь идет о животных, о тех своеобразных живых телах, которые способны мгновенно приходить в движение и в большинстве своем могут перемещаться, о живых телах, более разнообразных и более многочисленных но числу видов, чем растения, и по своей организации приближающихся даже к самому человеку.
Кто не знает, что все части поверхности Земли и все воды наполнены этими живыми существами, бесконечно разнообразными по форме, организации и способностям, и что всем им присуща та особенность, что они могут внезапно приходить в движение или приводить в движение некоторые свои части без всякого сообщенного им извне импульса.
И вот, так как эти существа, столь достойные нашего удивления и изучения благодаря присущим им способностям, приближаются к нам по своей организации и так как беспозвоночные животные, которых мы намерены изучать, также относятся к этим существам, попытаемся установить и точно описать наиболее важные признаки, {99} которые их отличают. Обоснование этих признаков будет приведено после их описания.
Животные представляют собой живые тела, обладающие раздражимостью. Существенные признаки их следующие:
1. Они обладают частями [тела], способными мгновенно сокращаться и производить внезапные и повторные движения.
2. Они являются единственными живыми телами, обладающими способностью производить действия, а большинство их — способностью перемещаться.
3. Все движения их частей, как внутренних, так и наружных, вызываются возбуждениями и могут повторяться столько раз подряд, сколько раз они будут вызваны возбуждающей причиной.
4. Между движениями, которые они выполняют, и вызывающей их причиной нет никакого уловимого соотношения.
5. Как плотные их части, так и их флюиды участвуют в жизненных движениях.
6. Они питаются посторонними, сложными по своему составу веществами; большинство из них обладает способностью переваривать эти вещества.
7. Они обнаруживают огромные различия в степени сложности своей организации и присущих им способностей, начиная с существ, имеющих наиболее простую организацию, и кончая такими, которые обладают наиболее сложной организацией и наибольшим числом специальных внутренних органов, так что части [их тела] не могут превращаться одни в другие.
8. Одни из них обладают только раздражимостью, вследствие чего они двигаются только под влиянием внешних возбуждений; другие обладают раздражимостью и чувствительностью, что позволяет им двигаться под влиянием внутренних возбуждений, вызываемых их внутренним чувством; наконец, третьи обладают раздражимостью, чувствительностью и умом, что делает их способными двигаться под {100} влиянием воли, хотя чаще всего они действуют без заранее обдуманного намерения.
9. Их тела не обнаруживают стремления развиваться перпендикулярно плоскости горизонта, а в расположении каналов, содержащих их флюиды, не наблюдается преобладания параллельности.
Вот девять существенных признаков, свойственных всем вообще животным, и очень сильно отличающих их от всякого растения. Все эти девять признаков противоположны признакам, характеризующим растения.
Я уже доказал, что раздражимость совершенно отсутствует у растений, подобно тому как она не может существовать ни в одном неорганическом теле, и что ни одно растение не обладает частями [тела], способными к мгновенным повторным сокращениям. Отсюда следует, что движения, наблюдаемые у различных растений, отнюдь нельзя сравнивать с явлением раздражимости у животных; с другой стороны, зоологам очень хорошо известно, что нет ни одного животного, которое не имело бы частей [тела], способных мгновенно сокращаться. Таким образом, неоспоримая истина, повсюду подтверждаемая фактами, гласит, что животные являются единственными природными телами (по крайней мере «а нашей планете), которые обладают как раздражимыми, так и сократимыми частями и которые способны производить внезапные и повторные движения всякий раз, когда это вызывается возбуждающей причиной. Следовательно, животные являют собой единственные тела природы, способные двигаться под влиянием возбуждения.
При исследовании вопроса об источнике движений животных мы убедимся, что этим источником является только та своеобразная способность их податливых частей, которая дает им возможность внезапно сокращаться при каждом возбуждении и немедленно реагировать на полученное воздействие; поэтому сравнение этих своеобразных движений со всеми другими наблюдаемыми нами движениями должно показать, о чем уже была речь выше, что животные действительно являются единственными телами, к которым применимо сказанное. {101}
У животных, имеющих вполне студенистое тело, например у инфузорий, настоящих полипов и у лучистых с мягким телом, все их плотные части обладают очень высокой раздражимостью, а простота их организации приводит к тому, что всякое возбуждение передается либо значительной части их тела, либо всему телу в целом. Поскольку эти животные находят вокруг себя все то, что может им служить для питания, так как они поглощают все то, что они могут захватить, и удаляют из тела все, что они не в состоянии переварить, им совершенно не нужно производить никаких особых движений для выбора пищи и они не нуждаются в мышцах для выполнения каких-либо движений. В самом деле, мы этих мышц у них и не находим.
Но те животные, которые достигли большей сложности организации, а также те, которые имеют твердые части тела, например кожистые или роговые покровы, панцыри и т. п., обладают более ограниченной раздражимостью и у всех них имеются мышцы, т. е. мясистые раздражимые сократимые части, способные приходить в движение под влиянием внутренних возбуждений. Итак, нет ни одного животного, начиная от монады и до орангутана, которое не обладало бы сократимыми частями [тела].
Вот факты, установленные путем наблюдения в отношении всех без исключения животных, факты, с которыми мы не встретимся ни у растений, ни у каких-либо других природных тел. Значит, именно эти факты должны служить для общей характеристики животных.
Эти вполне установленные признаки будут нам полезны для окончательного решения вопроса о природе некоторых организованных тел, которые одни [ученые] относят к растениям, тогда как другие считают, что они принадлежат к животному царству*. {102}
Разумеется, я не намерен заниматься здесь рассмотрением непосредственных и механических причин различных движений животных, которые они выполняют главным образом при перемещении своего тела, например, при ходьбе, беге, прыжках, полете или плавании. Этим вопросом занимались Аристотель, Борелли, Бартез, Доден и другие37. В настоящей главе речь идет только о самом источнике, из которого животные могут черпать способность к движению.
Я уже упоминал, что если задать себе вопрос о том, каковы физические причины или каков источник тех внезапных движений, которые животные могут выполнять и повторять, то решение этого вопроса будет найдено путем рассмотрения приведенного мною выше факта, а именно: что животные движутся только под влиянием возбуждения и что только им одним в природе это свойственно.
В самом деле, можно путем наблюдения убедиться, что движения животных не могут быть им сообщены, что эти движения не являются результатом какого-либо импульса, сжатия, притяжения или растяжения, словом,— что они не являются результатом гигрометрических или пирометрических воздействий, но возникают благодаря возбуждению, причем возбуждающая причина, действующая на части тела животного, способные внезапно сокращаться, отнюдь не пропорциональна производимому ею эффекту действия.
У неорганических тел и даже у растений движения их плотных или твердых частей могут быть сообщены им только извне или же они обусловливаются тем или иным действием сродства, силой упругости; но они никогда не являются результатом возбуждения. Помимо того, они всегда соответствуют [но своей интенсивности] причинам, которые их производят. Отсюда следует, что законы этих движений поддаются определению, и действительно, они стали основой особой науки, в которой применяется математика и которая получила название механики*. {103}
Наоборот, наблюдаемые у животных внезапные движения происходят только вследствие возбуждения их плотных, но вместе с тем податливых и обладающих сократимостью частей, и мы не можем обнаружить явного соотношения между возбуждающей причиной, ее интенсивностью и произведенными ею движениями. Движения сокращающейся части [тела животного], по-видимому, по самой своей сущности противоположны тем движениям, которые происходят под влиянием физических причин.
Из того, что было мною изложено, видно, что животные чрезвычайно резко отличаются по своей природе от прочих живых тел, не обладающих раздражимостью, т. е. от растений. Эта, исключительно им присущая раздражимость является причиной превосходства в средствах, позволившего природе прогрессивно образовать у животных различные присущие им способности38.
Между тем столь бросающийся в глаза, столь отчетливо разграничивающий признак, как указанный мною, до сих пор не нашел подлинного признания, ибо вплоть до настоящего времени стремятся распространить его и на растения, т. е. на существа, которые вовсе им не обладают.
Разве точно так же не приписывали всем вообще животным способность произвольно двигаться, способность чувствовать, не изучив предварительно, что собственно представляют собой чувствование и воля.
В указанной мною выше статье* в качестве основных органов, характеризующих животную природу, приводятся органы ощущения и движения. Но так как этими органами являются (нервы и мышцы, то всякое животное должно было бы обладать ими. Между тем, {104} поскольку вынуждены были признать, что эти органы отсутствуют у большинства несовершенных животных, предполагалось, что они все же у них существуют, но что они как бы растворены или распылены в обладающем раздражимостью и чувствительностью веществе, образующем тело этих животных.
Далее в той же статье говорится, что способ, которым осуществляется питание, является наилучшим отличительным признаком, позволяющим провести границу между животным и растением. Чтобы доказать это, утверждают, будто все существующие животные имеют пищеварительную полость, снабженную одним или несколькими ротовыми отверстиями. Эти утверждения, доказать которые не старались, потому что установление этих доказательств потребовало бы изучения огромного множества животных, что, естественно, сопряжено с большими трудностями, свидетельствуют о чрезвычайно сильной приверженности к старым взглядам на природу животного, несмотря на то, что современные познания в этой области вынуждают нас отказаться от них. Эти взгляды могут лишь задержать развитие зоологии, и в настоящее время можно сказать, что ни один из них не дает истинных признаков, отличающих животное от растения.
Решительно отвергая эти взгляды, потому что они явно противоречат не только пути, которым следовала природа, создавая сваи произведения, но и прогрессивному порядку образования специальных органов, т. е. тех органов, которые одни только и могут произвести способности, присущие лишь некоторым животным, и главным образом потому, что взгляды эти не предусматривают необходимости тех сложных систем органов, без которых немыслимы способности высшего порядка,— я выдвигаю вместо них нижеследующие и надеюсь привести в их пользу такие доказательства, которые должны будут рано или поздно заставить признать их.
Без сомнения, некоторые наиболее совершенные животные наделены умственными способностями и могут совершать действия под влиянием актов воли, т. е. действия, заранее обдуманные, но неверно, что все животные обладают способностью двигаться под влиянием воли. {105}
Без сомнения, многие животные могут испытывать ощущения, но неверно, что вое животные обладают способностью чувствовать.
Без сомнения, только нервы являются органами ощущений, но неверно, что все нервы способны обусловить чувствование.
Без сомнения, многие животные имеют нервы, но неверно, будто все животные в той или иной мере снабжены ими.
Без сомнения, многие животные способны двигаться при помощи мышц, но неверно, что все животные имеют и могут иметь мышцы.
Без сомнения, очень многие животные обладают пищеварительной полостью — специальным органом пищеварения, но неверно, что у всех животных существует подобная полость, что все животные имеют один или несколько ртов и что все они переваривают пищу.
Конечно, если эти положения обоснованы, то из них следует, что все то, что до сих пор говорилось о животном, совершенно неприемлемо и не может служить прочной основой философии зоологических наук; по всей вероятности, эти ошибочные взгляды проистекают из того, что выводы из наблюдений над наиболее совершенными животными необдуманно распространяли на всех остальных.
Я уже привел мотивы, лежащие в основе некоторых принципов зоологии. В последующем изложении я коснусь других, но предварительно должен выдвинуть следующие существенные положения, или принципы, которые являются выводом из шести основных принципов, приведенных в моем «Введении», и которые находятся в полном согласии со всеми фактами, почерпнутыми из наблюдений.
1. Ни одному виду материи и ни одной частице ее как таковой не присуща способность двигаться, жить, чувствовать, мыслить или иметь представления; если, кроме человека, наблюдаются тела, наделенные либо всеми этими способностями, либо какой-нибудь одной из них, то способности эти следует рассматривать как физические явления, которые природа сумела произвести не путем использования какого-либо вида материи, обладающей той или иной из {106} этих способностей, но при помощи порядка и состояния вещей, установленных ею для каждой организации и для каждой особой системы органов.
2. Всякая способность животного, какова бы она ни была,— явление органическое и представляет собой результат деятельности системы или аппарата органов, которые ее обусловливают, следовательно, она по необходимости зависит от них.
3. Чем к более высокому порядку относится способность, тем сложнее система органов, которая ее производит, и к тем более сложной организации она принадлежит; тем труднее также понять ее механизм. Тем не менее эта способность есть не что иное, как явление, свойственное самой организации, и тем самым явление чисто физическое.
4. Всякая система органов, присущая не всем животным, обусловливает способность, свойственную лишь тем из них, которые данной системой обладают, и если эта специальная система перестает существовать, то перестает существовать и та способность, которую она производила.
5. Всякая специальная система органов, подобно самой организации, подчинена условиям, необходимым для осуществления ее функций, и среди этих условий одним из наиболее существенных является принадлежность данной системы к организации той степени сложности, при которой данная система наблюдается*.
6. Раздражимость податливых частей, будучи свойством, присущим всем животным, хотя и в различной,— в зависимости от их природы,— степени, отнюдь не является продуктом деятельности какой-либо специальной системы органов этих частей, по представляет результат химического состояния веществ, образующих данные живые {107} тела, и того порядка вещей в теле животного, который делает возможным существование в нем жизни.
7. Так как природа совершает все свои действия только постепенно, она не могла произвести всех животных за один раз. Сначала она создала только наиболее простых из них и, переходя от них к более сложным, последовательно установила у них различные системы специальных органов, умножила число последних, постепенно увеличила их энергию н, сосредоточив эти органы у наиболее совершенных животных, создала всех известных нам животных с той их организацией и теми способностями, которые мы у них наблюдаем. Итак, либо природа вообще ничего не создала, либо она действовала именно таким путем.
Будучи глубоко убежден, на основании изучения животных, в том, что эти принципы вполне обоснованы, я отныне намерен руководствоваться исключительно ими при описании способностей, которыми обладают рассматриваемые нами животные.
Но предварительно следует дать точное определение каждого из главных подразделений тех природных тел, признаки которых были подробно рассмотрены мною. Эти главные подразделения следующие: тела неорганические и тела живые, а среди этих последних — растения и животные.
Определение каждой из двух, первичных групп, на которые подразделяются, создания природы,
Неорганические тела — это те тела, у которых состояние частей препятствует осуществлению в них явления жизни, каковы бы ни были отношения этих тел с внешними возбуждающими причинами.
Живые тела — это те тела, у которых порядок вещей и состояние частей позволяют возбуждающим причинам производить в них явление жизни, влекущее за собой многие другие явления.
Определение каждой из двух главных групп, на которые под разделяются живые тела
Растения представляют собой живые тела, не обладающие раздражимостью, не способные к мгновенному и повторному сокращению {108} ни одной из своих частей и лишенные способностей производить действия и перемещаться.
Животные представляют собой живые тела, обладающие раздражимыми частями, способными к мгновенному и повторному сокращению, что наделяет всех их способностью производить действия, а большинство из них — способностью перемещаться.
Эти определения ясны, точны, неопровержимы и не допускают никаких исключений.
Если сопоставить теперь признаки животных с вышеприведенными признаками растений, можно убедиться в реальности резкой разграничительной линии, которую природа провела между живыми телами того и другого рода. Следовательно, авторы, указывающие на. существование незаметного перехода от животных к растениям через: полипов и инфузорий, которых они называют зоофитами, или животными-растениями, тем самым доказывают, что они не имеют правильного представления ни о природе животного, ни о природе растения и, заблуждаясь сами, они вводят в заблуждение всех тех, кто имеет поверхностные знания в этой области.
Полипы и инфузории очень далеки от какого-либо растения, потому что из всех животных именно они обладают наиболее сильно развитой раздражимостью и способностью к внезапному сокращению частей [своего тела].
Я уже отмечал, что если можно в каком-либо отношении сближать очень несовершенных животных, как, например, инфузорий, полипов и т. д., с водорослями, грибами, лишайниками и другими, тоже весьма несовершенными растениями, то лишь с точки зрения простоты организации тех и других.
И вот, так как путь, которым следует природа, один и тот же, а ее действия всегда подчинены одним и тем же законам, то очевидно, что, если для создания растений и животных она пользовалась в одном случае — материалами определенного состава, а в другом — материалами совершенно иного химического состава, то результат ее действий в первом случае не мог быть подобен тому, которого она достигла во втором. Так и произошло в действительности. {109}
Природа, весьма ограниченная в своих средствах в отношении растений, не могла наделить их раздражимостью. По сравнению с животными, наблюдаемые у этих живых тел явления, в результате отсутствия указанной способности, остались на гораздо более низком уровне. Наконец, так как природа начала создавать тех и других одновременно, то растения и животные отнюдь не образуют единой цепи, но представляют собой с момента своего возникновения две самостоятельные ветви, не имеющие между собой ничего общего, кроме простоты организации. Все это подтверждается наблюдениями над этими двумя видами живых тел и изучением природы.
Теперь, когда мы знаем, что представляет собой животное, и даже умеем отличать самое несовершенное животное от самого простого по организации растения, мы должны рассмотреть множество очень важных вопросов, касающихся животных, если хотим их действительно изучить.
Доказано, что все создания природы не образуют единой цепи и что такой цепи не образуют даже все живые тела, ибо растения не связаны с животными настоящим постепенным переходом. Чтобы показать единство плана39, которому следовала природа при образовании животных, я намерен рассмотреть во второй части настоящего труда наличие постепенного усложнения организации животных, увеличения числа и возрастания совершенства тех способностей, которые они благодаря этому усложнению получают.
| {110} |

Теперь речь идет о том, чтобы установить существование факта, заслуживающего полного внимания со стороны тех, кто изучает природу, исследуя животных, факта, смутно угадывавшегося в продолжение многих веков, никогда полностью не осознанного, факта, который всегда изображался в преувеличенном или искаженном виде и служил основой для всякого рода фантастических предположений.
Этот факт, самый важный из всех тех, которые были замечены при наблюдении живых тел, состоит в существовании постепенного усложнения организации животных и в соответственном увеличении числа и возрастании совершенства способностей этих существ.
В самом деле, если обозревать от одного конца до другого общий ряд известных нам животных, распределенных согласно их естественным отношениям, начав с наименее совершенных из них, и подниматься от класса к классу, от инфузорий, которыми начинается этот ряд, до млекопитающих, которыми он заканчивается, то при рассмотрении состояния организации различных животных можно обнаружить неопровержимые доказательства нарастающей сложности их организации и соответственного увеличения числа и возрастания совершенства тех способностей, которые они благодаря этому получают. В настоящее время убедились, что постепенное усложнение, о котором здесь идет речь,— реальный факт, подтвержденный наблюдениями, а не только плод умственных построений. {111}
После того как я доказал всю очевидность этого факта, мне стали приписывать, будто я имею в виду существование непрерывной цепи, образуемой всеми живыми существами, от самого простого до самого сложного, цепи, звенья которой связаны между собой незаметными, постепенно переходящими друг в друга признаками. Между тем именно мною были установлены подлинные различия между растениями и животными и я показал, что если даже растения, по-видимому, связаны с животными в какой-нибудь точке их ряда, хотя и не образуют с ними общей цепи, или лестницы, составленной из последовательных ступеней, то все же те и другие представляют собой две самостоятельные ветви, весьма четко отграниченные одна от другой и сближающиеся лишь у своего основания вследствие простоты организации помещающихся там существ. Некоторые даже думали, что я имел в виду цепь, якобы образуемую всеми природными телами, и утверждали, что эта цепь — не что иное, как воспроизведение идей Бонне и многих исследователей после него. Было бы уместно добавить, что это вообще одна из наиболее древних идей, так как мы находим ее в произведениях греческих философов. Однако эта идея, которая, быть может, имеет своим источником смутное понимание того, что действительно наблюдается у животных, и не имеющая ничего общего с тем фактом, который я намерен установить, была окончательно опровергнута наблюдениями над различного рода телами, в настоящее время хорошо изученными.
Разумеется, я нигде не говорил о подобной цепи; напротив, я подчеркивал, что между телами неорганическими, с одной стороны, и телами живыми — с другой, существует глубокий разрыв и что растения ни в одной точке своего ряда не позволяют обнаружить постепенные переходы к животным. Скажу больше: я утверждал, что даже животные, при рассмотрении которых вскрывается тот факт, который я намерен показать, отнюдь не связаны между собой таким образам, чтобы они могли образовать простой ряд с правильными ступенями на всем его протяжении. Да и вообще во всем том, что я собираюсь установить, вопрос вовсе но идет о подобной цепи, ибо эта цепь вообще не существует. {112}
Предмет, подлежащий здесь нашему рассмотрению, касается постепенного усложнения организации животных, которое может быть обнаружено только при обозрении больших групп или классов; при этом степень сложности организации определяется на основе рассмотрения в каждом отдельном случае всей совокупности ее частей, т. е. организации в целом. Итак, речь идет о том, чтобы выяснить, существует ли это постепенное усложнение в действительности, везде ли и число и степень совершенства способностей, присущих животным, находится в соответствии с этим усложнением и можно ли на самом деле считать это постепенное усложнение реальным фактом или же оно не более как умственное построение40.
Если существование постепенного усложнения, о котором здесь идет речь,— факт доказанный, имеющий общее значение, и если этот факт является результатом действия причины, имеющей столь же общее значение, то совершенно неважно для рассматриваемого вопроса, имеются ли в частях той лестницы животных, которая воспроизводит это постепенное усложнение, разрывы и отклонения в системах специальных органов, находящихся на различных ступенях организации. Я имею здесь в виду те разрывы и отклонения, причины которых я указал в моей «Philosophie zoologique».
В самом деле, было признано, что в распределении животных можно установить своего рода последовательность, которая как бы указывает на постепенное удаление от первичной формы, и что при помощи этого метода можно построить лестницу, ступени которой ведут либо от более сложного к более простому, либо от более простого к более сложному. Однако возражали, что для установления подобного единого ряда необходимо всегда рассматривать организацию животного в совокупности ее частей, ибо, если бы мы стали исходить из сравнения отдельных органов, нам пришлось бы образовать столько различных рядов, сколько мы взяли бы за основу органов, так как не все органы следуют одному и тому же порядку деградации. Это показывает, как утверждали, что для того чтобы построить общую лестницу, воспроизводящую совершенствование организации, потребовалось бы предварительно выяснить общий {113} результат каждого сочетания, а это почти неосуществимо (Сuvier, Anatomie comparee, т. Т, стр. 59)41.
Первая часть этого рассуждения, без сомнения, вполне обоснована, однако этого нельзя сказать, как мне кажется, о последующих положениях и в особенности о выводах, поскольку в них говорится « необходимости приема, который я нахожу совершенно бесполезным и заключающим в себе много произвольного. Этот вывод может показаться убедительным тем, кто недостаточно исследовал рассматриваемый вопрос и кто мало уделяет внимания изучению природы.
Вот пример ошибочных рассуждений по поводу наблюдаемых предметов,— рассуждений, основанных на допущении одной единственной действующей причины указанного выше постепенного усложнения организации, без предварительного исследования вопроса о возможности иной причины, которая могла бы изменить в некоторых случаях результаты действия первой. В самом деле, во всех этих фактах видели лишь следствия одной единственной причины, что объясняется господствующим представлением о действиях природы. Между тем легко заметить, что факты, о которых здесь идет речь, обязаны своим происхождением двум весьма различным причинам, из которых одна, будучи неспособна уничтожить превосходство другой, тем не менее весьма часто видоизменяет ее результаты. План действий природы при создании животных ясно отражен в этой первой и преобладающей причине, которая наделяет животную жизнь способностью постепенно слагать организацию и последовательно усложнять и совершенствовать не только организацию в целом, но и каждую специальную систему органов, по мере того как природа образует последние. Этот план, т. е. это непрерывное усложнение организации у различных известных нам животных, действительно был осуществлен этой первой причиной.
Но другая причина, чуждая этой первой причине, случайная, а потому изменчивая, нарушила кое-где выполнение этого плана, хотя, как я намерен доказать это, не уничтожила его. Эта причина действительно вызвала в одних случаях подлинные перерывы ряда, в других — образование слепо заканчивающихся ответвлений, уничтожив {114} тем самым его простоту, наконец, кое-где она привела к тем отклонениям, которые наблюдаются в системах специальных органов различных животных. Вот почему среди животных одного и того же класса и даже у тех, которые принадлежат к одному и тому же вполне естественному семейству, часто наблюдается, что наружные органы и даже системы специальных внутренних органов в частностях своего строения не всегда отражают ход непрерывного усложнения организации. Эти отклонения не мешают, однако, весьма отчетливо распознать это усложнение в группах, образующих классы того ряда, который составляют животные. Указанная нами случайная причина могла вызвать нарушения упомянутого выше постепенного усложнения организации только в отдельных частностях, но не могла коснуться основного направления развития организации.
Я показал в «Philosophie zoologique», (ч. 1, стр. 332), что эта вторая причина заключается в тех чрезвычайно отличающихся друг от друга обстоятельствах, в которых оказались различные животные, распространившись по разным точкам земного шара и в глубинах его вод. Эти обстоятельства и заставили животных изменить свои действия, образ жизни и привычки и вызвали также весьма неправильное изменение не только их наружных частей, но даже то одной, то другой части их внутренней организации.
Смешение этих двух столь различных предметов, а именно: с одной стороны — силы, свойственной самой жизни [pouvoir da la vie], присущей животным, силы, непрерывно стремящейся к усложнению; организации, к образованию и умножению числа специальных органов, наконец, к увеличению числа и возрастанию совершенства способностей, и, с другой стороны — случайной и изменяющей причины [cause modifiante], результатом действия которой являются различные отклонения, возникающие во всем том, что производит сила жизни42,— повторяю, это смешение двух факторов явилось причиной того, что не уделяли никакого внимания плану природы и тому непрерывному усложнению организации, существование которого я намерен доказать. Оно же давало повод отрицать важность рассмотрения «того усложнения при изучении животных. {115}
Посмотрим теперь, как можно убедиться в реальности упомянутого плана и как представить в надлежащем свете этот план, которому природа неуклонно следует, сохраняя его на всех ступенях лестницы, несмотря на посторонние причины, видоизменяющие в тех или иных местах его результаты. Если мы станем обозревать общий ряд животных, следуя при этом традиции, т. е. пойдем в направлении от наиболее совершенных из них к самым несовершенным, то увидим, что у первых существует большое число специальных органов, весьма отличающихся один от другого, между тем как у последних мы уже не найдем ни одного из этих органов. Факт этот неоспорим. Мы увидим, несмотря на это, что повсюду индивидуумы каждого вида наделены всем тем, что им необходимо для жизни и воспроизведения в пределах отпущенных им способностей. Мы увидим далее, что везде, где та или иная способность не является необходимой, органы, которые могут ее обеспечить, совершенно отсутствуют.
Таким образом, внимательно изучая организацию известных нам животных, переходя при этом от более сложных к более простым, мы увидим, что все без исключения специальные органы, столь многочисленные у наиболее совершенных животных, один за другим деградируют, непрерывно, хотя и неравномерно уменьшаются, по мере того как мы приближаемся к основанию ряда.
Органы пищеварения, как наиболее полезные для животных, исчезают последними, но и они перестают существовать прежде, чем мы достигнем основания ряда, потому что они являются специальными органами, не обязательными для существования жизни вообще и ими обладают лишь те существа, которым они необходимы.
Рассмотрим теперь известные факты, на основании которых можно установить существование интересующего нас постепенного усложнения.
Факты, на которые опираются, доказательства постепенного усложнения организации животных
Первый факт. Не все животные похожи друг на друга по наружной и внутренней организации их тела. Мы находим среди них {116} многочисленные, постоянные и очень значительные различия, так что в этом отношении между ними наблюдается огромное несходство.
Второй факт. Общеизвестно и признано, что в отношении организации человек приближается к животным, в особенности к некоторым из них.
Третий факт. Можно признать вполне достоверным фактом и очевидной истиной, что из всех видов организации животных именно организация человека является самой сложной и самой совершенной, как в целом, так и в отношении тех способностей, которыми она его наделяет*.
Четвертый факт. Из всех видов организации — организация человека является самой сложной и самой совершенной; по своей организации человек связан с животными; наконец, животные по своей организации более или менее значительно отличаются друг от друга. Следовательно, не подлежит никакому сомнению, что одни животные по своей организации очень близки к человеку, другие в том же отношении дальше от него и, наконец, третьи стоят очень далеко от него.
Из этих четырех фактов, настолько известных и настолько очевидных, что против них нельзя привести каких-либо разумных возражений, неизбежно вытекает следующее заключение: организация человека является самой сложной и самой совершенной из всех видов организации, созданных природой. Поэтому можно утверждать, что чем больше организация животного приближается к организации человека, тем она сложнее и тем большего совершенства она достигла, и наоборот: чем дальше данная организация от организации человека, тем она проще и тем менее совершенна**. {117}
Теперь, руководствуясь ранее сделанным выводом, а именно тем, что чем больше организация животного приближается к организации человека, тем она сложнее и тем ближе к совершенству, и наоборот: чем больше она удаляется от него, тем она, следовательно, проще и несовершеннее,— попытаемся показать, что различные животные в отношении сложности их организации в целом действительно образуют легко различимый правильный ряд, в котором нет места произволу.
Для большего практического удобства будем переходить от более сложного к более простому и попытаемся исследовать на основе фактов, действительно ли существует тот порядок, о котором здесь идет речь.
Если исследуемое нами усложнение и совершенствование организации животных действительно существует, то, обозревая общий ряд животных в направлении от более сложного к более простому, т. е. начав наше исследование с животных, имеющих наиболее сложную организацию, и закончив его животными, наиболее простыми в {118} этом отношении — наиболее несовершенными, мы должны будем обнаружить постепенную деградацию их организации от класса к классу.
В ходе этого рассмотрения мы должны будем заняться прежде всего позвоночными животными, так как именно они обладают наиболее сложной, наиболее богатой способностями организацией, ближе всего стоящей к организации человека. Изучая этих животных, мы увидим, что план их организации, достигший той или иной ступени развития у каждого из их видов и подвергшийся большему или меньшему изменению под влиянием обстоятельств, в которых каждый из этих видов находится, включает в себя также организацию человека, которая служит прекрасным завершением этого особого плана.
Итак, не вдаваясь в многочисленные подробности, ставшие нам известными благодаря сравнительной анатомии и увеличившие число доказательств, на которые мы можем опираться, отметим, что внимательное изучение позвоночных животных убеждает нас в следующем:
1. Из всех известных нам позвоночных животных млекопитающие ближе всего стоят к человеку по своей организации. Это единственные животные, размножающиеся подобно человеку, тем половым способом, который получил название подлинного живорождения. Они достигли большего развития плана организации, чем все прочие животные и, следовательно, именно среди них мы найдем наиболее совершенных животных.
2. Среди млекопитающих, или из всех животных с млечными железами, ближе всего по своей организации стоят к человеку коготные («Philosophie zoologique», ч. I, стр. 421). Эта организация наделяет их большим числом способностей, чем животных других отрядов. Среди коготных мы находим отдельные семейства, отличающиеся от других семейств того же отряда еще большей близостью к человеку. В самом деле, головной мозг четвероруких со всеми его придатками имеет, после головного мозга человека, наибольший объем сравнительно с размером их тела. Следовательно, они имеют самый {119} развитый, после человека, орган ума. Помимо того, у животных, относящихся к упомянутым семействам, концы лап в большей мере, чем у других коготных, приспособлены для схватывания и осязания предметов, что позволяет им судить о форме или о других свойствах этих последних, иными словами, облегчает пользование ими. Таким образом, организация четвероруких действительно является наиболее совершенной из всех видов организации животных. В других семействах того же отряда наблюдается возрастающая деградация, которая влечет за собой обеднение способностями.
3. Помимо деградации, наблюдаемой уже среди различных видов коготных млекопитающих, деградация, о которой идет речь, еще сильнее выражена среди копытных млекопитающих, ибо эти животные имеют тело более грузное, более неповоротливое, пальцы менее раздельные, менее свободные, менее чувствительные, поскольку они покрыты рогом. Копытные отличаются меньшей ловкостью; они могут пользоваться своими конечностями только для поддержания или перемещения своего тела; они не способны ни сидеть, ни отдыхать, опираясь на заднюю часть тела, и уже утратили те высокие способности, которыми обладают коготные млекопитающие. Среди самих копытных наблюдается заметная деградация: так, толстокожие имеют менее измененные конечности, чем парнокопытные и непарнокопытные.
4. Переходя от млекопитающих к птицам, мы убеждаемся, что организация этих последних подверглась более существенным изменениям, еще более отдалившим их от организации человека. В самом деле, подлинное живорождение, свойственное человеку, отсутствует у них и уже не появляется вновь. Неверно, что можно найти действительно живородящих животных в каком-либо классе, кроме млекопитающих, т. е. среди рептилий, рыб и т. д., несмотря на то, что у упомянутых животных детеныши нередко вылупляются из яиц уже в утробе матери (так называемое яйцеживорождение). Мы видим, что, начиная с птиц, грудной отдел уже не отделяется от брюшного полной перегородкой (диафрагмой), которая вновь появляется у некоторых рептилий и в дальнейшем окончательно исчезает. Наружные {120} половые органы самок у птиц уже не отделены от клоаки; у самцов нет наружных половых органов; отсутствует у птиц и ушная раковина. Начиная с птиц, животные утрачивают способность ложиться на бок и отдыхать на боку.
5. Переходя от рассмотрения птиц к рептилиям, можно обнаружить, что организация этих животных претерпела еще более существенные изменения, сделавшись менее совершенной, и еще больше отдалилась от организации человека. Сердце не у всех рептилий имеет два не сообщающихся между собой желудочка; степень теплоты крови почти не превышает таковую окружающей среды; у всех рептилий только часть крови подвергается при каждом ее круговороте воздействию со стороны легочного дыхания, а сами легкие не всегда парные (например, у змей ). По мере того как легкие приближаются к той форме, в которой они появляются впервые, их ячейки делаются более крупными и менее многочисленными. Головной мозг заполняет полость черепа не полностью; скелет представляет большие изменения в отношении строения и полноты его частей (отсутствие ключиц у крокодилов, грудной кости и таза у змей ). Ослабление активности жизненных движений и обусловленные этим изменения позволяют многим животным этого класса долгое время оставаться живыми, не принимая пищи (черепахи, змеи ). Наконец, если у представителей первых отрядов рептилий сердце еще имеет два предсердия, то у животных последнего отряда существует всего одно единственное предсердие44.
6. Дойдя до рыб, можно заметить, что их организация отдаляется от организации человека в еще большей мере, чем организация рассмотренных нами животных, и что, следовательно, она подверглась еще большей деградации, стала еще более несовершенной, чем у животных, о которых речь была выше, если оставить в стороне особенности их организации, обусловленные влиянием плотной среды, в которой они обитают. Действительно, мы не находим больше у рыб органа дыхания, имеющегося у более совершенных животных: настоящие легкие, которые мы не встретим больше ни у одного животного следующих классов, заменены здесь жабрами, органом, обладающим {121} гораздо более слабым дыхательным действием; поэтому для устранения неудобства, обусловленного этим существенным изменением, природа заставила всю кровь проходить через этот орган, прежде чем направить ее в различные части тела, чего она не сделала у рептилий. Грудь или та часть тела, которая ей соответствует, переместилась у рыб под горло, оказавшись, вследствие этого, у основания головы. Нет больше и уже не встретятся ни дыхательное горло, ни гортань, ни настоящий голос; веки, отсутствовавшие уже у змей, отсутствуют и здесь и не появляются в дальнейшем. У рыб есть только внутреннее ухо, без ушной раковины и наружного слухового прохода. Весьма несовершенный и подвергшийся своеобразным изменениям скелет всегда лишен таза и близок к полному исчезновению, а у животных последнего отряда этого класса (у миног) скелет едва намечен и с ними и заканчивается.
Доставляемые позвоночными животными доказательства постепенной деградации организации, начиная с наиболее совершенной организации у четвероруких и кончая наиболее несовершенной у рыб, иными словами,— доказательства непрерывного уменьшения сложности и совершенства организации (по мере перехода от класса к классу в направлении к тем животным, которые по своей организации больше всего удаляются от человека), становятся все более и более явными и убедительными, если распространить то же исследование на беспозвоночных животных.
Продолжая наши исследования и накопляя факты, которые нам дает наблюдение над беспозвоночными животными, мы приходим к следующим выводам:
1. Рыбами полностью заканчивается особый план организации позвоночных животных и, следовательно,— существование скелета, который составляет главную часть этого плана; и действительно, {122} после рыб исчезает спинной мозг, так же как и позвоночный столб, эта основа всякого настоящего скелета. Следовательно, исчезает и сам скелет, этот костный и расчлененный остов, представляющий собой необходимую часть организации человека и наиболее совершенных животных, остов, который обеспечивает мышцам многочисленные точки прикрепления и тем самым дает им возможность совершать разнообразные и мощные движения и наделяет их большой силой без ущерба для их подвижности. Эта часть тела, повторяю, окончательно уничтожается и в дальнейшем не появляется вновь ни у одного из животных следующих классов, ибо неверно, что превращенная в панцырь, более или менее твердая кожа некоторых животных и каменистые членики, поддерживающие лучи морских звезд или образующие стебелек энкринитов, соответствуют скелету позвоночных животных45. После рыб все известные нам животные построены по плану организации, сильно отличающемуся от плана организации человека, т. е. от плана, который допускает особый орган ума, орган голоса, настоящие легкие для дыхания, лимфатическую систему, органы для отделения мочи и т. д. и т. п.
2. Моллюски, не будучи связаны никакими переходными формами с известными нам рыбами (разве только, не изученные пока киленогие46 явятся когда-нибудь такими переходными формами), должны, тем не менее, стоять на первом месте среди всех безпозвоночных животных, так как из всех животных этого раздела животного царства, по-видимому именно у них организация достигла наиболее высокой степени развития, несмотря на то, что вследствие особого состояния своей организации моллюски оказались весьма пригодными для осуществления у них того изменения, которое природа должна была выполнить, чтобы создать организацию позвоночных животных. Моллюски еще более несовершенны и еще более далеки от организации человека, чем рыбы, потому что они лишены позвоночного столба и не принадлежат более к плану организации, который его допускает. Будучи лишены как спинного, так и узловатого продольного мозга, они имеют лишь головной мозг, несколько ганглиев и нервы; все это уменьшает их чувствительность; последняя присуща всей {123} наружной поверхности их тела. Наконец, то обстоятельство, что эти животные с их мягким и нечленистым телом способны выполнять только медленные и вялые движения, объясняется тем, что природа, готовясь к образованию скелета, перестала применять у них уплотненные покровы и членистость тела — средства, которыми она пользовалась начиная с насекомых47. Поэтому мышцы моллюсков имеют под кожей лишь очень слабые точки опоры.
3. Усоногие, кольчецы и ракообразные в отношении уменьшения сложности и совершенства организации не представляют никаких заслуживающих внимания особенностей, если не считать того, что они по своей организации ниже моллюсков и вследствие этого еще дальше от организации человека, так как наличие узловатого продольного мозга сближает их нервную систему с нервной системой насекомых. Однако, если принять во внимание систему циркуляции их флюидов и способ дыхания, необходимо будет признать, что все они не столь несовершенны. Наконец, ракообразные являются последними из животных, у которых еще наблюдаются следы органа слуха и печень.
4. Дойдя до паукообразных, столь близко стоящих к насекомым, но, тем не менее, сильно отличающихся от них, мы видим, что организация этих животных еще более, чем у животных предшествующих классов, отдаляется от организации человека. В самом деле, система органов, служащая для циркуляции флюидов, лишь едва намечена у некоторых животных этого класса и окончательно исчезает у прочих: в дальнейшем мы уже нигде не встретим ее, несмотря на то что у многих животных следующих классов движение циркулирующих в теле или различных выделяемых флюидов может еще осуществляться при помощи настоящих сосудов. Способ дыхания жабрами также сходит здесь на нет и жабры представлены лишь небольшим числом зачатков. Этот способ дыхания вытеснен здесь, как об этом свидетельствуют наблюдения Латрейля, дыханием при помощи воздухоносных трахей, то разветвленных, то в виде двойных тяжей с ганглиями, как у насекомых. Все сложные железы, по-видимому, отсутствуют здесь и уже больше не встречаются у животных {124} последующих классов. Таким образом, эти животные по своей организации еще дальше стоят от человека, чем даже ракообразные, у которых еще можно обнаружить печень.
5. Дойдя до насекомых — этого класса столь многочисленных, столь многообразных и даже изящных животных, мы убеждаемся, что по своей организации они еще больше отдаляются от организации человека, чем паукообразные и все те животные, которые предшествуют им, так как от имеющей столь важное значение системы циркуляции флюидов при помощи артерий и вен здесь не осталось и следа. Система органов дыхания, представленная воздухоносными трахеями, не древовидными, но в форме двойных тяжей со вздутиями, не сосредоточена в определенном месте, но разветвлена по всему телу, органами выделения желчи служат несоединенные между собой сосуды. Чувствительность выражена у этих животных весьма слабо: насекомые являются последними животными, которым еще свойственно это органическое явление; головной мозг низведен у них до ничтожного зачатка, их половые органы выполняют свои функции всего один раз в продолжение всей жизни; наконец, кровь, природа которой постепенно обедняется по мере перехода от наиболее совершенных животных к менее совершенным, у насекомых уже не циркулирует и представлена почти бесцветной жидкостью (sanie), которую уже неуместно называть кровью*. {125}
6. Продолжая спускаться по лестнице животных, мы увидим, что черви, следующие за насекомыми после некоторого перерыва (hiatus), который, быть может, когда-нибудь заполнят эпизои (epizoaria)48, обнаруживают еще более значительное упрощение организации, чем то, которое наблюдается у насекомых и у упомянутых выше животных. Таким образом, организация червей еще дальше от той организации, с которой ее сравнивают, т. е. дальше от нее, чем организация всех прочих животных, следовательно,— и чем организация насекомых. У червей действительно отсутствует как головной мозг — этот объединяющий центр, обусловливающий чувствование,— так и узловатый продольный мозг, который, начиная с насекомых и до моллюсков, был так полезен для движения частей тела; у них нет больше ни головы, ни глаз, ни специальных органов чувств; исчезают и воздухоносные трахеи, служащие для дыхания, отсутствует общая форма тела с парными частями; у них нет настоящих челюстей и даже половое воспроизведение, по-видимому, исчезает на протяжении этого класса; пол неотчетливо выражен у одних червей и совершенно неразличим у других49. Эти животные, образующие особую ветвь, находящуюся вне общего ряда, обнаруживают огромные различия организации, откуда следует, что самые несовершенные из них действительно имеют очень простую организацию и, по-видимому, произошли путем самопроизвольного зарождения50. {126}
7. Дойдя до лучистых, мы убеждаемся, что несовершенство организации у животных этого класса не только сохраняется, но даже: продолжает возрастать; не подлежит сомнению, что у всех их совершенно отсутствует половое воспроизведение. Мы находим у них только скопления воспроизводительных телец, не требующих никакого оплодотворения51. У иглокожих лучистых еще существуют сосуды для передвижения и переработки их флюидов, однако без настоящей циркуляции, но у лучистых с мягким телом52, по-видимому, впервые появляется простой способ впитывания питательного флюида частями тела, а те сосуды, которые еще можно обнаружить у них, по всей вероятности, являются частью их органа дыхания. У лучистых, как и у червей, нет ни головного, ни продольного мозга, ни головы, ни каких-либо органов чувств. Именно у этих животных пищеварительный орган отличается крайне несовершенным устройством: у многих из них простой или снабженный боковыми выростами пищеварительный канал имеет одно единственное отверстие, одновременно служащее ротовым и анальным; наконец, ритмические движения тех из лучистых, которые имеют совершенно мягкое тело, представляют собой, как я это докажу в дальнейшем, результат возбуждений, получаемых извне. Следовательно, эти животные по своей организации стоят еще дальше, даже дальше, чем черви, поскольку у многих червей еще можно различить пол, от той организации, с которой мы их сравниваем.
8. Полипы, которые в ходе нашего рассмотрения следуют за лучистыми, не являются все же последним звеном цепи животных. Они еще более несовершенны, еще проще по своей организации, еще дальше отстоят от нашей отправной точки, чем лучистые. И действительно, полипы содержат внутри своего тела один единственный специальный орган, а именно — орган пищеварения, в котором иногда развиваются внутренние почки. Тщетно было бы искать у настоящих полипов какие-либо другие внутренние органы помимо пищеварительного канала, имеющего у различных семейств различную форму. У полипов этот орган все более и более упрощается и в конце концов приобретает форму мешка с одним единственным отверстием, {127} как мы это видим, например, у гидр и т. д. Только воображение могло произвольно допустить, что у этих животных существует все то, что хотели бы у них видеть. Можно с полной уверенностью сказать, что у полипов необходимый для жизни и одновременно питательный флюид способен лишь впитываться в части тела животного и медленно двигаться внутри вещества их тела, т. е. в клеточной ткани, заполняющей промежуток между наружными покровами и пищеварительной трубкой или пищеварительным каналом.
9. Наконец, инфузории53 — последнее звено обозреваемой нами цепи, в особенности голые инфузории, являются самыми несовершенными из известных нам животных, иными словами, самыми простыми по своей организации живыми телами, еще дальше отстоящими от выбранной нами отправной точки сравнения. Эти животные действительно не имеют ни одного постоянного и отчетливо выраженного специального внутреннего органа даже для пищеварения. Как и у полипов, у них отсутствуют все прочие известные специальные органы, и они лишены даже имеющегося у последних пищеварительного канала или мешковидной полости и, следовательно,— ротового отверстия; организация упрощена у них до такой степени, что обеспечивает им только животную жизнь, не наделяя их ни одной способностью сверх тех, которые вообще свойственны всем живым телам, ни даже раздражимостью частей. Инфузории представляют собой чрезвычайно небольшого размера студенистые тельца, обладающие крайне незначительной плотностью, питающиеся путем поглощения при посредстве наружных пор, способные производить движения и сокращаться под влиянием внешних возбуждений, иными словами,— это не более как точки, получившие признаки жизни. В приведенном кратком обзоре общего ряда животных, выполненном нами в порядке, обратном тому, которому следовала природа, я показал, что, начиная с человека, рассматриваемого исключительно с точки зрения его организации54, и кончая инфузориями, в частности — монадой, существует огромное различие как в организации различных животных, так и в тех способностях, которыми эта организация их наделяет. Это неравенство, выявленное с наибольшей {128} очевидностью при сопоставлении обоих концов ряда, объясняется тем, что животные, составляющие этот ряд, по степени сложности своей организации мало-помалу, одни в большей, другие в меньшей мере, отдаляются от организации человека.
Вот факты, в настоящее время неоспоримые, потому что они совершенно очевидны, обусловлены самой природой, потому что они неизменно оказываются такими же всякий раз, когда мы берем на себя труд их изучать.
Рассмотрение всей совокупности этих фактов без сомнения когда-нибудь заставит зоологов постичь истинный план действий природы, касающихся существования животных, так как вовсе не случайно, что, обозревая общий ряд их в том направлении, которому мы следовали здесь, мы всегда найдем ясно выраженное, возрастающее упрощение организации различных животных, составляющих этот ряд.
Кому не ясно, что, идя в обратном направлении, мы встретим постепенное возрастание сложности организации животных, начиная от монады и до орангутана, и даже постепенное совершенствование каждого специального органа, несмотря на то что посторонние причины в том или ином месте видоизменяют результаты этого непрерывного усложнения! Кому не понятно также, что если идти этим последним путем, то план действий, которому следовала природа, когда создавала различных животных, обнаружится с такой ясностью, что трудно будет не признать его!
Рассуждение, приводимое ниже, проливает яркий свет на основные явления организации, наблюдаемые у животных, и убеждает нас в том, насколько обоснован взгляд, что организация различных животных претерпевает постепенное усложнение, доказательства которого были приведены мною выше.
У самых несовершенных животных, например у инфузорий и полипов, вследствие большой простоты их организации жизнь каждой отдельной точки не зависит от жизни прочих точек этого же тела. Отсюда следует, что какую бы часть мы ни отделили от этого столь простого живого тела, оно может продолжать жить, быстро {129} восстанавливая при этом то, что утратило. Отсюда следует также, что часть этого тела, будучи отделена от целого, способна, со своей стороны, продолжать жить, так что она вскоре воспроизводит тело, совершенно подобное тому, от которого произошла.
Но по мере усложнения организации, по мере того как увеличивается число специальных органов и животные становятся менее несовершенными, жизнь каждой точки их тела делается зависимой от жизни других точек его. И, несмотря на то, что со смертью индивидуума умирает, одна за другой, каждая специальная система органов, даже те из них, которые переживают все прочие, сохраняют свою жизнь лишь в течение нескольких часов после смерти индивидуума и, в свою очередь, неминуемо гибнут, потому что их зависимость от прочих систем органов всегда приводит к этому. Замечено даже, что у млекопитающих и у человека часть мышцы, утраченная вследствие ранения, не способна вырасти заново; рана зарубцовывается при заживлении, но мясистая часть мышцы, будучи удалена или разрушена, уже не восстанавливается.
Без сомнения, этот порядок вещей не мог бы иметь места, если бы упомянутое выше усложнение организации не было реальностью! Постепенное усложнение или упрощение организации, смотря по тому, идем ли мы от более сложного к более простому или в обратном направлении, настолько осознано зоологами, несмотря на то, что ах мысль никогда на этом явлении не останавливается, что оно, как бы помимо их воли, руководит ими при размещении классов. Можно даже сказать, что именно здесь это молчаливое признание возрастающего усложнения организации удерживает их от того произвола, который мы так охотно вносим повсюду, где этому не слишком решительно противится сама природа.
В связи с этим интересно отметить, что, несмотря на все различие знаний и умственного развития и несмотря на предпочтение, обычно оказываемое собственным взглядам по сравнению со взглядами других [исследователей], среди зоологов наблюдается почти постоянное единодушие в вопросе о размещении установленных ими классов. {130}
Так, например, вряд ли найдется зоолог, который поместил бы среди позвоночных животных какой-нибудь класс животных беспозвоночных, а что касается первых, то, ставя на вершине своего распределения млекопитающих, зоологи всегда отводят второе место птицам и все они заканчивают ряд позвоночных животных рыбами. Если они подразделяют иногда млекопитающих на два класса, например, выделяют в особый класс китообразных, то они вынуждены отвести птицам третье место, так как, без сомнения, никто никогда не поместит китообразных непосредственно рядом с рыбами. Наконец, следуя этим путем — от более сложного к более простому, зоологи неизменно заканчивают общий ряд животных инфузориями, хотя они не отделяют последних от полипов. Короче говоря, несмотря на то, что еще принято объединять лучистых, полипов и инфузорий под весьма неуместным названием зоофитов, мы, тем не менее, видим, что лучистых всегда помещают до полипов, а последних — до инфузорий.
Таким образом, есть некая причина, которая неуклонно руководит исследователями, делает их решения вынужденными и мешает им поступать по собственному произволу при установлении общего распределения животных. И вот эта причина, которую они постигают своим внутренним чутьем, ибо она существует в самой природе, причина, которую они совершенно не изучают, потому что это привело бы их к выводам, идущим вразрез с направлением, принятым ими при изучении природы, причина эта, повторяю, заключается исключительно в возрастающем усложнении организации, существование которого я стремился доказать. Иными словами, этой причиной является тот неоспоримый факт, что природа, создавая разных животных, непрерывно усложняла различные виды организации, которыми она их наделяла.
Таким образом, мы можем теперь сказать, что среди фактов, известных нам из наблюдения, факт постепенного усложнения организации является одним из наиболее очевидных.
Однако из того обстоятельства, что действительно существует это постепенное усложнение организации животных, начиная от самых {131} несовершенных и кончая самыми совершенными из этих существ, отнюдь не следует, что мы можем образовать из видов и родов единый, весьма простой непрерывный ряд, повсюду связанный в своих частях, неизменно воспроизводящий упомянутое выше усложнение организации.
Далекий от этой мысли, я всегда был убежден в обратном. Я это показал совершенно ясно, поняв и объяснив причину указанного здесь явления.
По-видимому, решили, что доказательством нарастающего усложнения организации, о котором здесь идет речь, могла бы служить образованная из видов и родов лестница с правильными ступенями, по, поскольку наблюдения подтверждают невозможность построения подобной лестницы (в самом деле, лестница, которая может быть образована из видов и родов, расположенных согласно их действительным отношениям, представила бы лишь неправильный прерывистый ряд, изобилующий всевозможными отклонениями),— то не стали уделять никакого внимания факту усложнения организации и считали себя вправе отрицать, что это усложнение отражает истинный, путь природы.
С тех пор, как это мнение сделалось господствующим среди зоологов, наука потеряла единственную путеводную нить, которая могла бы вести ее к действительному прогрессу. Вместо тех принципов, которые должны направлять изучение, стали выдвигать произвольные положения. Если большинство зоологов чутьем не принимало бы доказанного мною постепенного усложнения организации животных, то при размещении главных групп они не удержались бы от необоснованных построений, и мы бы столкнулись в вопросе распределения животных с самыми причудливыми систематическими группировками.
Следовательно, все зиждется здесь на двух существенных основах, определяющих наблюдаемые факты и истинные принципы зоологии, а именно:
1. На силе жизни, результатом которой является упомянутое нарастающее усложнение организации. {132}
2. На изменяющей причине, следствием которой являются разрывы и разнообразные неправильные отклонения в результатах проявления силы жизни.
Из этих двух главных принципов, подтверждаемых изученными фактами следует:
во-первых, что существует действительное усложнение организации животных, которому изменяющая причина но в состоянии была воспрепятствовать;
во-вторых, что в распределении видов животных, расположенных согласно существующим между ними отношениям, и даже в распределении родов и семейств постепенное усложнение не является непрерывным и правильным, потому что изменяющая причина почти повсюду нарушила тот правильный порядок, который природа установила бы, если бы не действовала эта причина.
Та же изменяющая причина влияла не только на наружные части животных, хотя именно они легче всего и раньше всего поддаются ее воздействию; она же вызвала различные изменения и в их внутренних органах и повлекла за собой чрезвычайно неправильные изменения как тех, так и других.
Отсюда, согласно моим наблюдениям, следует, что неверно, будто подлинные отношения между видами и даже между родами и семействами могут быть установлены только на основании рассмотрения какой-нибудь системы внутренних органов, взятой в отдельности, либо исходя только из состояния наружных частей; напротив, верно то, что эти отношения следует устанавливать на основании рассмотрения всей совокупности внутренних и наружных признаков, придавая преобладающее значение первым и среди них особенно важное значение — наиболее существенным из них. Однако при этом никогда не следует исходить из рассмотрения какого-нибудь органа, взятого в отдельности*.
В-настоящее время нельзя больше сомневаться в том. что {133} обстоятельства, в которых оказались различные породы животных, по мере их постепенного распространения по различным точкам земной поверхности и в ее водах, могли создать у каждой из них особые привычки и что эти привычки, которые они вынуждены были приобрести под влиянием условий обитаемой ими среды и их образа жизни, могли изменить у каждой из этих пород организацию особей, форму и состояние частей их тела и установить соответствие между всеми этими факторами и привычными действиями особей.
В самом деле, необходимо понять, что под влиянием особенностей обитаемой среды, климата, особого положения, различного образа жизни и множества других обстоятельств, связанных с условиями жизни каждой породы, тот или иной орган или даже целая система специальных органов должны были у некоторых из этих пород получить сильное развитие, между тем как у других пород, близких к ним по наиболее существенным отношениям, но находящихся в совершенно иных условиях, эта же специальная система органов, очень сильно развитая у первых, могла оказаться весьма ослабленной, почти низведенной на нет, могла даже полностью исчезнуть или, во всяком случае, подвергнуться своеобразным изменениям у вторых.
То, что я говорю о той или иной системе органов, составляющей часть организации индивидуумов какой-либо породы, распространяется и на все прочие части тела этих индивидуумов и даже на их общую форму: все у них подчинено влиянию условий, в которых они вынуждены жить.
Что касается животных, то известно много фактов, подтверждающих существование такого порядка вещей, и можно было бы добавить, что, как бы незначительны ни были изменения, совершающиеся на наших глазах, и в существовании которых мы убеждаемся путем наблюдения над теми животными, привычки которых мы насильственно изменили, все же эти изменения достаточны для того, чтобы дать нам понятие о размерах других изменений, которые могли претерпеть с течением времени форма тела, его части и самая {134} организация животных под влиянием обстоятельств, в которых они жили и которые вызвали почти беспредельные изменения их пород*.
Кому не будет понятна после всего сказанного причина того, что в пределах одного и того нее класса животных каждая специальная система органов не подчиняется, как в своем совершенствовании, так и в своей деградации, одному и тому же порядку у всех пород!
Наконец, кто не видит, что несмотря на различные отклонения, обусловленные упомянутой причиной, постепенное усложнение организации животных, тем не менее, проявляется весьма заметным образом и что оно ясно указывает на путь действий природы в отношении животных!
Поскольку животные, каждое в своем роде, обязаны своим существованием и всем, что они собой представляют, природе и обстоятельствам, попытаемся теперь показать, каковы средства, использованные природой сначала для того, чтобы установить жизнь в тех телах, которые ею обладают, и в дальнейшем для того, чтобы образовать специальные органы у тех тел, где это оказалось возможным, постепенно развить эти органы, изменить их и умножить их число и, в конце концов, объединить их в организации наиболее совершенных животных.
| {135} |

Одна из естественных склонностей человека состоит в том, что он определяет границы ума, исходя из пределов своего собственного; поэтому те, кто совершенно не изучает природу и вовсе не наблюдает ее, легко внушают себе мысль, что было бы безумием стремиться познать источник явлений, которые природа во множестве предоставила нашему наблюдению.
Что касается меня, то, будучи убежден, что единственные положительные знания, которые мы можем получать, это знания, приобретенные путем наблюдений, и, кроме того, понимая, что вне природы, вне предметов, относящихся к ее царству, и явлений, которые нам раскрываются в этих предметах, мы не можем ничего наблюдать,— я взял себе за правило останавливаться в моих исследованиях природы лишь тогда, когда у меня совершенно не было возможностей для этого.
Таким образом, какой бы трудной мне ни казалась тема, занимающая меня в настоящей, третьей части, я, сознавая неоспоримую обоснованность положений, из которых намерен исходить, считаю себя вправе распространить мои исследования даже на мельчайшие детали тех приемов, которые были использованы природой как для создания животных, так и для приведения различных их пород в то состояние, в котором они сейчас находятся. {136}
Без сомнения, основное положение, приписывающее природе могущество и средства устанавливать жизнь в теле животного, включая все те способности, которые эта жизнь несет с собой, и вслед за тем постепенно усложнять организацию различных животных, положение это, повторяю, весьма обосновано и даже неоспоримо. Чтобы его опровергнуть, пришлось бы отрицать могущество, законы и средства природы и даже само ее существование, чего, по всей вероятности, никто не пожелал бы сделать.
Итак, животные, как и все другие природные тела, обязаны природе всем, что они собой представляют, всеми способностями, которыми они обладают. Именно из этого я буду исходить, чтобы распространить мои исследования на те средства, которые природа могла употребить, дабы выполнить в отношении этих существ все то, что мы у них наблюдаем. Однако наше знание тех средств, которыми пользовалась природа, далеко не всегда столь же достоверно, как положение, приписывающее ей силу выполнять столько различных вещей.
В самом деле, у нас самих отсутствуют средства убедиться в обоснованности наших утверждений по этому вопросу, но вместе с тем наш основной принцип, или наша исходная точка зрения, предписывает ограничивать наши понятия только той областью, пределы которой намечаются природой. Таким образом, речь идет только о том, чтобы показать, что вещи могут быть такими, какими я их здесь намерен представить, и что если бы было иначе, они бесспорно должны были бы осуществляться аналогичными путями.
Согласно этому, единственный принцип, из которого мы могли бы исходить, чтобы прийти к выводам, составляющим непосредственную цель наших исследований, состоит в признании того, что как животные, так и растения, минералы и все другие тела являются созданиями природы.
В шестой части настоящего «Введения» я приведу доказательства сказанного, а пока укажу, что натуралисты глубоко убеждены в этом, что подтверждается самим выражением, которое они употребляют, говоря об этих телах. {137}
Но если животные представляют собой создания природы, то именно ей они обязаны своим существованием и теми способностями, которыми они обладают. Она создала как самых совершенных, так и самых несовершенных из них; она образовала различные виды организации, наблюдаемые у них; наконец, при помощи каждого вида организации и каждой специальной системы органов она наделила различных животных разнообразными способностями, которые мы у них наблюдаем. Следовательно, она располагает средствами производить все это. Мы имеем даже основание думать, что она и впредь могла бы снова создать животных таким же образом и таким же путем, если бы они вовсе не существовали.
Я полагаю, что я имею основание выдвинуть следующее утверждение: если именно природа создала эти предметы, то она, без сомнения, создала их физическим путем, ибо средства, которыми она располагает, являются средствами чисто физического порядка и ей нельзя приписывать какие-либо иные. Это соображение должно иметь первостепенное значение для моей темы.
Средства и одновременно причины всего того, что природа создала, и всего того, что она продолжает создавать изо дня в день, естественно, являются средствами различных порядков. В самом деле, можно сказать, что природа обладает средствами общего характера и другими, в различной степени частными. В своей совокупности все эти средства образуют иерархию действенных начал, в которой все связано, все зависимо, все гармонично, все обусловлено необходимостью. Эти истины были поняты и действительно признаны55.
Таким образом, чтобы внести известный порядок в наши представления об этом интересном предмете и иметь возможность показать, как природа, по нашему мнению, создала животных, я изложу свою точку зрения на те наиболее вероятные средства общего характера, которыми она, по-видимому, пользовалась, и укажу их связь с вызывающими меньшие сомнения частными средствами, которые она неизбежно вынуждена была применять.
Природа располагает, по крайней мере на нашей планете, двумя могущественными средствами общего характера, которыми она {138} беспрестанно пользуется для осуществления наблюдаемых нами явлений. Эти средства следующие:
1. Всемирное тяготение, которое стремится произвести сближение частиц материи, образовать тела и воспрепятствовать рассеянию молекул.
2. Действие отталкивания тонких флюидов, находящихся в состоянии расширения, действие, которое никогда не сводится к нулю, непрерывно изменяется в пространстве и во времени и различным образом видоизменяет расстояние между частицами тел.
Равновесие этих двух противоположных начал, разница в силе их действия, неодинаковой в каждом отдельном случае, и различная степень сродства между телами, претерпевающими действие этих сил, наконец, непрерывно меняющиеся обстоятельства, при которых эти силы проявляют свое действие,— все это порождает причины наблюдаемых фактов, в частности — тех из них, которые касаются существования живых тел.
Наличие указанных мною двух противоположных сил всеми признано. В самом деле, действие их может быть обнаружено почти во всех явлениях, наблюдаемых на нашей планете. Помимо того, обе они даже являются причинами, так сказать, всеобщими, ибо если у нас имеются доказательства того, что действие притяжения не ограничивается одним только земным шаром, то невозможно отрицать действия вне земного шара также и силы отталкивания, без которой свет, непрерывно проходящий сквозь пространство во всех направлениях, не мот бы быть приведен в движение.
Против реальности этих двух причин нельзя привести серьезных возражений. Вместо того, чтобы пользоваться этим знанием для построения гипотез о вселенной, я ограничусь рассмотрением тех фактов, которые являются результатом действия этих причин на обитаемой нами планете, и главным образом тех из них, которые касаются живых тел, в особенности — животных.
Причина всемирного тяготения совершенно неизвестна. Известно лишь, что это притяжение — реальный факт, установленный наблюдением. Несмотря на это, поскольку движение не может быть {139} присуще ни одному виду материи, как таковой, следует думать, что всякая сила притяжения, как и всякая сила отталкивания, является результатом физических причин, чуждых основным свойствам тех тел, в которых они проявляются.
Причина, благодаря которой на нашей планете многие невидимые флюиды, как, например, теплород, электричество56 и, быть может, некоторые другие, непрерывно приводятся в состояние расширения, когда их частицы стремятся отталкиваться одна от другой, как мне кажется, легче поддается определению, нежели причина, обусловливающая всемирное тяготение. Этой причиной я считаю свет, постоянно испускаемый светящимися телами, и особенно солнечный свет, который беспрестанно, хотя и неодинаково в различных точках ее поверхности, достигает Земли.
Было бы большой ошибкой думать, что теплород по своей природе постоянно находится в движении, всегда стремится расширить и отталкивать друг от друга частицы тел, в которые он проникает. Я опубликовал наиболее правдоподобную теорию этого своеобразного флюида, и ей, без сомнения начнут уделять внимание, когда странные гипотезы, пользующиеся в настоящее время признанием, перестанут занимать умы физиков*. {140}
Здесь достаточно заметить, что тонкий флюид, распространенный на земле п в ее атмосфере, флюид, в своем природном состоянии нам, разумеется, неизвестный, потому что он не способен действовать на наши чувства, подвергаясь непрерывному сжимающему действию солнечного света в одной половине земного шара, немедленно превращается в стремящийся расшириться теплород. Действительно, так как половина земного шара постоянно получает солнечный свет, то всегда и притом одновременно образуется огромное количество теплорода. Я доказал это, не прибегая к вымыслу о теплородных лучах.
Таким образом, этот теплород, произведенный светом, совершенно не отличающийся от того, который освобождается при горении, при взрывах или образуется при трении друг о друга твердых тел,— теплород, беспрестанно меняющееся количество которого беспрерывно восстанавливается и поддерживается на Земле солнцем, этот флюид с его непрерывно меняющейся по интенсивности способностью расширяться, постоянно изменяет плотность воздуха и влажность нижних слоев атмосферы, так же как и большей части тел, находящихся на поверхности Земли. И вот эти изменения теплорода, плотности слоев воздуха и влажности как атмосферы, так и тел вызывают непрерывное перемещение электричества, изменение его количеств в различных частях земного шара и образование различных его скоплений, которые сами приходят в состояние расширения и отталкивания. Конечно, во всем этом нет ничего такого, что противоречило бы наблюдаемым физическим явлениям.
Итак, на нашей планете постоянно действуют две противоположные и изменяющие одна другую причины. Одна — всегда правильно действующая, неизменно стремящаяся сближать и соединять между {141} собой части тел и сами эти тела, и другая, действующая очень нерегулярно и производящая разнообразные усилия для того, чтобы все отделять, разъединять. Эти два начала, которыми располагает природа, являются средствами, дающими возможность осуществления множества явлений. Среди этих явлений то, которое носит название жизни, представляется мне одним из самых замечательных и влечет за собой другие, еще более замечательные58.
Наибольшая трудность для нас, по-видимому, состоит в том, чтобы понять, каким образом природа могла установить жизнь в теле, не обладавшем ею ранее и даже к этому не подготовленном, и.каким образом она могла, прибегая к самопроизвольным или непосредственным зарождениям, создать самую простую форму как растительной, так и животной организации.
Правда, мы не можем достоверно знать, что собственно при этом имело место, т. о. что в действительности происходило, но так-как известно, что природа изо дня в день наделяет жизнью очень маленькие тела, в которых жизнь ранее не существовала и которые даже не были подготовлены к тому, чтобы ее воспринять, то наблюдение и совокупность индуктивных выводов дают нам право составить себе определенное мнение по этому поводу.
Только путем изучения основных условий существования всяко-то факта мы можем правильно объяснить его причины.
Мы знаем из наблюдений, что как в растительном, так и в животном царстве самая простая организация встречается всегда в маленьких студенистых телах, очень податливых, очень нежных, словом, только в телах хрупких, обладающих чрезвычайно малой плотностью и в большинстве своем прозрачных.
Мы знаем также, что к числу средств, применяемых природой для своих действий, относится всемирное тяготение, которое стремится сближать отдельные частицы, образовывать тела, и что, кроме этого, природа одновременно пользуется действием тонких, повсюду проникающих и стремящихся расшириться флюидов, например теплородом, электричеством и т. д., флюидами, стремящимися отталкивать друг от друга н разъединять части тех тел, в которые они проникают, {142} иными словами,— стремящимися нарушить соединение или сцепление частиц этих тел.
При таком положении вещей легко понять, что: 1) когда упомянутые мною стремящиеся расшириться флюиды, обладающие способностью отталкивания, флюиды, которыми всегда наполнена окружающая среда, проникнут внутрь маленьких студенистых тел, легко образуемых в водах и во влажных местах силой, обусловливающей соединение, то промежутки между агглютинированными частицами этих тел увеличатся и превратятся в пузыревидные полости; 2) наиболее вязкие части этих студенистых тол, превратившиеся при этих условиях в стенки упомянутых пузырьков, со своей стороны, могут приобрести под влиянием тонких, стремящихся расшириться флюидов, о которых была речь выше, то своеобразное напряжение во всех точках, тот своего рода эретизм, который я назвал оргазмом и который является одним из необходимых условий существования жизни в теле; 3) после того как оргазм установится в плотных частях студенистого тела, о котором идет речь, оно немедленно приобретает «вследствие этого способность поглощать, обеспечивающую ему получение извне жидких флюидов, постепенно наполняющих его пузыревидные полости.
Понятно, что после того, как установится такое состояние вещей, беспрестанное действие тонких, стремящихся расшириться флюидов, поступающих из окружающей среды, заставит жидкость пузырьков перемещаться, открывать себе проходы через слабые стенки этих пузырьков и, наконец, приведет ее в состояние непрерывного движения, способного, в зависимости от обстоятельств, изменять скорость и направление.
Итак, рассматриваемое нами маленькое студенистое тело уже на самом деле приобрело организацию. Оно уже состоит из способных содержать флюиды плотных частей, образующих очень нежную клеточную ткань, и из содержащегося внутри их собственного флюида, который постоянно приводится в движение беспрестанно возобновляющимися возбуждениями извне, словом,— это тело уже может выполнять жизненные движения. {143}
Вероятно, именно так было заложено начало организации путем так называемых самопроизвольных зарождений, которые природа умеет производить. Она могла осуществить их только при помощи маленьких студенистых тел, о которых речь была выше; и в самом деле, только у таких тел наблюдаются самые простые виды организации. И вот, когда промежутки между частицами этих тел в достаточной мере увеличатся, а их частицы, обладающие наибольшим сцеплением, смогут образовать плотные клеточные части, способные вмещать внутри своих маленьких полостей непрерывно приводимые в движение флюиды, то эти маленькие тела превратятся в живые тела. Они уже могут испарять, претерпевать потери и с того же момента приобретают способность поглощать [вещества извне], питаться и развиваться путем внутреннего прироста, т. е. присоединения частиц, которые могли закрепиться в них.
Движения, возбужденные в собственном флюиде маленьких студенистых тел, о которых я говорил, отныне образуют в них то, что называют жизнью, ибо эти движения их оживляют, делают их способными испарять, поглощать при посредстве имеющихся у них пор все то, что может восстановить их потери; они Могут увеличиваться в размере, т. е. расти до известного предела, и, наконец, размножаться или воспроизводиться, что происходит у них путем деления тела.
Все эти действия не требуют ни труда, ни существенных изменений использованных исходных материалов. Средства самые простые, единственные имеющиеся в распоряжении природы, для нее достаточны.
Ассимиляция ограничивается употреблением тех поглощенных частиц, которые по своему химическому составу подобны крайне несложному веществу этих хрупких тел.
Увеличение размеров, или рост этих маленьких тел осуществляется силами жизни, силами, порождаемыми возбужденными в них движениями. Это увеличение размеров не беспредельно, но ограничено необходимостью не выходить, во избежание разрыва, за предел весьма малой упругости этих тел.
Наконец, размножение или воспроизведение этих тел является {144} не чем иным, как результатом чрезмерного роста, превышающего предел их упругости и приводящего к их делению. Однако, по мере того как эта упругость постепенно возрастает, отделяющиеся части тела становятся все меньше и меньше, они обособляются, т. е. ограничиваются определенными участками тела, и вот таким путем возникает почкование.
Следовательно, рассматриваемые маленькие тела с момента возникновения в них жизни обладают способностями, присущими всем живым телам, причем они получают эти способности самыми простыми путями. Но так как ни одно из них не имеет специальных органов, то ни одно из них не обладает способностями, которые были бы свойственны только им одним.
Пусть не говорят, что гипотеза о самопроизвольных зарождениях не что иное, как необоснованное допущение, не опирающееся на факты, являющееся плодом воображения древних и впоследствии полностью опровергнутое точными наблюдениями. Древние, без сомнения, придавали слишком широкое толкование самопроизвольным зарождениям, о которых у них было лишь смутное представление, и ошибочно распространяли их на не относящиеся сюда явления. Эти заблуждения нетрудно было вскрыть, но отнюдь не доказано, что самопроизвольных зарождений вовсе не бывает и что природа не прибегает к ним там, где дело идет о наиболее просто организованных телах59.
Я добавлю к этому, что если бы было верно утверждение об отсутствии у природы средств, позволяющих ей создавать непосредственно и собственными силами наиболее простые живые тела как растительного, так и животного царства, то верно было бы и то, что ни растения, ни животные не являются ее созданиями и что минералы и другие неорганические тела не обязаны ей [своим происхождением]. Наконец, верно было бы и то, что ее могущество и ее законы — ничто и что сама она вовсе не существует. Однако подобные предположения полностью опровергаются наблюдениями.
В настоящее время уже невозможно сомневаться в том, что природа, по крайней мере у истоков растительного и животного царств, {145} прибегает к помощи самопроизвольных зарождений, устанавливая жизнь в самых нестойких и самых простых живых телах каждого из этих царств. Если предположить, что у некоторых из этих маленьких живых тел, вследствие химического состава их вещества, природа не смогла установить раздражимость частей их тела, т. е. наделить эти части способностью сокращаться всякий раз, когда это вызывается возбуждающей причиной, то мы имели бы в этих телах исходные формы, от которых произошли различные растения, тогда как те маленькие живые тола, которые природа, благодаря химическому составу их вещества, сумела наделить раздражимостью, следует рассматривать как исходные формы, давшие начало всему разнообразию существующих животных*.
Разумеется, я лишен возможности показать во всех подробностях, каким образом все это происходит, и не могу дать точного объяснения механизма раздражимости. Но я допускаю возможность, что все происходит именно так, как это было мною описано, а все индуктивные выводы подтверждают, что явления, о которых здесь идет речь, не могут происходить иначе. {146}
После объяснения этой первой трудности, которую для нас представляет понимание самопроизвольных зарождений, существующих лишь у истоков обоих органических царств, а также в начале некоторых их ветвей, все остальные трудности, касающиеся усложнении организации животных и образования различных имеющихся у них специальных органов, кажутся нам легко устранимыми.
Действительно, мы увидим, что эти трудности исчезнут, если к средствам общего характера, которыми пользуется природа, присоединить четыре следующих закона60, касающихся организации и управляющих всеми явлениями, происходящими в ней благодаря силам жизни.
Первый закон. Жизнь своими собственными силами непрерывно стремится увеличивать объем всякого наделенного ею тела и расширять размеры его частей до предела, ею самой установленного.
Второй закон. Образование нового органа в теле животного является результатом новой появившейся потребности, которая продолжает оставаться ощутимой, а также нового движения, порождаемого и поддерживаемого этой потребностью.
Третий закон. Развитие органов и сила их действия всегда соответствуют употреблению этих органов.
Четвертый закон. Все, что было приобретено, запечатлено или изменено в организации индивидуумов в течение их жизни, сохраняется путем воспроизведения и передается новым индивидуумам, которые происходят от индивидуумов, испытавших эти изменения.
Без знания этих законов и не принимая их во внимание, невозможно что-либо понять в явлениях организации и особенно в действиях природы, касающихся животных. Поэтому я последовательно рассмотрю каждый из этих законов, останавливаясь только на тех подробностях, которые необходимы, чтобы показать их реальность и могущество.
Первый закон. Жизнь своими собственными силами непрерывно стремится увеличивать объем всякого наделенного ею тела и расширять размеры его частей до предела, ею самой установленного. {147}
Известно, что всякое живое тело продолжает расти начиная с того момента, когда жизнь впервые появляется в нем, и до определенного предела, различного у разных видов. Это тело продолжало бы расти в течение всей своей жизни, если бы некая причина, в достаточной мере известная, не ставила бы предела его росту по прошествии примерно первой четверти всей продолжительности его существования.
Так как активная жизнь устанавливается жизненными движениями, то отсюда следует, что главным образом в движениях собственных флюидов живого тела заключается присущая жизни действенная сила, проявляющаяся в увеличении объема как всего тела в целом, так и отдельных его частей, ибо одного только питания недостаточно для этого. Питание вовсе не является действенной силой, а для того чтобы могли увеличиваться объем и части рассматриваемого тела изнутри кнаружи, требуется такая сила.
Но если у всякого индивидуума сила самой жизни беспрестанно стремится увеличивать размеры всего его тела, а также частей последнего, то это же начало не препятствует тому, что сама жизнь в своем течении постепенно и непрерывно влечет за собой изменение состояния частей (возрастающее уплотнение и постепенную утрату гибкости), которые ставят предел росту индивидуума и в дальнейшем пресекают и самую его жизнь. Таким образом, именно эти хорошо известные и непрерывно нарастающие изменения являются той причиной, которая, вопреки стремлению жизни, ограничивает рост индивидуума и неизбежно приводит его к смерти, наступающей по прошествии определенного времени, зависящего от продолжительности этого роста.
Действительно, так как силы жизни стремятся увеличивать размеры всякого тела, которое ею обладает, а изменения, вызываемые в частях тела в процессе жизни, ограничивают результат действия этих сил, то между ростом индивидуума и продолжительностью его жизни должно существовать некое постоянное соотношение. Замечено также, что там, где продолжительность роста больше, там длительнее и жизнь, и vice versa. {148}
Если теперь принять во внимание, что у первых живых тел, созданных природой непосредственно, сила жизни отличается наименьшей интенсивностью, ибо движения собственных флюидов этих тел крайне медленны и лишены энергии, то понятно, что организация этих маленьких студенистых тел может быть сведена к простой, чрезвычайно нежной клеточной ткани, почти не подвергшейся никаким изменениям. Однако, по мере того как движения флюидов этих маленьких тел приобретают большую скорость, их силы жизни и, следовательно, их жизненная активность соответственным образом увеличиваются, движения флюидов становятся более быстрыми; они прокладывают пути в той нежной ткани, в которой содержатся; вскоре устанавливается разнообразие направлений этих движущихся флюидов, начинают образовываться специальные органы; сами флюиды, обогащая свой состав, все более и более усложняются и обусловливают большее разнообразие выделяемых ими веществ, а также веществ, составляющих органы; наконец, в зависимости от того, какая ветвь,живых тел рассматривается, мы увидим, что сложность и степень совершенства организации достигают той ступени развития, на которую она способна.
Станет ли кто-нибудь оспаривать правильность этой картины, представляющей путь, пройденный организацией животных, начиная от самых несовершенных и кончая наиболее совершенными? Кто не увидит, что именно в этом проявляется исторический ход развития явлений организации, наблюдаемых у рассматриваемых животных, кто не увидит его в этом возрастающем усложнении их общею ряда при переходе от более простого к более сложному?
Я не мог бы, конечно, измыслить сам подобный порядок вещей, «ели бы наблюдения самих объектов и внимательное изучение средств, которыми пользуется природа, не указывали мне на него.
Если к этому первому закону, приписывающему жизни способность увеличивать размеры тела, а также всех его частей и, по мере усложнения организации животных, постепенно усиливать активность этого тела, мы присоединим последовательно три других замечательных закона, которые я привел выше и которые управляют {149} всеми проявлениями жизни, то получим почти нею совокупность законов, объясняющих все факты, обусловленные организацией живых тел вообще и животных в особенности.
Второй закон. Образование нового органа в теле животного является результатом новой появившейся потребности, которая продолжает оставаться ощутимой, а также нового движения, порождаемого и поддерживаемого этой потребностью.
Обоснованность этого закона может быть доказана третьим законом, относительно правильности которого изученные факты не оставляют никаких сомнений, так как, если проявление деятельности органа, усиливаясь, способствует развитию этого органа, т. е. увеличивает его размеры и его мощность, что постоянно подтверждается фактами, то можно быть уверенным в том, что это проявление деятельности, вызванное новой испытываемой потребностью, естественно, должно породить орган, способный удовлетворить эту новую потребность, если такого органа до этого не существовало.
Действительно, у животных, настолько несовершенных, что они не могут еще обладать способностью чувствовать, образование нового органа нельзя приписывать испытываемой потребности. В данном случае это образование является результатом механической причины, например, нового движения части флюидов животного.
Иначе обстоит дело у животных, имеющих более сложную организацию и обладающих способностью чувствовать. Эти животные способны испытывать потребности, и каждая испытываемая ими потребность, возбуждая их внутреннее чувство, тотчас же направляет флюиды и силы к той точке тела, в которой какое-либо действие может удовлетворить испытываемую потребность. И вот, если в этой точке существует орган, пригодный для данного действия, то он немедленно приводится в состояние активности. Но если такой орган отсутствует, а испытываемая потребность носит длительный и настоятельный характер, то мало-помалу требуемый орган образуется и развивается соразмерно длительности и интенсивности его употребления.
Если бы я не был убежден в том: 1) что одной лишь мысли о действии, сильно интересующем индивидуума, достаточно для {150} возбуждения его внутреннего чувства*; 2) что испытываемая потребность сама может возбудить это чувство; 3) что всякая эмоция внутреннего чувства, вызванная испытываемой потребностью, немедленно направляет нервный флюид к тем точкам, которые должны прийти в действие, и вызывает приток к ним флюидов тела, главным образом — питательных; наконец, 4) что эта эмоция приводит в действие существующие уже органы или прилагает усилия к образованию органов, которых до этого еще не было, но которые сделались необходимыми вследствие длительной потребности,— то у меня могли бы еще возникнуть сомнения относительно реальности приведенного мною закона.
Несмотря на то что установить этот закон путем наблюдения чрезвычайно трудно, у меня нет ни малейшего сомнения относительно его обоснованности, так как необходимость его существования вытекает из третьего закона, который в настоящее время вполне доказан.
Так, например, для меня ясно, что брюхоногий моллюск, медленно {151} ползая [по какому-либо субстрату], испытывает потребность ощупывать находящиеся перед ним предметы и делает усилия, чтобы коснуться их какой-либо точкой передней части головы, непрерывно направляя к ней нервный флюид, а также другие жидкие флюиды. Для меня ясно также, что этот непрекращающийся приток флюидов к упомянутым точкам должен постепенно привести к вытягиванию нервов, оканчивающихся в них, так как при этих условиях и другие флюиды животного, в особенности питательные, притекают к тем же частям тела. В результате всего этого в области упомянутых точек должны были зародиться и незаметным образом сформироваться два или четыре щупальца. Без сомнения, это и произошло у всех тех видов брюхоногих моллюсков, которые под влиянием потребностей приобрели привычку ощупывать предметы при помощи частей головы.
Но у тех брюхоногих моллюсков, которые по своей природе и по своему образу жизни вовсе не испытывают такого рода потребностей, голова бывает лишена щупалец; она даже мало выступает и плохо различима, примером чего могут служить морской миндаль, булава, кузовок и другие.
Чтобы показать обоснованность этого второго закона, я не стану останавливаться на его частных приложениях, число которых я мог бы значительно увеличить. Ограничусь тем, что представлю его на рассмотрение тех, кто внимательно следит за действиями природы, связанными с явлениями организации животных.
Приведем теперь третий закон, которым пользуется природа, чтобы усложнять и видоизменять организацию животных. Вот он:
Третий закон. Развитие органов и сила их действия всегда соответствуют употреблению этих органов.
Здесь речь идет вовсе не о каком-либо предположении, какой-либо догадке. Закон, о котором я говорю, реален, он установлен путем наблюдения и опирается на множество известных фактов, которые могут служить доказательством его обоснованности.
Вместо того чтобы свести его к более простому выражению, как это сделано здесь, я представил его в моей «Philosophie zoologique» {152} (ч. I, гл. VII) с некоторыми необходимыми подробностями, выразив его следующим образом:
«У всякого животного не достигшего предела своего развития, более частое и более длительное употребление какого-нибудь органа укрепляет мало-помалу этот орган, развивает и увеличивает его и придает ему силу соразмерно длительности употребления, между тем как постоянное неупотребление того или иного органа постепенно ослабляет его, приводит к упадку, непрерывно уменьшает его способности и, наконец, вызывает его исчезновение («Philosophie zoologique», ч. I, стр. 341).
Я отнюдь не намерен подробно останавливаться на этом утверждении и делать какие бы то ни было усилия, чтобы доказать справедливость лежащего в его основе закона. Я знаю, что он неоспорим, что медики-практики изо дня в день наблюдают его результаты и я сам многократно имел возможность ознакомиться с ними. Так как этот закон очень важно принимать во внимание при изучении природы, отсылаю моих читателей к сказанному мною о нем в «Philosophie zoologique», где, разделив его на две части, я выразил основные его положения следующим образом:
«1. Неупотребление органа, сделавшись постоянным вследствие усвоенных привычек, постепенно ослабляет этот орган и в конце концов приводит к его исчезновению и даже к полному уничтожению.
2. Частое употребление органа, ставшее постоянным благодаря привычкам, увеличивает способности этого органа, развивает его и придает ему размеры и силу действия, которых он не имеет у животных, упражняющих его меньше».
Принимая во (внимание важность этого закона и те знания, которые он дает относительна причин, приведших к удивительному многообразию животных, я придаю большее значение тому, что я первый его открыл и сформулировал, чем тому удовлетворению, которое я получил, образовав классы, отряды, значительное число родов и множество видов, когда в щелях классификации занимался искусственными приемами — этим почти единственным предметом изучения других зоологов. {153}
Этот же закон я считаю одним из самых могущественных средств, использованных природой для того, чтобы сделать виды столь разнообразными. Размышляя о нем, я убеждаюсь в том, что он влечет за собой необходимость того закона, который ему предшествует, т. е. второго, и что он служит подтверждением его.
Действительно, причина, вызывающая развитие часто и длительно употребляемого органа и увеличивающая его размеры и его силу действия, иными словами — причина, которая заставляет непрерывно притекать к нему жизненные силы и флюиды тела, несомненно способна, мало-помалу и теми же способами, породить орган, не существовавший раньше, но сделавшийся необходимым.
Между тем и второй и третий из этих законов были бы безрезультатными и, следовательно, бесполезными, если бы животные всегда находились в одних и тех же условиях, если бы все они всегда сохраняли одни и те же привычки, никогда не меняли прежних привычек и не приобретали новых, как это обычно думали, хотя подобное предположение лишено всякого основания.
Ошибка, в которую мы впали в этом вопросе, имеет своим источником трудность, испытываемую при попытке охватить нашими наблюдениями значительный период времени. Отсюда то кажущееся постоянство наблюдаемых нами вещей, постоянство, которое на самом деле нигде не существует в природе. Отсюда представление о том, что все виды живых тел столь же древни, как природа, что они всегда были такими, какими они являются в настоящее время, и что то же относится к сложным телам минерального царства. Из этого вытекало бы, что природа не обладает могуществом, что она ничего не творит, ничего не способна изменить и что, так как она ничего не создает, для нее бесполезны законы. Отсюда вытекало бы, что ни растения, ни животные не являются ее созданиями.
Если желать сохранить подобный взгляд и поддерживать такого рода заблуждения, то следует остерегаться собирать факты, которые окружают нас со всех сторон, следует отбросить все наблюдения, позволяющие установить эти факты, ибо в действительности все обстоит совершенно иначе, чем это себе представляют. {154}
Оставляя в стороне хорошо известные факты и наблюдения, доказывающие, что существующий порядок вещей сильно отличается от того, которым хотели и до сих пор еще хотят подменить его, ограничусь следующим замечанием:
Если животные — создания природы, то очевидно, что она не могла создать их и обусловить существование всех их сразу, одновременно заселить ими почти все точки земного шара и наполнить ими все воды, ибо почти все ее действия осуществляются настолько медленно по сравнению с продолжительностью нашего индивидуального существования, что они для нас почти неуловимы.
И вот, если природа создавала и растения и животных лишь последовательно, начав, как в том, так и в другом случае, с самых несовершенных из них, то всякому ясно, что она должна была постепенно распространить повсюду — во всех водах и по всей поверхности Земли — все живые тела, происшедшие от тех, которые были созданы ею первоначально.
Посудите теперь, с каким огромным разнообразием условий обитания, положения, климата, доступных средств питания, особенностей окружающей среды и т. д. должны были встретиться растения и животные по мере того как ныне живущие их виды вынуждены были изменить место своего обитания. Несмотря на то, что эти изменения протекали крайне медленно и, следовательно, осуществлялись в продолжение значительного времени, они вполне реальны и, будучи обусловлены различными причинами, заставили подвергшиеся их действию виды постепенно изменить образ жизни и привычные действия.
В результате действия второго и третьего из упомянутых выше законов эти вынужденные изменения должны были породить новые органы и в дальнейшем развить их, если употребление этих органов сделалось более частым. С другой стороны, они могли ослабить и в копне концов вызвать полное исчезновение тех органов, которые стали бесполезными.
Другая причина изменения действий, способствовавшая видоизменению органов, а также увеличению числа видов различных {155} животных, следующая: по мере того как животные изменяли место своего обитания путем частичных переселений и распространялись по различным точкам земной поверхности, они, попав в новые условия, встречались с новыми опасностями. Чтобы избегнуть последних, потребовались новые действия. Известно, что для поддержания своего существования большинство животных пожирают друг друга61.
У меня нет надобности входить в какие-либо подробности, чтобы показать влияние этой причины, которую следует присоединить к влиянию условий нового места обитания, нового климата и нового образа жизни, связанных с каждым переселением.
Однако,— могут нам возразить,— с тех пор как животные мало-помалу распространялись повсюду, где они могли найти подходящие для себя условия жизни, с тех пор как все водоемы оказались заполненными теми видами, которым эти воды могли предоставить пищу, наконец, с тех пор как все не покрытые водой части земного шара стали местом обитания для тех видов, которые теперь там наблюдаются, все отныне приобрело постоянный характер для животных. Обстоятельства, способные заставить их изменять свои действия, исчезли, и все виды, по крайней мере с этих пор, казалось бы, должны были навсегда сохраниться одними и теми же.
На это я отвечу, что это мнение также представляется мне ошибочным щ что я даже убежден в этом.
В самом деле, очень большая ошибка предполагать, что известное нам в настоящее время состояние поверхности земного шара, распределение пресных и морских вод, глубина долин, высота гор, расположение и состав поверхности отдельных местностей, нынешние климатические условия в них и т. д. и т. п., что все это обладает абсолютным постоянством.
Все эти вещи должны казаться нам сохраняющимися почти в том же состоянии, в каком мы их наблюдаем, лишь потому, что мы сами не можем быть свидетелями их изменения, и потому, что наша история и наши письменные памятники не охватывают столь отдаленные эпохи, чтобы мы могли убедиться в нашей ошибке. {156}
Между тем у нас нет недостатка в достоверных фактах, доказывающих, что все в природе изменяется. Однако здесь неуместно останавливаться на этом вопросе, поэтому я ограничусь кратким изложением моих взглядов и скажу следующее:
Все непрерывно изменяется на поверхности Земли, хотя и крайне медленно по сравнению с продолжительностью нашей жизни, и все эти изменения неизбежно заставляют виды растений и животных в свою очередь претерпевать изменения, которые создают различия между видами без подлинного разрыва между ними.
Ознакомьтесь внимательно с VII главой «Philosophie zoologique», ч. I, стр. 331, где я рассматриваю влияние обстоятельств на действия и привычки животных, а также влияние действий и привычек этих живых тел, как причин, изменяющих организацию и части тела животных. Тогда вы, вероятно, поймете, что я не только имел полное основание признать существование всех изменяющих причин, выше мною указанных, но и мог утверждать: что если всегда существует полное соответствие между формой частей [тела] животного и их употреблением,— а факт этот совершенно неоспорим,— то, с другой стороны, совершенно неправильно, будто форма частей обусловила их употребление, как это утверждают зоологи. Верно, напротив, то, что потребность в тех или иных действиях порождает наиболее пригодные для данной цели органы, и что именно упражнение этих частей повлекло за собой их развитие и установило соответствие между ними и их функциями.
Для того чтобы форма частей могла повлечь за собой их употребление, необходимо было бы признать, что природа совершенно бессильна, что она не способна произвести ни одного действия, ни одного изменения в телах, и что все части различных животных были созданы, как и сами животные, изначально и представляли уже при своем возникновении столько различных форм, сколько их потребовало бы разнообразие обстоятельств, при которых животные вынуждены жить. Помимо того, необходимо было бы прежде всего признать, что эти обстоятельства никогда не менялись и что части [тела] всякого животного всегда оставались неизменными62. {157}
Однако, все эти предположения не обоснованы и не подтверждаются наблюдаемыми фактами и изучением тех средств, которыми пользовалась природа, чтобы создать свои многочисленные произведения.
Наконец, я вполне убежден, что породы, получившие название видов, обладают лишь ограниченным или временным постоянством признаков и что нет ни одного вида, который обладал бы абсолютным постоянством. Конечно, эти виды останутся такими же в местностях, в которых они обитают, до тех пор пока условия их существования не изменятся и не заставят их изменить свои привычки.
Если бы виды действительно обладали абсолютным постоянством, то не существовало бы разновидностей. В этом нет никакого сомнения и это может быть доказано. Натуралисты, разумеется, не могли не признать этот факт.
Если бы можно было медленно обойти поверхность земного шара, особенно в направлении с юга на север, делая на известном расстоянии остановки, чтобы иметь время произвести наблюдения, то всегда удалось бы заметить, что по мере того, как мы удаляемся от исходной точки наших наблюдений, виды постепенно, притом все более и более, изменяются соответственно изменениям места обитания, положения, характера местности и т. д. и т. п. Иногда удается даже наблюдать разновидности, возникшие не под влиянием привычек, вызванных обстоятельствами, но приобретенных либо случайным, либо каким-нибудь другим путем. Человек, будучи по своей организации подчинен законам природы, сам представляет отличающиеся друг от друга разновидности своего вида, и среди них есть такие, которые, по-видимому, обусловлены последними из упомянутых здесь причин (см. «Philosophie zoologique», ч. I, стр. 226).
Наконец, четвертый закон, которым пользуется природа, чтобы все более и более усложнять организацию и увеличивать число ее частей,— следующий:
Четвертый закон. Все, что было приобретено, запечатлено или изменено в организации индивидуумов в течение их жизни, сохраняется путем размножения и передается новым индивидуумам, {158} которые происходят от индивидуумов, испытавших эти изменения. Этот закон, без которого природа никогда не смогла бы создать того многообразия животных, которое она осуществила, и установить у них постепенное усложнение их организации и их способностей, также приведен в моей «Philosophie zoologique» (ч. I, стр. 341 и след.).
«Все, что природа заставила особей приобрести или утратить под влиянием условий, в которых с давних времен пребывает их порода, и, следовательно, под влиянием преобладающего употребления или постоянного неупотребления той или иной части [тела], все это природа сохраняет путем размножения у новых особей, которые происходят от первых, при условии, если приобретенные изменения общи обоим полам или тем особям, от которых новые особи произошли.»
Это выражение того же закона содержит некоторые частности, которые способствуют лучшему его пониманию и приложению, хотя они едва ли необходимы.
Действительно, этот закон природы, согласно которому новым особям передается все то, что было приобретено в продолжение жизни организацией тех особей, которые их произвели, настолько верен, настолько очевиден и так полно подтверждается фактами, что не найдется ни одного исследователя, который не мог бы убедиться в его реальности.
Итак, согласно этому закону, все, что было запечатлено, приобретено или изменено в организации под влиянием новых и укоренившихся привычек, каких-либо непреодолимых склонностей, порожденных этими привычками, изъянов строения и даже предрасположения к некоторым болезням, все это сохраняется при размножении или воспроизведении у новых индивидуумов, происшедших от тех, которые подверглись этим изменениям, и передается из поколения в поколение всем сменяющим друг друга особям, претерпевающим влияние тех же обстоятельств, причем новым особям не приходится приобретать эти изменения тем же путем, каким они возникли первоначально63.
Можно было бы думать, что при половом воспроизведении потомство особей, организация которых в неодинаковой степени подверглась {159} изменениям, представляет некоторое исключение из этого закона, потому что такие особи не всегда передают их, или передают лишь частично, тем особям, которые от них происходят. Но легко понять, что здесь нет действительного исключения из приведенного выше закона, ибо сам закон в этих условиях может иметь только частичное или неполное приложение64.
Я полагаю, что с помощью приведенных мною четырех законов все факты организации могут быть легко объяснены; постепенное нарастание сложности организации животных и развитие их способностей становится вполне понятным; наконец, средства, которыми пользовалась природа, для того чтобы создать разнообразие животных и привести всех их в то состояние, в котором мы их видим, становятся легко доступными определению.
Я могу сделать эти средства до некоторой степени еще более понятными, если приведу всего один пример, касающийся тех средств, которыми пользовалась природа для непрерывного усложнения организации животных и постепенного увеличения числа и возрастания совершенства их способностей.
Однако, прежде чем приводить этот пример, укажу, что, сопоставляя везде общие факты, придется признать, что в том и в другом царстве живых тел (растений и животных) природа, начав с создания самой простой организации, т. е. такой, которая необходима для существования жизни в ее простейшем проявлении, произвела в дальнейшем различного рода изменения. Они обусловили постепенное совершенствование организации в соответствии со средствами, использовать которые позволило ей состояние существ, бывших объектом ее действий.
Мы в самом деле увидим, что у растений, в результате отсутствия у них раздражимых частей, эти средства были сведены к очень небольшому числу. Поэтому природа могла лишь постепенно видоизменять клеточную ткань этих живых тел и различным образом преобразовывать ее изнутри, но ей ни разу не удалось превратить какую-либо ее часть в специальный внутренний орган, который мог бы наделить растение хотя бы одной способностью кроме свойственных {160} всем живым телам вообще. Она не в состоянии была также вызвать постепенное ускорение движения флюидов у различных растений, иными словами,— не могла значительно повысить их жизненную энергию.
Наоборот, что касается животных, то можно заметить, что природа, найдя в сократимости податливых частей этих существ многочисленные средства для своих действий, не только все более и более видоизменяла их клеточную ткань, непрерывно ускоряя движение их флюидов, но одновременно усложняла организацию этих тел, создав у них, один за другим, различные специальные внутренние органы65. В дальнейшем она видоизменила эти органы в соответствии со всякого рода возникающими потребностями, постепенно сосредоточивая их у более высоко организованных животных, и тем самым привела к возникновению у различных животных всевозможных особых способностей, все более и более многочисленных и выдающихся.
Чтобы показать на примере, что здесь идет речь не о простом предположении, но о действительном существовании порядка вещей, подтверждаемого наблюдением, я ограничусь ссылкой на следующий факт:
Пример. Постепенное ускорение движения флюидов у животных, от самых несовершенных и до наиболее совершенных.
Не приходится сомневаться в том, что у самых несовершенных животных, например у инфузорий и полипов, внутренние движения, составляющие жизнь, отличаются весьма незначительной энергией, а собственные флюиды этих животных, приведенные в движение в нежной клеточной ткани, движутся в ней настолько медленно, что не могут вызвать образования каналов. И действительно, клеточная ткань этих животных не содержит ни одного канала. Слабые жизненные движения этих существ способны обеспечить лишь испарение и поглощение веществ, которыми они питаются, и медленное их всасывание.
У следующих за ними лучистых с мягким телом природа добавляет новое средство для некоторого ускорения движения собственных {161} флюидов этих живых тел. Она увеличивает протяженность органов пищеварения, образуя своеобразные разветвления пищеварительного канала, и делает несколько более совершенным питательный флюид, подвергая его влиянию впервые установленной здесь системы дыхания; наконец, с помощью постоянного и правильного движения, вызываемого во всем теле животного возбуждениями извне, она еще более ускоряет перемещение их внутренних флюидов.
Переходя к созданию иглокожих лучистых, у которых не могут больше выполняться изохронные движения тела, природа уже смогла применить здесь другое, более мощное и более независимое средство и, действительно, у этих животных она впервые вводит мышечное движение, одновременно выполняющее две задачи: с одной стороны, приводит в движение части, которыми животное должно пользоваться, с другой — способствует активности жизненных движений.
Использование мышечного движения для придания большей активности жизненным движениям животного, впервые введенное природой у иглокожих лучистых, находит еще большее применение у насекомых, у которых, помимо того, жизненная энергия возрастает благодаря воздушному дыханию. Таким образом, мышечное движение и появившееся затем воздушное дыхание оказались достаточными для насекомых и для большей части паукообразных.
Ракообразные, которым свойственно только водное дыхание, нуждались в новом, более сильном средстве для ускорения движения своих флюидов. Для этого природа установила, в дополнение к мышечной системе, специальную систему циркуляции, систему, которая впервые появляется у высших паукообразных и которая чрезвычайно ускорила движение флюидов.
Это ускорение движения флюидов при помощи специальной системы циркуляции в дальнейшем еще более усиливается по мере того как сердце приобретает большее развитие, а орган дыхания, сосредоточенный в определенном месте, превращается в легкое, способное дышать только воздухом; наконец; движение этих {162} флюидов еще больше ускоряется по мере того как возрастающее влияние нервной системы придает органам все большую и большую силу действия.
Именно таким путем природа, создав спачала самых несовершенных животных, сумела постепенно ускорить движение их жидких флюидов и увеличить их жизненную энергию, пользуясь различными средствами, пригодными для каждого отдельного случая.
Я мог бы увеличить число примеров, доказывающих, что всякая система специальных органов первоначально бывает весьма несовершенной и обладает незначительной энергией, но в дальнейшем, по мере того как усложнение организации делает это необходимым, постепенно развивается и совершенствуется.
В самом деле, если бы я обратился к рассмотрению разнообразных и все более и более совершенных средств, использованных природой для воспроизведения и размножения особей в целях сохранения созданных ею видов и пород, я мог бы показать, что эти средства, сведенные у самых несовершенных животных к простому делению тела, приводят, после того как это деление оказывается приуроченным к определенным точкам последнего, к размножению путем почкования; это почкование, вначале наружное, становится в дальнейшем внутренним и подготавливает образование яичников. Начиная с этого момента уже возможно появление органов оплодотворения и яиц, содержащих способный к оплодотворению зародыш. Я мог бы показать также, что после того как была создана специальная система органов размножения, она сделала возможным сначала яйцерождение и яйцеживорождение и в дальнейшем привела к самому совершенному виду размножения, а именно — к настоящему живорождению, которое наделяет зародыш активной жизнью в момент его оплодотворения.
Если бы я вслед за тем рассмотрел специальную систему органов дыхания, систему чрезвычайно важную И сделавшуюся необходимой после того как организация Животного утратила свою Первоначальную простоту, я мог бы показать, что эта система появилась в виде водоносных трахей, представляющих по своему действию {163} наименее активные органы дыхания, и что в дальнейшем она была преобразована в воздухоносные трахеи, несколько более активные по своему действию, чем первые, потому что кислород, от которого зависит это действие, легче выделяется из воздуха, чем из воды; тем не менее, как у тех, так и у других животных, дышащих посредством трахей, вдыхаемый флюид повсюду сам направляется навстречу питательному флюиду и вследствие медленности его введения внутрь тела и его движения способен произвести весьма слабый эффект. В дальнейшем, начиная с момента установления циркуляции, дыхательные трахеи превращаются в жабры, расположенные в определенных местах тела (branchies locales), дыхательная функция которых немного активнее, чем у выше рассмотренных органов, так как сводится к тому, что циркулирующая кровь теперь сама быстро находит необходимые ей для восстановления вещества. Мы увидим далее, что вскоре после образования скелета жабры окончательно заменяются легкими — самым мощным по своему действию органом, дыхания, потому что кровь быстро восстанавливается в них, поскольку она получает все необходимые ей для этого вещества из воздуха, снабжающего ее ими с большой легкостью. Следовательно, мы имеем здесь значительное увеличение активности действия дыхательной системы.
Наконец, если бы я стал рассматривать специальные системы органов, наделяющие [животных] столь выдающимися способностями, как способность чувствовать, иметь длительно сохраняющиеся представления и с помощью этих последних строить другие представления, что характеризует ту или иную степень ума, я тем самым показал бы непрерывно возрастающее усложнение организации животных, находящееся в полном соответствии с тем же явлением в других рассмотренных выше областях.
Я, на самом деле, показал бы, что самые простые по своей организации и, следовательно, самые несовершенные животные обладают только раздражимостью, которая, тем не менее, достаточна для удовлетворения их потребностей; что в дальнейшем, когда организация в достаточной мере усложнилась, для того чтобы обеспечить {164} соответствующие средства, природа, располагая уже нервной системой в ее простейшей форме, позволяющей выполнение мышечного движения, преобразовала эту систему, разделив ее на две отдельные системы: одну — для движения мышц и другую — для осуществления ощущений. Я показал бы также, что после этого были созданы органы чувства, появилась способность чувствовать и индивидуумы получили внутреннее чувство, побуждающее их совершать действия для удовлетворения различных потребностей; что в дальнейшем организация, сделавшись еще более сложной, позволила природе разделить нервную систему на три отдельные системы: одну для мышечного движения, в свою очередь подразделенную на две особые системы (ту, которая подчинена [воле] индивидуума, и другую, которая от него не зависит), вторую для чувствования, наконец, третью, предназначенную для активирования функций прочих органов; и вот, по достижении организацией высокой степени сложности различных органов, природа смогла разделить нервную систему на четыре главные отдельные системы, а именно: первую — систему нервов, служащую для возбуждения мышц; вторую — для осуществления ощущений; третью, обеспечивающую эффективность действия различных внутренних органов при выполнении ими их функций; наконец, четвертую, благодаря которой осуществляется акт внимания, превращающий ощущения в способные сохраняться представления,— ту самую систему, при помощи которой приобретенные и сравниваемые представления могут служить для образования тех представлений, которые не могут быть получены непосредственно из ощущений.
У человека, в результате упражнения и благодаря его потребностям, эта четвертая система нервов усложнилась и подразделилась на специальные системы, выполняющие различного рода умственные акты.
То, что различные упомянутые мною отдельные системы нервов не отличаются друг от друга анатомически, не имеет особого значения, поскольку результаты их функций всегда позволяют их различить, и подтверждают, что они независимы. {165}
Системы нервов, о которых здесь идет речь, будучи действительно независимыми с точки зрения присущих им функций, настолько тесно связаны между собой, что в тех случаях, когда возникает сильная эмоция внутреннего чувства, она нарушает или даже пресекает их функции, как это происходит при обмороке, головокружении и т. д.
Следовательно, мы можем считать совершенно неоспоримым фактом, что нервная система, если рассматривать ее в целом, как и все остальные специальные системы органов, вначале имела очень простое устройство и обладала лишь немногими функциями; в дальнейшем она усложнилась и даже достигла чрезвычайно высокой степени сложности и, наконец, сделалась способной выполнять разнообразные, все более и более выдающиеся функции, которые нам кажутся столь замечательными.
Я опустил подробности, касающиеся деталей рассматриваемого в этой главе вопроса, так как ознакомление с ними легко может быть восполнено путем наблюдений в этой области и так как это слишком расширило бы объем настоящей части нашего труда66.
Итак, из предыдущего можно видеть:
1. Что природа постепенно ускоряла движение флюидов в теле животного, по мере того как усложнялась организация этого тела; что, употребив самые простые средства для начального ускорения этого движения, она в дальнейшем, когда в этом возникла необходимость, создала специальную систему органов, чтобы еще более ускорить его.
2. Что она шла аналогичным путем в отношении воспроизведения особей, обеспечивающего сохранение созданных уже видов; ибо, применив вначале самые простые средства, как, например, деление на части, она создала в дальнейшем специальные органы оплодотворения, которые привели к размножению путем яйцерождения и в дальнейшем — к подлинному живорождению.
3. Что так же обстояло дело в отношении способности чувствовать — способности, которой природа не могла наделить наиболее несовершенных животных, потому что чувствование для своего {166} проявления требует наличия достаточно сложной системы органов, а эти животные такой системой обладать не могут. Но эти органы им вовсе и не нужны, потому что их очень ограниченные способности всегда могут быть легко удовлетворены, тогда как у животных, имеющих более сложную организацию, следовательно обладающих большим числом потребностей, природа могла создать и постепенно усовершенствовать единственную систему органов, способную произвести указанное выше замечательное явление.
4. Что, поскольку умственные акты являются единственными актами, позволяющими вносить разнообразие в действия, необходимость в которых могла возникнуть только у наиболее совершенных животных, природа сумела наделить последних способностью осуществлять, в той или иной степени, эти умственные акты, установив у них специальный орган для этой способности, а именно: добавив к головному мозгу два полушария, которые у наиболее совершенных животных мало-помалу достигли большого развития и приобрели значительный объем.
Сколько примеров я мог бы привести здесь, чтобы показать обоснованность всего, что я изложил! Как много хорошо известных фактов я мог бы собрать, чтобы увеличить число доказательств этих основных положений! Однако, отсылая моих читателей к «Philosophie zoologique», в которой я привел многочисленные доказательства, имеющие, как мне кажется, решающее значение, я спешу сделать выводы из всего, что было изложено мною.
Средства, которыми обладает природа, дают все, что ей необходимо не только для того чтобы создавать живые тела — растения и животных, но, помимо того, чтобы образовывать у этих тел специальные органы, развивать и видоизменять их, постепенно увеличивать их число и в конце концов до некоторой степени сосредоточить их у наиболее совершенных животных. Это позволило ей последовательно наделять различных животных все более и более многочисленными и более выдающимися способностями.
Ограничиваясь этой картиной, удивительно точно воспроизводящей то, что наблюдается в действительности, я перейду теперь к {167} другому, не менее важному- вопросу, который также заслуживает рассмотрения. Я попытаюсь показать, что способности животных представляют явления чисто органического и чисто физического порядка, что эти явления имеют своим источником функции органов или систем органов, которые их обусловливают и, что, наконец, способности, благодаря которым происходят эти явления, всегда строго соответствуют состоянию органов, их порождающих.
| {168} |

Чем меньше мы знаем природу, тем больше ее явления представляются нам чудесными и совершенно непостижимыми. Но, как бы удивительна природа ни была в действительности по своему могуществу и своим средствам, следует ожидать, что все, что нам кажется чудесным, постепенно разъяснится по мере того, как, изучая ее путь и законы, которым она неуклонно следует в своих действиях, мы постигнем используемые ею средства.
Без сомнения, если внимательно изучать различных животных, от наиболее несовершенных и до наиболее совершенных, нельзя не удивляться не только великому их многообразию и тем отличиям, которые обнаруживаются в системах их организации, но, помимо того, рассматривая природу каждой из способностей, особенно некоторых из них, нельзя не испытать чувства глубокого восхищения перед разнообразием как числа, так и степени совершенства способностей, наблюдаемых у различных видов. Таким образом, хотя способности строго соответствуют характеру и состоянию организации, которая их обусловливает, они все же кажутся нам чудом. И вот, в угоду нашим обычным представлениям о них, нашему высокомерию, поддерживаемому незнанием истинных причин этих явлений, мы приписываем этим способностям метафизическое происхождение и качества, стоящие вне природы, и даже считаем их всесильным, разумным началом. {169}
Утверждали, и вполне справедливо, по крайней мере в отношении наук, что удивление есть дочь неведения, и вот как раз здесь уместно применить эту осознанную истину, ибо, если есть действительно что-либо достойное удивления, то это, конечно, природа и все то, что ее составляет, все то, что она может создать. Но если признать, что природа — не что иное, как порядок вещей, который не мог сам себя создать, иными словами,— что она является подлинным орудием, то все наше удивление и все наше преклонение должны быть перенесены на ее верховного творца.
Таким образом, речь идет о том, чтобы познать источник разнообразных способностей, наблюдаемых у различных животных, установить существуют ли эти способности благодаря специальным органам, наконец, может ли один и тот же орган обусловить различные способности или, напротив, существует столько же особых органов, сколько наблюдается отдельных способностей.
Может быть, подумают, что для обсуждения подобных вопросов следует прибегать к помощи метафизических идей и туманных беспочвенных вымыслов, в пользу которых нельзя привести ни одного солидного доказательства. Однако я надеюсь показать, что для решения этих вопросов мы должны принимать во внимание лишь физические явления; что исследование их не выходит за пределы наших наблюдений и что этих наблюдений вполне достаточно для получения необходимых доказательств.
Рассмотрим сначала общий принцип, который гласит: каждая способность, присущая животному, какова бы эта способность ни была, представляет собой чисто органическое явление, будучи лишь результатом функций органа или системы органов, которые ее обусловливают, так что каждая способность по необходимости зависит от соответствующего органа.
Допустимо ли предполагать, что животное может обладать хотя бы одной способностью, которая не была бы органическим явлением, т. е. результатом функций органа или системы органов, могущих произвести это явление? Если нет основания предполагать это с {170} какой-либо долей вероятности, если каждая способность представляет собой органическое и, следовательно, чисто физическое явление, то положение это должно стать отправной точкой наших рассуждений о животных и служить основой для выводов, которые мы можем сделать на основании наблюдаемых у них явлений.
Конечно, как я указал, могущественная сила, создавшая животных, сама сделала их такими, какие они есть, и наделила каждое из них определенными способностями, дав им организацию, которая могла эти способности произвести. И вот наблюдение дает нам основание признать, что этой силой является природа и что она сама — не что иное, как произведение воли верховного существа, сотворившего ее такой, какая она есть.
Нет ничего промежуточного, ничего среднего между двумя воззрениями, которые я намерен изложить здесь.
Либо природа не имеет никакого отношения к существованию животных, ничего не сделала для того, чтобы придать им разнообразие и привести их в то состояние, в котором мы их видим, либо, напротив, именно она создала всех их, хотя и постепенно; именно она их видоизменила при помощи изменения обстоятельств и путем постепенного усложнения, внесенного в их организацию; одним словом, именно она сделала их такими, какими они являются сейчас, и наделила их теми способностями, которые мы у них наблюдаем.
В следующей части я покажу, что из этих двух воззрений правильным, очевидно, является второе. Это поняли и поэтому вполне справедливо животным отвели место среди созданий природы и признали, по крайней мере, так как это показывает общепринятое выражение, что живые тела представляют собой ее создания. Но я осмелюсь добавить, что то же [утверждение] применимо и ко всем остальным, как к живым, так и к неживым телам, доступным нашему наблюдению.
Некая неведомая сила (сила вещей) беспрестанно влечет нас к пониманию истины, но столь же беспрестанно предубеждения и самые разнообразные интересы противодействуют этому влечению. {171}
Посудите же, к чему должен привести этот конфликт и насколько влияние второй причины должно взять верх над первой!67
Остановимся сначала на том предположении, которое я попытаюсь доказать в дальнейшем, а именно, что животные действительно являются исключительно созданиями природы, что все, что они представляют собой, и все, чем они обладают, имеет своим источником природу и что сама она обязана существованием могущественному творцу всех вещей.
Если это так, то всякая способность животных, пусть это будет такая способность, как раздражимость, которая присуща всем животным и позволяет им двигаться под влиянием возбуждения, пусть это будет способность чувствовать, позволяющая тем животным, которые ею обладают, замечать то, что на них воздействует, или, наконец, такая способность, как ум в той или иной его степени, которая дает многим животным возможность выполнять различные акты мышления и воли,— все без исключения способности, повторяю, обусловлены самой природой и должны быть рассматриваемы как явления, которые она может производить при помощи органов, пригодных для их выполнения, одним словом — как проявления того могущества, которым она сама наделена.
Если это так, могут ли эти различные способности быть чем-либо иным, как не природными явлениями, явлениями исключительно органическими и чисто физическими, явлениями, причины которых, хотя они чаще всего трудно поддаются определению, все же не лежат за пределами возможностей наших наблюдений и нашего познания?
Удастся нам или не удастся раскрыть механизм, при помощи которого какой-либо орган или система органов производят ту или иную зависящую от них способность,— это не имеет значения для данного вопроса, если путем наблюдений можно убедиться, что определенный орган или определенная система органов являются единственными, которые могут произвести рассматриваемую способность. Пусть точно не известен подлинный органический механизм образования представлений и взаимодействий между ними, ни даже {172} механизм чувствования, но разве мы лучше понимаем механизм мышечного движения, процессов выделения, пищеварения и т. д.? Следует ли отсюда, что различные эти явления, наблюдаемые у животных, не зависят каждое от соответствующего числа органов или систем специальных органов, механизм которых способен их произвести? Существуют ли в природе явления, бывшие предметом наблюдения или доступные наблюдению, которые не были бы обязаны своим существованием телам или отношениям между телами?68
Если бы человек мог освободиться от влияния личных интересов, от склонности господствовать в том или ином отношении, от своего тщеславия, тяготения к мыслям, которые ему льстят и которые отвращают его от исследования действительных причин всех явлений, то его суждения обо всех вещах безпредельно выиграли бы в отношении правильности, и тогда природа была бы лучше известна ему! Однако природные склонности человека не допускают этого; он предпочитает упорно составлять свое собственное мнение обо всем, не думая о том, какие последствия это может повлечь для него. И вот, пребывая в неведении, сохраняя все свои предубеждения и предрассудки, он воспринимает природу, которую не желает изучать которую даже боится вопрошать, как некое разумное начало и не пользуется для пополнения своих знаний почти ни одним явлением из числа тех, которые природа перед ним повсюду раскрывает.
Между тем, если человек вынужден признать, что природа осуществляет свои действия беспрерывно, притом всегда в соответствии с законами, которые она никогда не в состоянии нарушить, может ли он предположить, что какое-либо из ее действий, хотя бы одно единственное из ее проявлений, заключало в себе что-либо нереальное, метафизическое; может ли он думать, что она имеет власть над предметами нематериальными?
Конечно, подобное представление неприемлемо, ибо ничто не говорит в его пользу. Власть природы распространяется только на тела, которые она приводит в движение, перемещает, преобразует, изменяет, непрерывно разрушает и воссоздает; наконец, природа действует только на материю, ни одной частицы которой она не в {173} состоянии ни создать, ни уничтожить. Для того чтобы доказать обратное, вряд ли удастся найти какой-либо разумный довод.
Если утверждение, что природа может воздействовать только на тела и что только они ей подвластны, является неоспоримой истиной, то существует и другая, столь же неоспоримая истина, а именно, что только природа, только тела, составляющие ее царство, только результаты ее действий над ними представляют собой единственные предметы, доступные нашему наблюдению, т. е. что вне этих предметов мы ничего не можем наблюдать.
Видел ли хоть один человек, замечал ли он когда-нибудь что-либо кроме тел, их перемещений, кроме претерпеваемых ими изменений, кроме явлений, которые они производят? Мог ли кто-нибудь познать движение и пространство, иным путем, кроме наблюдения над перемещением тел? Удалось ли кому-нибудь наблюдать хотя бы одно явление, которое имело бы иной источник, помимо тел, взаимоотношений между различными телами, изменений места, состояния или формы тел?
Тем не менее, трудности, стоящие на пути к расширению и совершенствованию наших знаний, чрезвычайно велики; мы не можем льстить себя надеждой, что нам когда-либо дано будет наблюдать все, что производит природа, все выполняемые ею действия и все существующие тела. Вынужденные обитать на поверхности небольшой планеты, которая является в некотором роде точкой во вселенной, мы можем наблюдать лишь незначительный уголок этой вселенной и нашему исследованию доступно лишь очень небольшое число предметов, составляющих часть царства природы.
Все эти истины известны каждому, но их очень важно иметь и, виду. Поэтому не удивительно, что мы столь часто впадаем в заблуждения и даже подпадаем под их власть, если это обусловлено теми или иными интересами. Ведь нам так трудно постигнуть путь и действия природы в отношении ее различных созданий!
Однако, поскольку животные, как бы многочисленны они ни были, составляют часть того, что мы можем наблюдать, поскольку они являются созданиями природы, можно ли сомневаться в том, что {174} существующие у них способности, в свою очередь, созданы самой природой? Все эти способности, без сомнения, представляют собой явления чисто органические и вследствие этого — подлинно физические, а так как мы можем их исследовать, сравнивать, определять, то причины и механизм, обусловливающие их, естественно, не выходят за пределы наших наблюдений, за пределы нашего понимания.
Мне казалось, что я уразумел главные причины раздражимости, присущей животным, хотя я еще не сделал мои наблюдения общим достоянием. Мне казалось, что я понял механизм чувствования, во всяком случае,— механизм, весьма близкий к истинному. Мне казалось, что я распознал и даже постиг механизм, обусловливающий мышление и все то, что называют умом («Philosophie zoologique», ч. III). Если бы даже я во всем этом ошибался (хотя последнее мало вероятно, ибо факты говорят в пользу моих взглядов), стал ли бы в результате этого менее правдоподобным факт, что способности, которые я намерен рассмотреть здесь, представляют собой явления несомненно органические и вследствие этого — явления чисто физического порядка и что все они не что иное, как результат отношений между различными частями тела и различными видами материи, участвующими в осуществлении этих явлений.
Разве не наши неразумные предубеждения и наше полное незнание могущества природы и тех средств, которые она может применять, породили мысль о том, что чувствование и особенно образование представлений, а также различные взаимодействия между ними заключают в себе нечто метафизическое, нечто, чуждое материи и взаимоотношениям между различными телами!
Если многие животные обладают способностью чувствовать, если, помимо того, среди них есть такие, которые наделены вниманием и могут образовывать представления на основе замеченных ощущений, такие, которые обладают памятью, страстями, способны выносить суждения, наконец,— совершать заранее обдуманные действия, то следует ли приписывать все эти наблюдаемые у них явления причине, чуждой материи и, следовательно, чуждой природе, {175} производящей действия только над телами, с телами и при посредстве тел?
Итак, будем рассматривать все без исключения способности животных как явления всецело органические и посмотрим, что говорят о них известные нам факты.
Повсюду в животном царстве, там, где установлено, что какая-либо одна способность отличается от другой и совершенно не зависит от нее, можно быть уверенным в том, что система органов, обусловливающая одну из них, отличается от системы органов, производящей другую, и даже от нее не зависит.
Так, например, известно, что способность чувствовать сильно отличается от способности двигаться при посредстве мышц и что способность мыслить существенным образом отличается как от способности чувствовать, так и от способности выполнять мышечные движения. Хорошо известно и то, что эти три способности совершенно не зависят одна от другой.
Кому, в самом деле, не известно, что можно двигаться, причем это движение не влечет за собой никаких ощущений, что можно чувствовать, без того чтобы это сопровождалось движением, и что можно думать, размышлять, строить суждения, не испытывая при этом ощущений и не производя движений? Следовательно, эти три способности у существ, которые ими обладают, совершенно не зависят одна от другой и, без сомнения, системы органов, которые их обусловливают, также должны быть независимы.
Между тем три упомянутые мной способности не могли бы существовать, если бы не было нервов.
Нервная система, которая, подобно всем другим системам, подвержена постепенному усложнению, сама может состоять из трех совершенно различных систем нервов, поскольку каждая из них производит способность, не зависящую от способностей, которые производят другие.
Та часть нервной системы, которая делает возможными различные умственные акты, сама состоит из различных особых систем; в самом деле, известно, что при некоторых стойких формах умственного {176} расстройства больной мыслит и рассуждает вполне здраво по поводу очень многих предметов, однако относительно некоторых вещей, которые сильно его потрясли и вызвали изменения в органе ума, он теряет всякую меру реальности и обнаруживает симптомы определенного помешательства. Именно на основе знания этого твердо установленного факта Сервантес дал образ Дон Кихота, помешанного на одной идее: идее странствующего рыцаря. Дон Кихот — вымысел писателя, но прообраз его заимствован из жизни.
Если при одних формах хронического помешательства этого рода орган ума настолько изменяется, что приходит в полное расстройство, то при других, имеющих временный характер, этот орган оказывается еще не настолько измененным, чтобы он не мог восстановить свое обычное состояние. Отсюда вторая форма помешательства, представленная сильными страстями. Эта форма безумия не всегда неизлечима и в некоторых случаях проходит с течением времени.
Из этих рассуждений следует: 1) что всегда существует полное соответствие между состоянием органа, который производит данную способность, и самой способностью*; 2) что все те способности, которые на основании наблюдения следует считать специальными и независимыми, всегда обязаны своим существованием соответствующему числу особых систем органов, которые одни только и могут их произвести.
Следовательно, у животных, обладающих наиболее простой нервной системой, представленной нервными волокнами, но не имеющей ни головного, ни продольного мозга, явление чувства еще не может осуществляться и, действительно, у животных с такой нервной системой на наружных частях тела совершенно отсутствуют какие бы то ни было органы чувств и органы ощущений. Между тем, так как у этих животных существуют мышцы и нервы, служащие для приведения мышц в движение, они обладают способностью производить {177} мышечные движения, несмотря на то, что еще лишены способности чувствовать.
У животных с более высокой организацией, т. е. достигших большей ее сложности, в состав нервной системы входят не только нервы, но также головной и, кроме того, почти всегда узловатый продольный мозг. Есть основание допустить у этих животных наличие способности чувствовать, поскольку у них существует центр отношений для нервов ощущений и поскольку у них в самом деле наблюдаются один или несколько специальных и четко обособленных органов чувств.
Однако животные, о которых здесь идет речь, имеют и мышцы, следовательно они обладают и способностью к мышечному движению и, помимо того,— способностью чувствовать. Но мы видели, что мышечное движение и чувствование представляют собой две самостоятельные способности, следовательно, у этих животных одни нервы служат только для ощущений, а другие — только для возбуждения мышц. Без сомнения, и те и другие представляются нам просто нервами, но в действительности это два различных вида специальных органов, ибо, помимо того, что они порождают две весьма отличающиеся одна от другой способности,— способ действия тех и других совершенно различен: нервы, служащие для ощущений, передают действие в направлении от наружных частей к внутреннему очагу; напротив, нервы, служащие для движения,— в направлении от одного иди нескольких внутренних очагов к мышцам, которые должны быть приведены в действие. Таким образом, если у животного удастся обнаружить несколько различных способностей, можно быть уверенным в том, что оно обладает несколькими видами специальных органов различного рода, делающих возможным существование данных способностей.
Наконец, у животных наиболее высокого порядка, т. е. у тех, у которых план организации отличается наибольшей сложностью и наиболее близок к совершенству, нервная система представлена не только нервами, спинным и головным мозгом, но и головной мозг более сложен, чем у животных предшествующего порядка, так как {178} он более объемист и в состав его массы входят дополнительные части, соединенные между собой и всегда парные. Кроме того, у таких животных всегда можно обнаружить мышцы, центр отношений для ощущений, головной мозг значительно большего размера; наконец, замечается, что эти животные могут оперировать своими представлениями. Следовательно, они обладают тремя особыми и самостоятельными способностями, а именно: способностью производить мышечные движения, способностью чувствовать и умом, в той или иной его степени.
Из трех приведенных здесь фактов очевидно, что животные, у которых наблюдаются различные способности, действительно обладают соответствующим числом специальных органов для проявления каждой из этих способностей, потому что последние представляют собой органические явления и потому что не известно ни одного примера, доказывающего, что какой-либо один орган мог бы производить различного рода способности.
Чтобы в заключение показать, что каждая отдельная способность обязана своим происхождением особой системе органов, которая ее порождает, я приведу пример, доказывающий, что то, что мы часто считаем одной единственной системой органов, у некоторых животных образовано несколькими отдельными системами, составляющими часть общей системы, но тем не менее не зависящими одна от другой.
Насекомые обыкновенно имеют нервную систему; эта же система наблюдается и у всех млекопитающих животных. Однако у первых нервная система, без сомнения, гораздо менее сложна, чем у вторых, а если удалось обнаружить нервы и несколько ганглиев у некоторых иглокожих лучистых, то не приходится сомневаться в том, что нервная система у этих животных по строению и по функциям еще нише, чем у насекомых.
Я показал, что нервы, служащие для возбуждения мышечных движений, а также те, которые содействуют различным функциям внутренних органов, не служат и не могут служить для того, чтобы вызывать чувствование, ибо можно испытывать ощущение без того, чтобы оно повлекло за собой мышечные движения; с другой стороны, {179} можно привести в действие различные мышцы без того, чтобы в результате этого у индивидуумов возникло какое-нибудь ощущение. Эти хорошо известные факты имеют решающее значение и заслуживают особого внимания. Они указывают, что существуют не зависящие одна от другой способности, равно как и системы органов, которые их производят.
Кроме того, так как в настоящее время не приходится сомневаться в том, что нервное влияние осуществляется только благодаря тонкому флюиду, внезапно приходящему в движение, флюиду, которому дали название нервного флюида*, то совершенно очевидно, что при всяком ощущении нервный флюид движется в направлении от точки, подвергшейся воздействию, к центру отношений, тогда как при всяком воздействии, которое приводит в движение мышцы или действует на органы при выполнении ими их функций, тот же нервный флюид, являющийся в этом случае возбудителем, движется в противоположном направлении. Особенность эта обусловлена самой природой этих органов [нервов], способных лишь к одному роду действия.
Следовательно, чувствование и мышечное движение представляют собой два различных и совершенно обособленных явления, так как, {180} помимо того, что они резко отличаются друг от друга, причины их также различны. Сказанное в такой же мере относится к нервам, которые эти явления обусловливают: в каждом из этих явлений они действуют различным образом. Наконец, сами эти явления протекают совершенно независимо одно от другого, как это показал Галлер69.
В самом деле, две системы органов, которым обязаны своим происхождением рассматриваемые здесь две способности, имеют то общее между собой, что без нервного влияния деятельность как той, так и другой была бы сведена к нулю. Однако это общее, о котором я говорю, не представляет собой ничего реального, ибо нервная система, по мере того как она становится частью более сложной организации, бывает представлена несколькими различными и обособленными системами, обладая в этом своем состоянии различными возможностями проявления; ни одна из этих систем не может заменить другую; каждая из них может произвести лишь ту способность, которая ей свойственна. Например, часть сложной нервной системы, благодаря которой осуществляется чувствование, не имеет ничего общего с той частью этой же нервной системы, которая возбуждает мышечное движение, будь то в мышцах, подчиненных воле, или в тех мышцах, которые от нее не зависят. Как та, так и другая части нервной системы могут выполнять только какую-нибудь одну из этих двоякого рода функций. Кроме того, часть сложной нервной системы, обеспечивающая деятельность внутренних органов, органов выделения и т. д., не тождественна ни той части нервной системы, от которой зависит чувствование, ни той, которая активирует или возбуждает мышечное движение. Подобно этому, часть нервной системы, от которой зависят внимание, образование представлений и различные операции над ними, не тождественна ни одной из прочих ее частей, иными словами — она приспособлена к выполнению лишь определенной функции.
Тщетно было бы создавать множество гипотез для объяснения этих различных явлений организации: никогда наши идеи не внесут в этот вопрос ничего ясного, ничего удовлетворительного, иными {181} словами, ничего, что отражало бы путь природы, до тех пор, пока не будет постигнут основной принцип, изложенный мною здесь.
Я добавлю еще, что явление чувства вовсе не могло бы иметь места, если бы не существовала та часть сложной нервной системы, которая его производит; совершенно иначе обстоит дело в отношении мышечной возбудимости, ибо последняя совершенно не зависит от какого бы то ни было влияния со стороны нервов, хотя они дают мышцам силу действия и даже способны возбуждать движения некоторых мышц, а именно мышц, подчиненных воле индивидуума.
Благодаря вниманию, которое я уделил фактам организации животных, я установил, что раздражимость вообще присуща их мягким частям. Далее я заметил, что у самых несовершенных животных, например у инфузорий и полипов, все части тела обладают почти одинаковой и притом очень большой раздражимостью. И тогда мне стало ясно, что после того как природе удалось образовать мышечные волокна у более совершенных животных, раздражимость отдельных частей [тела] стала неодинаковой по своей интенсивности; мышечные волокна оказались более раздражимыми, чем все остальные мягкие части. Таким образом, у наиболее совершенных животных клеточная ткань, хотя и обладает еще раздражимостью, однако — меньшей, чем внутренние органы, и в особенности пищеварительный канал, и что последний, в свою очередь, отличается меньшей раздражимостью, чем всякого рода мышцы.
Я заметил далее, что с образованием у животных мышечных волокон появились отчетливо выраженные нервы и что, в зависимости от степени совершенства организации, у них можно было обнаружить более или менее сложную нервную систему.
Без сомнения, там, где существует нервная система, она возбуждает функции органов и придает им силу действия, а мышечные движения получают то преимущество, что источник их делается менее подверженным истощению.
Мышечная раздражимость, тем не менее, по своей природе не зависит от влияния нервов, хотя последнее увеличивает и поддерживает ее активность. Известно, что сердце сохраняет более или {182} менее долгое время,— в зависимости от вида животного,— способность двигаться при раздражении и даже после извлечения из тела. Я видел сердце лягушки, сохранившее эту способность в течение 24 часов после того, как оно было вырезано. Следовательно, раздражимость сердца зависит вовсе не от нервов: последние лишь видоизменяют тем или иным образом его функции, т. е. то в большей, то в меньшей степени содействуют их выполнению.
Действительно, так как в сложной организации все специальные органы и системы органов связаны с общей организацией индивидуума и вследствие этого действительно зависят от нее, необходимо признать, что сердце, хотя оно и обладает собственной раздражимостью, тем не менее способно претерпевать различные воздействия со стороны нервной системы, которые увеличивают и поддерживают его деятельность, а в некоторых случаях вызывают нарушения последней.
Кто не знает, как сильно страсти действуют на сердце при посредстве нервов и как, соответственно той или иной из них, нарушаются функции последнего. Нервы, направляющиеся к сердцу, не лишены особого назначения и применения (что противоречило бы плану природы), хотя раздражимость этого органа, по существу, не зависит от их влияния. Это, как мне кажется, было недостаточно понято Галлером.
С тех пор утверждали, в соответствии со взглядами Ле Галлуа70, что сердце получает нервы только от спинного мозга, и этим объясняли тот факт, что оно продолжает биться у обезглавленных животных, а также после вырезывания у них спинного мозга ниже затылочной кости.
На это я хотел бы возразить, что продолжение деятельности сердца у обезглавленных животных скоро должно было бы прекратиться даже в условиях поддержания дыхания, ибо сердце связано со всей организацией индивидуума и, без сомнения, зависит от ее сохранности в целом.
Если бы я не боялся отклониться от непосредственной задачи моих исследований, я мог бы добавить следующее: если бы сердце {183} получало нервы только от спинного мозга и если бы нервы восьмой пары не посылали к нему ни одного нервного волокна, оно вовсе не было бы подвержено действию страстей71. Однако, оставляя в стороне все то, что я мог бы сказать по этому поводу, я прежде всего должен показать, что выводы, сделанные из прекрасных опытов Ле Галлуа, были ошибочными.
Признано, что раздражимость может проявляться, только если она возбуждена каким-нибудь стимулом. Но мы сделали бы ошибку, если бы, исходя из того, что мышцы, подчиненные воле, обыкновенно действуют под влиянием какого-либо стимула со стороны нервной системы, допустили, что они могут сокращаться только под влиянием этого стимула. Путем опыта легко доказать, что любая причина-раздражитель также может возбуждать движения этих мышц.
Хотя эти мышцы действуют при посредстве воли, направляющей к ним нервное влияние, они могут действовать благодаря этому же влиянию и без участия воли. Я наблюдал тысячи примеров этого во внезапных эмоциях внутреннего чувства, управляющего таким же образом нервным импульсом, приводящим мышцы в действие.
Вот что важно признать, так как внимательно изученные факты убедительно подтверждают это. Кроме того, те же факты показывают, насколько порядок вещей, связанный с мышечными движениями, отличается от того, который обусловливает ощущения.
Многие из этих истин признаны, и, тем не менее, еще до сих пор постоянно смешивают обе упомянутые системы органов, принимая результаты действия одной за проявления деятельности другой.
Когда подвергали мучениям живых животных для того чтобы выяснить, в какой именно момент чувствительность угасает в определенных частях их тела, считали возможным сделать вывод, что способность чувствовать сохранялась, если под влиянием соответствующего раздражения эти части производили движения.
Именно это увидели в некоторых выводах, которые сделал Ле Галлуа из своих опытов над животными.
Без сомнения, многочисленные прекрасные опыты Ле Галлуа над млекопитающими животными познакомили нас со многими {184} важными фактами, которых мы раньше не знали, но мне кажется, что этот ученый ошибается, утверждая, что после перерезки спинного мозга ниже затылка чувствительность сохраняется в частях тела животного, поскольку наблюдается, что эти части еще движутся.
Я показал, что способность двигаться при помощи мышц и способность испытывать ощущения — не единственные способности, приобретаемые животными благодаря сложной нервной системе, содержащей все части, которые вообще могут входить в ее состав. Ибо, если эта система заключает в себе головной мозг, снабженный всеми его придаточными частями и особенно — объемистыми полушариями, то она наделяет животное, помимо способности чувствовать, еще способностью образовывать представления, сравнивать между собой предметы, привлекшие его внимание, выносить о них суждения, наконец — иметь волю, память и видоизменять по своей воле многие из своих действий.
Способность обладать вниманием, образовывать представления и выполнять умственные акты отличается, следовательно, от способности чувствовать, так же как и само чувствование отличается от способности двигаться как при посредстве мышц — под влиянием нервного импульса, так и при посредстве раздражимых частей — под влиянием возбуждений извне. Эти различные способности представляют собой органические явления, обусловленные каждое специальными органами, от которых они всецело зависят. Эти факты из области зоологии столь же реальны, как и способность видеть при помощи органа зрения.
Обратимся теперь к главной стороне вопроса: необходимо выяснить, утрачиваются ли по мере того как система органов подвергается деградации, т. е. упрощается, постепенно теряя одну за другой отдельные системы, входившие в ее состав [в то время, когда она обладала наибольшей сложностью], утрачиваются ли, повторяю, одна за другой различные способности, которыми она наделяла животных,— вплоть до того предела, когда система, сделавшись сама весьма упрощенной, не исчезнет окончательно, как и та способность, которую она еще могла произвести, когда была наиболее простой. {185}
Есть основание думать и даже утверждать, что нервный аппарат, обусловливающий образование способных сохраняться представлений, а также различных умственных актов, помещается в мозговых массах, состоящих из нервных волокон я являющихся придаточными частями головного мозга, в массах, которые, в соответствии с их развитием, увеличивают его объем72. В самом деле, те из наиболее совершенных животных, у которых ум больше всего развит, действительно имеют, благодаря этим придаточным частям, наиболее объемистый головной мозг по отношению к объему всего их тела, между тем как у животных следующих классов, по мере угасания у них умственных способностей, это отношение соответственно уменьшается. Не приходится сомневаться в том, что по мере деградации головного мозга прежде всего уменьшается объем добавочных или придаточных его частей и что именно они исчезают первыми, еще задолго до того, как перестает существовать головной мозг в собственном смысле слова.
Далее, если верно, что нервный аппарат, которому обязаны своим происхождением умственные способности, представлен упомянутыми мною придаточными органами, то не влечет ли за собой полное исчезновение этих органов исчезновения и тех способностей, которыми они наделяют животных? Известно, что все позвоночные животные построены по общему плану, хотя этот план и обнаруживает, в зависимости от вида животных, большие различия в особенностях и деталях. Признав это, не будет ли уместным предположить, что умственные способности, а также те органы, от которых зависит их осуществление, полностью исчезают у всех животных, следующих за позвоночными?
Утративший свои придаточные части, свои до известной степени отделимые полушария, имеющие столь большой объем у животных с наиболее развитым умом и уменьшившийся в объеме, головной мозг все же является, начиная с моллюсков и до насекомых включительно, существенной частью нервного аппарата, способного вызвать чувствование, потому что он обеспечивает существование специальных чувств, т. е. обособленных органов ощущений. Этот аппарат, {186} со всеми отходящими от него и заканчивающимися в нем самом нервами, действительно образует систему, достаточно сложную, чтобы обусловить органическое явление, которое мы называем чувствованием.
Но если деградация нервной системы зашла настолько далеко, что уже нет ни головного мозга, ни специальных органов чувств, то кому не ясно после этого, что там, где отсутствует аппарат, обусловливающий чувствование, перестают существовать и те способности, которыми он наделял животное, хотя при этом еще можно обнаружить некоторые следы нервов у тех животных этой категории, у которых еще существуют следы мышц!
Конечно, все это можно было бы считать только предположением, однако, если предварительно подвергнуть животных сравнительному наблюдению, то это предположение превратится в неоспоримый факт.
Что касается попыток распространить способность чувствовать также на растения, то я приведу следующий отрывок из статьи «Животное», напечатанной в «Dictionnaire des sciences naturelles»:
«Речь идет о том, чтобы установить,— говорит знаменитый автор этой статьи,— существуют ли живые тела, обладающие способностью чувствовать, но не способные двигаться. Ведь совершенно ясно, что движение не является необходимым результатом чувствительности».
Разумеется, не существует живых тел, обладающих способностью чувствовать, которые не были бы способны двигаться. Этот вопрос должен был бы занимать не ученого, а скорее тех, кто ничего не знает об организации и о явлениях, которые она может произвести.
Без сомнения, движение не зависит от чувствительности; известны живые тела (впрочем только в животном царстве), обладающие способностью двигаться и, тем не менее, лишенные способности чувствовать. Это наблюдается у лучистых, настоящих полипов и инфузорий. Однако легко показать, что нет ни одного существа, обладающего чувствительностью, которое не было бы способно двигаться; следовательно, чувствительность на самом деле представляет следствие {187} движения, между тем как движение не является следствием чувствительности. Попытаюсь доказать это.
Конечно, только нервы являются истинными органами чувствования, и всякое животное, лишенное нервов, не способно чувствовать. В этом не может быть никакого сомнения.
Однако факт, несомненно известный ученому, мнение которого было приведено выше, заключается в том, что животные, имеющие нервы, имеют также и мышцы. Тщетно было бы пытаться найти мышцы у животного, совершенно лишенного нервов, или нервы у такого животного, которое совершенно лишено мышц. Не известно ни одного наблюдения, которое противоречило бы этому факту.
Но если верно, что всякое животное, имеющее нервы, имеет мышцы, то столь же верно и то, что всякое животное, наделенное способностью чувствовать, обладает также способностью двигаться, потому что оно имеет мышцы.
При современном состоянии наших знаний нельзя, следовательно, ставить вопрос о возможности существования животных, обладающих способностью чувствовать, но лишенных способности двигаться. Такого рода мысли, высказанные без глубокого предварительного изучения, доказывают лишь, что не было сделано никаких попыток для выяснения вопроса, существует ли вообще предел развития способностей и тех органов, которым они обязаны своим происхождением.
Внимательно наблюдая все то, что имеет место у животных, я, как мне кажется, не ошибусь, утверждая, что различные животные обладают способностями, которые не являются общими для всех существ того же царства. Следовательно, эти способности имеют пределы, часто, правда, едва уловимые. Без сомнения, то же относится и к органам, которые эти способности порождают, ибо все наблюдения подтверждают, что у животных каждая способность строго соответствует состоянию органа, которому она обязана своим происхождением.
Убедившись в обоснованности этих положений, я пришел к выводу, что (различные степени умственных способностей относятся к {188} категории органических явлений, находящихся в полном соответствии с состоянием того органа, который их обусловливает; что эти способности имеют свои пределы, так же как и порождающие их органы; наконец, что то же относится к способности чувствовать, которая заключается только в осуществлении специальных ощущений, образующихся при посредстве известных частей нервной системы, причем в образовании этих ощущений не участвуют те части той же системы, которые служат для выполнения умственных актов. Также обстоит дело и с внутренним чувством — этой смутной, но могущественной способностью, не имеющей ничего общего ни со способностью испытывать ощущения, ни со способностью мыслить или сочетать представления. По всей вероятности, внутреннее чувство вызывается актами, обусловленными деятельностью всей совокупности частей нервной системы, иными словами — эмоциями, которые могут быть произведены этой совокупностью.
Пусть для нас трудно, а в некоторых случаях невозможно, различить в той или иной общей системе органов все входящие в ее состав отдельные системы специальных органов, которыми природе удалось ее дополнить, но несомненно, что эти системы специальных органов действительно существуют, так как те особые способности, которые они порождают, отчетливо выражены, легко могут быть обнаружены и не зависят друг от друга.
Я уже говорил в начале этого «Введения» (стр. 36 и след.) о внутреннем чувстве, которым наделены животные, обладающие способностью чувствовать; об этом особом чувстве, которое благодаря эмоциям, мгновенно получаемым при каждой ощущаемой потребности, заставляет немедленно действовать, без участия мысли, суждения и воли, даже индивидуумов, обладающих всеми этими способностями. Выше я уже указывал, что не нахожу подходящего термина для обозначения этого чувства*. {189}
Иногда это чувство обозначают словом сознание. Однако это обозначение не дает удовлетворительного определения его, оно лишь указывает, что это смутное, но общее чувство не является непосредственным результатом воздействия на какое-либо из наших чувств и что оно не имеет ничего общего ни с чувствованием в собственном смысле этого слова, ни с умом; наконец, что оно представляет собой подлинную активную силу, заставляющую индивидуума действовать без предварительного размышления. Помимо всего, это обозначение позволяет предполагать, что мысль и суждение принимают участие в тех действиях, которые могут быть внезапно вызваны этим чувством, что совершенно не соответствует действительности. Наблюдение подтверждает даже, что животные, обладающие этим внутренним чувством и умом в той или иной его степени, в большинстве своем этим внутренним чувством не управляют.
Очень часто и весьма неточно это чувство определяют как чувство, непосредственно относящееся к сердцу, различая при этом среди наших поступков те, которые проистекают из разума, и те, которые обязаны своим происхождением сердцу. Под этим углом зрения разум и сердце являются двумя источниками всех поступков человека.
Однако все это неверно. Сердце — не что иное, как мышца, служащая для ускорения движения жидкостей в нашем теле, и может лишь содействовать циркуляции крови, но не только не способно быть причиной или источником вашего внутреннего чувства, но само подчинено воздействиям со стороны последнего.
Причиной для разграничения разума и сердца послужило отчетливое сознание того, что наши мысли, наши размышления представляют {190} собой явления, которые осуществляются в голове, и что, наоборот, склонности и страсти, которым мы подчиняемся, а также эмоции, испытываемые нами при некоторых обстоятельствах, эмоции, которые заставляют нас иногда терять способность управлять нашими чувствами, являются [результатом] впечатлений, воспринимаемых всем нашим существом, но отнюдь не особыми актами, возникающими, подобно мысли, исключительно в голове. И вот, так как различного рода нервные спазмы или потрясения, происходящие в нервной системе в результате испытываемых эмоций, замедляют или ускоряют биение сердца, то слишком необдуманно стали приписывать сердцу то, что в действительности является не чем иным, как результатом возбуждения внутреннего чувства.
Только человек и некоторые наиболее совершенные животные, движимые в моменты внутреннего спокойствия воздействием каких-либо интересов, переходящих сразу в потребность, владеют в достаточной степени своим внутренним чувством, приведенным в состояние возбуждения, чтобы дать мысли время выбрать и обсудить подлежащее выполнению действие. Это единственные существа, которые могут действовать по своей воле, но, тем не менее, и они не всегда могут управлять своими поступками.
Таким образом, акты воли могут осуществляться только человеком и теми животными, которые обладают способностью оперировать своими представлениями, сравнивать предметы, выносить суждения, выбирать, иметь или не иметь желания и вследствие этого могут видоизменять свои действия. Я уже отметил, что только среди позвоночных встречаются животные, наделенные этими способностями, так как их мозг, устроенный по некоторому общему для всех плану, более или менее полно оснащен специальными органами, обусловливающими эти способности. Вот почему главным образом у млекопитающих животных и у птиц эти способности достигают значительного развития, хотя и те и другие редко упражняют их.
Что касается беспозвоночных животных, то я уже указал, что у всех них отсутствует ум. Но я отметил также, что одни из них наделены способностью чувствовать и обладают внутренним чувством, {191} которое побуждает их совершать действия, между тем как другие совершенно лишены этих способностей.
Нам известны факты, касающиеся первых (т. е. животных, обладающих способностью чувствовать), подтверждающие, что эти животные имеют только привычки, что они производят действия только под влиянием эмоций их внутреннего чувства, никогда не управляя последним, что, не будучи в состоянии выполнить ни одного умственного акта, они не могут производить выбор, иметь или не иметь желания, вносить разнообразие в свои действия; что все их движения обусловлены необходимостью и зависимы; наконец, что ощущения дают им только восприятия предметов, оставляющие более или менее прочные следы в органе ума.
Если привычки у тех животных, которые сами не способны видоизменять свои действия, побуждают их всегда действовать одинаковым образом при одинаковых обстоятельствах, то, опираясь на наблюдения, можно утверждать, что привычки имеют также большую власть над животными, наделенными умом, ибо, несмотря на то, что последние могут видоизменять свои действия, они, как известно, делают это только в тех случаях, когда встречают то или иное препятствие, и что чаще всего они подвластны своим привычкам.
На чем основана эта великая сила привычек, сила, которая столь могущественно дает себя чувствовать у животных, наделенных умом, и которая имеет даже над человеком такую огромную власть? Я полагаю, что могу пролить некоторый свет на этот важный вопрос, если приведу следующие соображения.
Сила привычек. Всякое действие, как человека, так и животного, в сущности, является результатом внутренних движений, иными словами — движений и перемещений тонких внутренних флюидов, которые эти движения возбуждают и производят. Под тонкими флюидами я подразумеваю различные видоизменения нервного флюида, так как только этот флюид обладает в своих движениях и перемещениях скоростью, необходимой для осуществления подобных действий. Я утверждаю, что не только такие действия, как движения наружных частей тела, являются результатом движений и перемещений {192} тонких внутренних флюидов, но что той же причиной объясняются даже акты внутреннего порядка, например, внимание, сравнение, суждение, словом,— акты мысли, а также все акты, обусловленные внутренним чувством. Разумеется, все умственные акты, как и видимые движения частей тела, представляют собой действия, потому что очень длительное выполнение их вызывает усталость и потребность в восстановлении потраченных сил. И вот, я повторяю, что все такие действия всегда представляют собой результат движений или перемещений тонких внутренних флюидов, которые их вызывают. Благодаря познанию этой великой истины, без которой было бы совершенно невозможно понять причины и источник действий, как человека, так и животных, обладающих способностью чувствовать, становится ясным:
1. Что во всяком действии, часто повторяемом, особенно если оно стало привычным, тонкие флюиды, которые его производят, прокладывают себе пути и постепенно расширяют их благодаря отдельным повторным перемещениям; эти прокладываемые ими пути становятся все более и более легкими для прохождения, так что само действие из трудного, каким оно могло быть первоначально, становится постепенно все менее и менее трудно выполнимым; все части тела, принимающие участие в этих движениях, мало-помалу приспособляются к ним и в конце концов выполняют их с величайшей легкостью73.
2. Что действие, сделавшееся вполне привычным и видоизменившее внутреннюю организацию индивидуума в целях большей легкости его выполнения, становится для данного индивидуума настолько приятным, что делается настоящей потребностью, и что эта потребность в конце концов превращается в склонность, которую индивидуум не в силах побороть, если он относится к числу существ, обладающих только способностью чувствовать, и которую он с трудом побеждает, если он относится к категории существ, наделенных умом.
Если дать себе труд рассмотреть то, что я здесь изложил, то прежде всего будет легко понять, почему упражнение соответственным {193} образом развивает способности; почему привычка сосредоточивать внимание и упражнять способность суждения, мышления так сильно развивает наш ум; почему человек искусства, прилежно упражняющийся в своей области, приобретает такое совершенство в ней, которое абсолютно недостижимо для индивидуумов, не посвящающих себя ей.
Наконец, рассматривая те же изложенные выше истины, мы легко поймем источник огромного влияния привычек, которое испытывают на себе не только животные, но и мы сами. Несомненно, трудно найти тему, более интересную для изучения и для размышлений!
Ограничиваясь этим простым изложением принципов, оспаривать которые нет никаких разумных оснований, я возвращаюсь к моей непосредственной теме.
Обозревая общий ряд животных в направлении от наиболее сложного к наиболее простому, мы видим, что каждая система специальных органов упрощалась и окончательно исчезала в определенной точке этого ряда. Это признает сам Кювье, когда говорит: «Мы обладаем в настоящее время знаниями относительно различных степеней деградации нервной системы в животном царстве и соответствия их с различными степенями ума — знаниями, столь же полными, как и относительно кровеносной системы»*. В другом месте он говорит: «Действительно, если последовательно рассматривать различные семейства, не найдется ни одного органа, который постепенно не упрощался бы, не терял бы своей мощи и не кончал бы полным исчезновением, как бы растворяясь в общей массе тела»**.
Отсюда следует, что способности постепенно упрощаются и каждая из них совсем угасает на определенной ступени общего ряда животных, так же как и органы, которые их производят; что способности повсюду соответствуют степени совершенства и состоянию органов и что у животных, которыми заканчивается этот ряд, сохраняются лишь способности, присущие всем живым телам вообще, а также способность, составляющая сущность их животной природы. {194}
Наконец, отсюда также следует, что неверно и что не может быть верно предположение, будто все животные наделены способностью чувствовать. Я полагаю, что это в достаточной мере мною доказано. Итак, я не буду возвращаться к этому предмету, ибо он не нуждается в новых доказательствах.
Из приведенного становится ясной и другая, столь же неоспоримая истина, а именно, что очень несовершенные животные, вовсе не обладающие способностью чувствовать, бесспорно лишены того нервного аппарата, при помощи которого осуществляются ощущения и внутреннее чувство. Этот аппарат должен быть настолько сложным и настолько развитым, чтобы при возбуждении в целом тем или иным воздействием на чувства или какой-нибудь внутренней эмоцией, он мог заставить все тело принимать участие в этих возбуждениях или в этих эмоциях; наконец, он должен представлять для обладающего им индивидуума активную силу, которая может заставить его действовать.
Таким образом, эти животные действительно лишены сознания, этого глубокого чувства собственного существования, которым обладают животные, наделенные указанным аппаратом и способные испытывать ощущения и воздействия со стороны внутренних эмоций. Очень несовершенные животные, о которых идет речь, вовсе лишены упомянутого выше внутреннего чувства; они не могут ни содержать в себе причину, являющуюся возбудителем их [собственных] движений, ни порождать ее. Они, несомненно, получают ее извне и поэтому она не находится в их распоряжении, но, как это было указано мною выше, ни одна из их потребностей и не нуждается в ней. Все, что необходимо для жизни, им доступно. Они являются животными лишь потому, что обладают раздражимостью.
Я закончу эту часть важным замечанием относительно потребностей различных животных, причем эти потребности, никогда не бывают ни выше, ни ниже тех способностей, которые могут их удовлетворить.
Наблюдается, что потребности животных, начиная с самых несовершенных, например тех, которые составляют первые отряды {195} инфузорий, и до наиболее совершенных млекопитающих, увеличиваются по мере постепенного усложнения их организации и что при этом соответственно растут и те способности, которые необходимы для удовлетворения этих потребностей. Вследствие этого у наиболее простых и несовершенных животных потребности и способности действительно сведены к минимуму, тогда как у наиболее совершенных среди млекопитающих животных потребности и способности достигают максимума сложности и степени совершенства. Но так как каждая отдельная способность является продуктом специальной системы органов, которая ее обусловливает, то неоспоримо, что повсюду существует полное соответствие между потребностями, способностями, служащими для их удовлетворения, и органами, обусловливающими эти способности.
Таким образом, способности, наблюдаемые у различных животных, представляют собой чисто органическое явление; они ограничены известными пределами, так же как и органы, которые их производят; они всегда находятся в полном соответствии с состоянием органов, которым они обязаны своим существованием, а их число, так же как и степень их совершенства, всецело соответствует числу и высоте потребностей.
Не подлежит сомнению, что на протяжении лестницы животных возрастает число способностей и степень их совершенства, так же как и органов, которые эти способности производят, так что, если на одном конце лестницы мы видим животных, лишенных каких-либо специальных способностей, то противоположный конец ее показывает нам животных, обладающих наибольшим числом способностей, которыми природа могла наделить эти существа.
Чем больше мы изучаем животных, наделенных той или иной степенью ума, тем больше мы восхищаемся ими, тем больше начинаем любить их. Кто не знает ума собаки, ее привязанности к хозяину, ее верности, ее благодарности за хорошее обращение, ревности, которую она проявляет при известных обстоятельствах, ее необыкновенной понятливости, ее уменья угадывать по вашим глазам, довольны, вы или сердитесь, в хорошем ли вы или в дурном {196} настроении, ее беспокойства и даже сочувствия при виде ваших страданий!
Однако собака еще не самое умное животное: другие животные гораздо умнее, особенно обезьяны. Они превосходят собаку по сметливости, проницательности, хитрости, ловкости и т. д., но с другой стороны, им более свойственны проявления злости и они обычно труднее поддаются приручению.
Следовательно, существуют различные степени ума, чувства и т. д., как и во всем, что создано природой.
Если в общем ряде животных точные границы способностей, наблюдаемых лишь у некоторых из них, еще окончательно не установлены, мы, тем не менее, имеем полное основание считать, что эти границы существуют, ибо не все животные обладают одинаковыми способностями. Следовательно, в лестнице животных всегда можно найти точку, на которой впервые появляется данная способность.
Так же обстоит дело и со специальными системами органов, которые обусловливают эти способности. Если нам еще не всегда известно точное место лестницы животных, где начинается каждая из них, мы вое же можем быть уверены в том, что всякая специальная система органов действительно имеет в какой-нибудь точке лестницы свое начало, т. е. точку, где она впервые встречается в зачаточном своем состоянии, а для некоторых из этих систем начало, по-видимому, уже точно установлено.
Так, специальная система органов, выполняющая пищеварение, по-видимому, начинается только с полипов; система, служащая для дыхания, впервые появляется только у лучистых; система, от которой зависит мышечное дыхание, с ее зачатками нервов может быть обнаружена только начиная с иглокожих лучистых; система органов для полового оплодотворения [размножения] в своей зачаточной форме появляется, как можно думать, в последних отрядах класса червей; она отчетливо выражена у насекомых и у животных последующих классов; система, достаточно сложная для того, чтобы обусловить явление чувства, впервые отчетливо выражена у насекомых; {197} система, осуществляющая подлинную циркуляцию, начинает существовать только у паукообразных; наконец, система, от которой зависит образование представлений и выполнение различных актов в отношении их, входит только в план организации позвоночных животных и, по всей вероятности, начинается только с рыб.
Если приведенные положения и нуждаются в некоторых исправлениях, то, несомненно, что эти последние нигде не могут изменить местоположение тех начальных точек в лестнице животных, где начинает существовать та или иная способность, иными словами,— где появляются преимущества, которыми данная система наделяет обладающих ею животных.
Там, где какой-нибудь предел не может быть твердо установлен, произвольные мнения ведут к неустойчивости взглядов в данном вопросе.
Ле Галлуа, например, на основании различных опытов, которые он производил над живыми млекопитающими, утверждает, что очаг чувствования помещается только в спинном мозгу, а не в области основания головного мозга; он утверждает даже, что существует столько отдельных центров ощущений, сколько имеется сегментов этого мозга или сколько существует отдельных участков спинного мозга, посылающих нервы к различным частям тела. Таким образом, вместо одного очага чувствования этот автор признает большое число их.
Но следует ли всегда считать достоверными выводы, сделанные тем или иным наблюдателем на основании фактов, которые он открыл, и не будет ли более уместным предварительно изучить как его метод рассуждения, так и самые основы, на которые он опирается?
С одной стороны, я вижу, что Ле Галлуа судит о чувствительности почти всегда на основании возбужденных движений, которые он наблюдал, т. е. он рассматривает результаты раздражимости как доказательства испытанных ощущений; с другой стороны, я нахожу, что он вовсе не отличает в нервном влиянии то из них, которое вносит жизнь в органы и дает им силу действовать, от совершенно иного влияния, служащего исключительно для образования ощущений. {198} Если бы он занимался этими вопросами, он должен был бы также выделить и то нервное влияние, резко отличающееся от первых двух, которое обусловливает образование представлений и выполняемых над ними операций.
Возможно, что у животных, обладающих способностью чувствовать, на самом деле существует, как это утверждает Ле Галлуа, несколько отдельных очагов ощущений, но тогда вместо одной системы органов для образования этого физического явления их было бы несколько; наконец, если бы это действительно было так, то пришлось бы допустить, что природа без всякой необходимости прибегла к усложнению средств, потому что можно доказать, что один единственный очаг ощущений способен обеспечить выполнение всех известных нам явлений, связанных с чувствительностью.
Однако до тех пор, пока более решающие опыты в этой области, чем те, которые опубликовал Ле Галлуа, не дадут нам возможности вынести окончательное суждение по этому вопросу, я считаю необходимым сохранить более правдоподобное мнение о существовании единственного очага чувствования.
Это не мешает мне признать, что нервы, отходящие от спинного мозга, являются именно теми нервами, которые обеспечивают сердце (независимо от его раздражимости), а также и другие части тела источником активности. Это не мешает мне также согласиться с упомянутым ученым, что нервы того же порядка, активирующие органы дыхания, начинаются в продольном мозгу.
Когда число наблюдателей природы еще больше увеличится, а зоологи перестанут ограничиваться установлением искусственных приемов различения животных, изучением особенностей форм, произвольным построением беспрестанно меняющихся границ родов, непрерывной разработкой неустойчивой номенклатуры и начнут вместо этого заниматься изучением природы, ее законов, средств, которым она пользуется, и отношений, которые она установила между специальными системами органов, с одной стороны, и способностями, которыми эти органы наделяют обладающих ими животных,— с другой, тогда существующие еще сомнения и расхождение {199} мнений относительно тех точек лестницы животных, где впервые появляется каждая способность, и относительно единства местонахождения и средоточия каждой системы органов постепенно рассеются, основные положения, приведенные в моей «Philosophie zoologique», станут все более и более ясными и наука обретет то значение, которое она должна иметь.
В ожидании этого мне удалось, как мне кажется, показать, что способности животных, независимо от степени их совершенства, представляют собой явления чисто физические и являются результатом функций, выполняемых органами или системами органов, которые их могут порождать, что в них нет ничего метафизического, ничего, что было бы чуждо материи; наконец, что в отношении всех их речь идет только о взаимоотношениях между различными частями тела животного и различными видами материи, находящимися в движении, воздействующими одни на другие и тем самым приобретающими способность вызывать наблюдаемые явления74.
Если бы это было иначе, мы никогда не могли бы познать эти явления, ибо каждое из них — не что иное, как наблюдаемый нами факт, а мы определенно знаем, что только природа раскрывает нам факты, и что только при помощи чувств мы сумели познать небольшое число тех фактов, которые она делает доступными нашему наблюдению.
Я полагаю, мне удалось доказать, что, помимо способностей, общих для всех живых тел, животные обнаруживают различного рода способности, присущие только некоторым из них. Отсюда следует, что способности ограничены известными пределами, так же как и органы, которые их производят.
Теперь необходимо показать, что склонности животных, обладающих способностью чувствовать, и даже склонности человека, так же как и его страсти, представляют собой явления организации и естественный и необходимый результат внутреннего чувства этих существ. Для этого я попытаюсь раскрыть источник этих склонностей и дать анализ наиболее важных склонностей, проистекающих из этого источника.
| {200} |

Все в природе связано, все взаимозависимо, все представляет собой результат общего плана, постоянно соблюдаемого, но беспредельно меняющегося в своих частях и деталях. Сам человек, по крайней мере одной стороной своего существа, связан с этим общим, неуклонно выполняемым планом. Поэтому, чтобы не пропустить ничего из того, что является результатом вызванной к жизни организации, необходимо рассмотреть здесь в отдельности, каков источник склонностей и даже страстей у существ, обладающих способностью чувствовать, у которых мы наблюдаем эти природные явления.
Таким образом, тема этой пятой части вовсе не чужда, как это можно было бы подумать сначала, той задаче, которую я перед собой поставил в настоящем «Введении», а именно: указать факты и явления, представляющие собой результат организации и жизни. В этой части я намерен детально рассмотреть склонности существ, наделенных способностью чувствовать, так как эти склонности представляют собой не что иное, как явления организации, продукт внутреннего чувства этих существ.
Поскольку есть основание утверждать, что мы не получаем никаких положительных знаний вне природы, ибо подобные знания приобретаются только путем наблюдения, и что вне природы мы не можем ничего наблюдать, ничего изучать, ничего достоверно знать,— {201} следует прийти к выводу, что все, что мы знаем положительного, связано с природой и действительно является ее существенной частью.
Исходя из этого, я скажу, не опасаясь ошибиться, что природа предоставляет нашему наблюдению только тела, движения тел или их частей, изменения в телах или вокруг них, свойства тел, явления, производимые телами и в особенности некоторыми из них, наконец,— незыблемые законы, управляющие движениями, изменениями и явлениями, которые обнаруживают эти тела.
Вот, по-моему, единственная область, доступная нашему наблюдению, нашим исследованиям, нашему изучению; вот, следовательно, единственный источник, из которого мы можем черпать реальные познания и полезные истины.
Если это так, то явления, которые мы наблюдаем, какого бы рода они ни были, являются результатом деяний природы, в ней одной имеют свой источник и все без исключения подчинены ее законам. Поэтому для нас важнее всего стремиться путем наблюдения и изучения к полному пониманию причин и законов, производящих наблюдаемые нами явления, уделяя при этом особое внимание тем явлениям, которые могут нас интересовать непосредственно.
Среди многочисленных и разнообразных явлений, доступных наблюдению, есть такие, которые должны нас особенно интересовать, потому что они ближе всего к нашему образу действий, к нашей органической конституции и потому, что они очень похожи на явления того же порядка, происходящие в нас самих и полученные нами от природы тем же путем. Явления, о которых здесь идет речь,— это склонности животных, обладающих способностью чувствовать, даже страсти, наблюдаемые у тех из них, которые наделены умом в той или иной степени. Так как эти явления представляют собой факты, доступные наблюдению, они относятся к природе и на самом деле являются результатом действия ее законов, иными словами,— результатом могущества, которым ее наделил верховный творец. Мы легко можем возвыситься до познания истинного источника, которому эти явления обязаны своим происхождением и наивысшей степенью проявления. {202}
Я смело могу сказать, что склонности животных, обладающих способностью чувствовать, и еще более замечательные склонности животных, наделенных умом, являются непосредственным продуктом внутреннего чувства этих созданий.
И вот, так как внутреннее чувство, о котором идет речь, очевидно, является существенным фактором органической системы ощущений, то склонности, наблюдаемые у животных, обладающих этим внутренним чувством, представляют собой истинный результат организации этих существ76.
Только незнание этих положительных истин заставляет рассматривать вопросы, которыми я намерен заниматься, как нечто постороннее моей теме.
Оставляя в стороне все то, чем человек обязан иному, более возвышенному . источнику, и желая рассматривать в нем только то, что он получил от природы, я полагаю, что главные склонности, столь властно влияющие на различные его действия, также являются подлинными проявлениями его организации, т. е. внутреннего чувства, которым он наделен, чувства, которое без его ведома обусловливает многие его поступки. Мне кажется, кроме того, что его страсти, представляющие собой необузданные проявления тех его природных склонностей, которым он неразумно предается, обусловлены, с одной стороны — природой, а с другой — слабым развитием его разума, препятствующим пониманию им своих подлинных интересов.
Если это мое мнение обосновано, то становится возможным приблизиться к источнику склонностей и страстей человека и понять в каждом отдельном случае глубокие причины совершаемых им поступков. Достаточно для этого привести точный анализ различных его склонностей.
Но для того чтобы показать существование порядка вещей, который, по-видимому, еще не привлек к себе нашего внимания, я не должен преждевременно высказывать соображения, необходимые для его познания. Итак, заметив, что источник склонностей человека — тот же, что и склонностей животных, обладающих способностью {203} чувствовать, я хочу сначала определить этот источник и рассмотреть самые склонности этих животных. Далее я покажу, что тот же источник существует и у человека и что у последнего склонности гораздо сильнее выражены и в гораздо большей степени подразделены [дифференцированы].
Согласно закону природы, все живые существа, наделенные способностью чувствовать, следовательно существа, обладающие тем внутренним и смутным чувством, которое получило название чувства существования77, непрерывно стремятся к самосохранению и вследствие этого всецело подвластны могущественной склонности, которую я считаю первоисточником всех их действий. Этой склонностью является:
Здесь я намерен показать, что только эту общую склонность78 следует считать источником всех без исключения действий тех животных, которые обладают способностью чувствовать. Для достижения своей цели я должен напомнить иерархию способностей этих животных, так как это позволит мне установить в каждом частном случае все то, что может обусловить та или иная склонность.
Приведенные выше наблюдения заставляют нас признать, что среди животных, о которых здесь идет речь:
1) одни обладают только способностью чувствовать и ни в какой степени не наделены умом,
2) другие, более совершенные, одновременно обладают и способностью чувствовать и способностью в различной степени выполнять умственные акты.
Следовательно, и те и другие, обладая способностью чувствовать, могут испытывать боль, и вот легко показать, что эта боль в ее различных степенях означает для них состояние неблагополучия79, {204} которого они стараются избегать, и что необходимость избегать этого неблагополучия является реальной причиной, порождающей рассматриваемую склонность.
Действительно, у всякого индивидуума, обладающего способностью чувствовать, страдание, даже в самой слабой его степени, как смутпое, так и более определенное, вызывает то, что называют состоянием неблагополучия, и только когда испытываемый недуг становится очень сильным или достигает крайних пределов, такое состояние получает название боли.
Таким образом, поскольку, начиная с самой слабой степени боли и до самой сильной, чувство неблагополучия беспрерывно испытывается индивидуумом и это состояние в той или иной мере снижает степень его склонности к самосохранению, в то время как состояние благополучия всегда благоприятствует последнему, постольку отсюда вытекает, что всякое существо, обладающее способностью чувствовать, непрерывно должно стремиться освободиться от состояния неблагополучия и обеспечить себе состояние благополучия. Наконец, склонность к самосохранению, естественная для каждого индивидуума, наделенного чувством существования, неизбежно придает этому стремлению ту интенсивность, которую мы в нем наблюдаем. Это представляется мне неоспоримым.
Прежде я думал, что склонность к продолжению своего вида, которой, как можно думать, обладают все существа, наделенные способностью чувствовать, представляет собой самостоятельную склонность, подобно склонности к самосохранению, и что она является источником целого ряда других склонностей особого порядка. Но в дальнейшем, обратив внимание на то, что эта склонность носит у индивидуумов временный характер и что сама она является продуктом склонности к самосохранению, я перестал рассматривать ее как нечто особое80. Поэтому здесь я коснусь ее только при анализе частностей.
В самом деле, в известный период развития индивидуума его организация, постепенно подготовляемая для этой цели, пробуждает у него под влиянием внутренних возбуждений, обыкновенно {205} вызываемых какими-либо внешними воздействиями, потребность выполнять акты, которые могут способствовать воспроизведению и, следовательно, продолжению вида. Эта потребность порождает у данного индивидуума смутное, но реальное чувство неблагополучия, которое приводит его в состояние возбуждения. Удовлетворяя эту склонность, индивидуум испытывает чувство огромного благополучия, которое поддерживает в нем потребность отдаваться этой склонности. Следовательно, рассматриваемая склонность действительно является результатом склонности к самосохранению.
Теперь, чтобы осветить рассматриваемый мною интересный вопрос, напомню то, что уже было изложено мною раньше, а именно: что существуют различия в степени сложности организации животных и различия в количестве и значимости их способностей и что наблюдается настоящая иерархия этих способностей. Поскольку это так, я утверждаю, что легко понять:
1) что животные, настолько несовершенные, что они не могут обладать способностью чувствовать, лишены как склонности к самосохранению, так и склонности к продолжению вида, и что природа их сохраняет, размножает и позволяет им совершать действия благодаря причинам, которые отнюдь не лежат внутри их;
2) что животные, обладающие только способностью чувствовать, но не имеющие ни одной умственной способности, избегают боли, но испытывая страха перед ней, и проявляют активность с целью избавиться от состояния неблагополучия только в тот момент, когда они его испытывают;
3) что животные, наделенные одновременно способностью чувствовать и способностью к образованию умственных актов, не только стремятся избегать боли и состояния неблагополучия, но, помимо того, испытывают перед ними страх;
4) что человек, если рассматривать лишь явления, обусловленные его организацией, не только избегает и боится боли и состояния неблагополучия, но также испытывает страх перед собственной смертью, потому что вполне возможно, что из всех существ, наделенных разумом, только человек наблюдал и, следовательно, понял ее. {206}
Таким мне представляется положение вещей. Теперь я приведу различия, которые, по моему мнению, можно установить в отношении источника действий различных животных и источника склонностей, наблюдаемых у большого числа этих существ.
У животных, не обладающих способностью чувствовать, отсутствуют какие бы то ни было склонности, даже склонность к самосохранению.
Каждая склонность неизбежно представляет собой продукт внутреннего чувства. И вот, так как упомянутые животные не обладают этим чувством, у них не могут проявляться никакие склонности.
Этим животным присущи только признаки животной жизни, а также привычки к движениям и действиям, обусловленным теми или иными внешними воздействиями. Привычки, движения и действия у этих различных животных неодинаковы только потому, что флюиды внешней среды, возбуждающие в них жизнь и движения, прокладывают себе внутри их тела различные пути, зависящие от состояния организации и от особого устройства тела этих существ.
Эти причины, а также способности, присущие жизни вообще, обеспечивают рассматриваемым животным определенную для каждого данного вида продолжительность жизни, а также их воспроизведение.
У животных, обладающих только способностью чувствовать, но лишенных каких бы то ни было умственных способностей, существует склонность к самосохранению, потому что они обладают внутренним чувством, которое эту склонность порождает и которое заставляет их производить действия, когда это вызывается потребностями. И вот, так как каждая потребность, до тех пор, пока она не удовлетворена, создает состояние неблагополучия, то склонность к самосохранению испытывается этими животными лишь временно, т. е. {207} только тогда, когда потребности проявляются у них и влекут за собой непосредственные действия.
Таким образом, у животных, обладающих способностью чувствовать, склонность к самосохранению порождает лишь вторичную склонность, а именно — склонность избавиться от состояния неблагополучия, когда они его испытывают.
Эта склонность избегать неблагополучия заставляет их под влиянием внутреннего чувства:
1) избегать боли, когда они ее испытывают;
2) отыскивать и схватывать пищу, когда они ощущают в ней потребность;
3) выполнять акты оплодотворения, когда состояние их организации к этому побуждает;
4) отыскивать благоприятные условия пребывания, убежища и т. д.; если они и создают себе средства, благоприятствующие их самосохранению, то это происходит исключительно благодаря привычкам к действиям, приобретенным ими под влиянием потребности избегать состояния неблагополучия,— привычкам, вполне определенным у каждой данной породы.
У животных, наделенных способностью чувствовать, склонность избегать состояния неблагополучия, по-видимому, является единственным проявлением склонности к самосохранению. Тем не менее у этих животных уже существует себялюбие81; впрочем последнее у них еще не отделимо от склонности к самосохранению и только у тех животных, о которых речь впереди, себялюбие становится отчетливо выраженной склонностью.
Я называю животными, наделенными умом, тех, которые, будучи более совершенными, чем животные, обладающие способностью чувствовать, одновременно имеют и способность чувствовать и, в известной мере,— способность выполнять умственные акты.
У этих животных склонность к самосохранению не ограничивается только тем, что порождает отчетливо выраженную вторичную {208} склонность, а именно — склонность избегать состояния неблагополучия и боли. Ум, которым они обладают, хотя он, в зависимости от принадлежности к тому или иному виду и классу, более или менее ограничен,— дает им представление о боли и о состоянии неблагополучия и заставляет этих животных предвидеть их возможность и бояться их; в то же самое время ум доставляет им разнообразные средства, при помощи которых они стараются избегнуть этой опасности и отвратить ее от себя. Отсюда следует, что эти животные могут видоизменять свои действия, и действительно, различные индивидуумы одного и того же вида часто удовлетворяют свои потребности при помощи действий, которые не всегда бывают одинаковыми, как это имеет место у животных, наделенных лишь способностью чувствовать.
Несмотря на это, я наблюдал, что даже те животные, организация которых наиболее близка к организации человека и ум которых вследствие этого может достигать более высокой степени, чем у прочих животных, обыкновенно приобретают только небольшое число представлений и отнюдь не стремятся увеличить круг последних. Только трудности, с которыми эти животные встречаются при выполнении своих привычных действий, трудности, вынуждающие их производить новые вспомогательные действия, чтобы достигнуть своей цели, заставляют их переносить свое внимание на новые предметы, увеличивать число представлений и вносить тем большее разнообразие в свои действия, чем значительнее и многочисленнее встречающиеся трудности.
Вследствие такого положения вещей число вторичных склонностей у этих животных сводится к трем, весьма отчетливо выраженным.
Приводим перечень их.
Склонность к самосохранению — источник всех прочих склонностей — порождает у животных, обладающих умом:
1) стремление к благополучию;
2) себялюбие;
3) склонность господствовать. {209}
Чтобы дать сжатый и последовательный анализ каждой из этих вторичных склонностей и показать их подразделения, укажу все, что мне удалось заметить относительно их.
Стремление к благополучию на одну ступень выше той склонности, которая заставляет избегать неблагополучия лишь в момент, когда оно испытывается, ибо эта склонность отнюдь не предполагает представления о самом неблагополучии или предварительного знания его.
Таким образом, внутреннее чувство непрерывно влечет животных, обладающих умом, к поискам благополучия, заставляет их избегать неблагополучия или избавляться от него, обеспечивать себе удовольствия, которые они испытывают, удовлетворяя свои потребности. У этих животных нет никакой привязанности к жизни, потому что у них нет и познания жизни, они совершенно не боятся смерти, потому что не замечают ее вовсе, и потому, что при виде трупа они не способны подняться до мысли о причинах, лишающих живое существо жизни и движения. Однако всем им свойственно стремление к благополучию, так как они его испытали и так как они предвидят опасность попасть в условия неблагополучия, поскольку им в той или иной степени приходилось переносить лишения или страдания. Хорошо известно, что заяц, заметивший охотника, птица, улетающая при приближении человека с ружьем, спасаются от опасности подвергнуться неблагополучию или боли прежде, чем они непосредственно почувствовали их. Стремление к благополучию заставляет, таким образом, обладающих умом животных
1. Уклоняться от боли и всего, что их стесняет или причиняет им неудобство.
2. Отыскивать удобные и благоприятные условия, кров и солнечное тепло в холодное время года, тень и прохладу — в жару и т. д. и т. п. {210}
3. Удовлетворять потребность в пище, иногда проявляя при этом жадность, либо потому, что пища непосредственно привлекает их, либо потому, что они озабочены тем, чтобы не остаться без нее в дальнейшем.
4. Осуществлять акты оплодотворения или страстно искать возможность осуществления их, когда к этому их побуждают потребности.
5. Предаваться отдыху и сну, когда прочие потребности удовлетворены.
1. Охотиться за добычей, терпеливо выслеживать ее и устраивать западни.
2. Употреблять новые и разнообразные средства, сообразно обстоятельствам, для удовлетворения всякой своей потребности.
3. Проявлять трусость или низость под влиянием сильного страха перед болью, если сами они слабы.
4. Предохранять себя от опасностей, пользуясь для этого всевозможными ухищрениями.
Себялюбие проявляется у животных, наделенных умом, в эгоизме, который у них часто наблюдается. Оно побуждает их:
1. Уделять внимание только тем предметам, которые непосредственно связаны с их потребностями. Это всегда ограничивает их представления очень небольшим числом.
2. Овладевать чужой добычей, если они сильнее других.
3. Преследовать других животных, приближающихся к их самке или к той, которой они добиваются, или вступать в борьбу с ними.
4. Отдавать предпочтение себе перед всеми животными, когда дело идет о том, чтобы использовать те или иные преимущества.
1. Проявлять, из чувства личного интереса, привязанность к своему благодетелю, привязанность, которая выражается у них в {211} доверчивости, кротости, ласковости, верности и в том, что они сохраняют память о его благодеяниях.
2. Проявлять ревность по отношению к другим животным, в особенности, когда последние приближаются к их благодетелю или хозяину. Эта ревность выражается особенно явственно, если он хорошо с ними обращается, а сами они довольны: они считают этого хозяина в некотором роде своей собственностью.
3. Проявлять ненависть к тем, кто причиняет им вред или плохо обращается с ними,— ненависть, которая иногда выливается в запоздалые акты мести.
Склонность господствовать — третья и последняя из вторичных склонностей — ясно выражена у рассматриваемых животных. Она побуждает их:
1. Ссориться с другими животными, преследовать их или вступать с ними в борьбу, если они сильнее или чувствуют за собой поддержку.
2. Преследовать тех, кто убегает от них, и нападать на них; драться и даже убивать тех, кто вследствие большой слабости, несчастного случая или раны не в состоянии защищаться, и все это для удовлетворения одной только склонности, о которой здесь идет речь.
1. К гордости и даже своего рода тщеславию, что проявляется у них в осанке, взгляде, когда с ними хорошо обращаются, хорошо кормят их, вообще, когда они испытывают чувство привычного благополучия.
2. К своего рода презрению и ненависти к несчастным индивидуумам, к тем. кто имеет жалкий вид, немощен, принижен и т. д. и т. п. {212}
Если бы в мои намерения не входило по возможности сократить объем этой пятой части «Введения», я мог бы добавить к приведенным здесь данным ряд известных фактов, а также результаты моих собственных наблюдений, которые могли бы служить обоснованием склонностей, приписываемых мною многим животным82. Однако достаточно показать, что эти склонности действительно существуют и легко могут быть обнаружены. Таким образом, если бы захотели уделить внимание этим вопросам, было бы трудно не признать:
1. Что животные, лишенные способности чувствовать, не обладают и не могут обладать никакими склонностями, потому что они лишены внутреннего чувства.
2. Что животные, наделенные способностью чувствовать, обладают только одной или двумя вторичными склонностями, так как, будучи лишены умственных способностей, они не могут видоизменять свои действия и обладают только привычками, всегда одинаковыми у всех особей одного и того же вида.
3. Что животные, обладающие умом, имеют три ясно выраженные вторичные склонности, которые подразделяются на ряд других, ибо, будучи наделены умственными способностями, эти животные могут вносить разнообразие в свои действия, когда к этому их побуждают трудности, с которыми они сталкиваются при удовлетворении своих потребностей.
Тем не менее возможность анализа склонностей как у животных, обладающих способностью чувствовать, так у животных, наделенных умом, весьма ограничена, потому что основные потребности и тех и других немногочисленны, а так как наиболее совершенные из этих животных уделяют внимание только тем предметам, которые непосредственно связаны с их насущными потребностями, то число приобретенных ими представлений обычно крайне ограничено, а их склонности не отличаются большим разнообразием.
Иначе обстоит дело у человека, живущего в обществе себе подобных. Непрерывно стремясь расширить круг своих удовольствий и желаний, человек постепенно создал себе множество различных потребностей помимо тех, которые являются для него насущными. {213}
Наблюдая все то, что ему может быть полезно, все, что может иметь отношение к его многочисленным интересам, к его разнообразным и растущим источникам удовольствий, он увеличивает тем самым число своих представлений до бесконечности. Вот причина того, что его склонности, проистекающие из того же источника, что и склонности животных, обладающих способностью чувствовать, и животных, наделенных умом, представляют у различных индивидуумов, в зависимости от обстоятельств, в которых каждый из них находится, почти беспредельное многообразие и распадаются на множество отдельных склонностей83.
Попытаемся тем не менее охарактеризовать главные склонности человека, показать их подлинный источник и установить основу их иерархии, т. е. дать те первичные деления, на которые эта иерархия опирается.
Человек не должен ограничиваться рассмотрением всего того, что находится вне его, всего, что он может наблюдать в природе: он должен также уделять внимание изучению самого себя, своей организации, своих способностей, склонностей и взаимоотношений со всем окружающим.
Человек, по крайней мере одной стороной своего существа, всецело связан с природой и вследствие этого во всем подвластен ее законам. Природа наделяет его при помощи тех законов, которые управляют его внутренним чувством, как общими склонностями, так и частными. Он не способен полностью подавить в себе первые, но при помощи разума и правильно осознанных собственных интересов может видоизменять и надлежащим образом управлять прочими своими склонностями. Наконец, те из его склонностей, которым он безудержно отдается, превращаются в страсти, порабощающие его и помимо его воли управляющие всеми его поступками. {214}
По мере того как человек расселился по различным странам земного шара и размножился, стал жить в обществе себе подобных, наконец, по мере прогресса цивилизации его стремление к удовольствиям, его желания и вследствие этого его потребности необычайно возросли и увеличились в числе; его взаимоотношения с другими индивидуумами и с обществом, частью которого он является, значительно изменили и осложнили его личные интересы. Склонности, которыми его наделила природа, как и его новые потребности, все более и более увеличиваясь в числе, создали, незаметно для него самого, огромное множество связей, которые его почти поработили, хотя он и не замечает этого.
Легко понять, что эти столь разнообразные частные склонности и индивидуальные интересы почти всегда оказываются в противоречии с интересами других индивидуумов, и что, так как интересы личности всегда должны уступать интересам общества, то отсюда неизбежно возникает конфликт противоположных сил, развитию которого ни законы, ни всякого рода обязанности, условности, установленные господствующим мнением, ни даже мораль зачастую не могут противопоставить достаточно сильной преграды.
Без сомнения, человек рождается, не имея ни представлений, ни знаний, обладая одним лишь внутренним чувством и общими склонностями, которым свойственно самопроизвольно развиваться. Только с течением времени и благодаря воспитанию, опыту и обстоятельствам, в которых человек находится, он приобретает всякого рода представления и знания.
И вот, так как люди, в зависимости от положения и условий, в которых они находятся в обществе, в неодинаковой мере приобретают представления и знания, то легко видеть, что те из них, которым удается приобрести больший объем этих представлений и знаний, получают тем самым средства господствовать над другими, и мы знаем, что они никогда не упускают этой возможности.
Но многих из людей, которые приобрели большой запас представлений и почти непрерывно вращаются в обществе себе. подобных, упомянутый выше конфликт интересов побуждает все время подавлять {215} внутреннее чувство, скрывать его проявления, так что в конце концов эти люди приобретают способность и привычку управлять им. Отсюда понятно, какое преимущество в отношении средств господства и успеха во всех своих делах эти индивидуумы приобретают по сравнению с теми, которые сохранили больше непосредственности. Для тех, кто умеет изучать человека, интересно наблюдать многообразие личин, под которыми скрываются узкие интересы индивидуумов, определяемые их состоянием, положением в обществе, властью, которой они располагают, и т. д. и т. п.
Вот краткий перечень главных причин, приведших цивилизованного человека в то состояние, в котором мы видим его в настоящее время в Европе, состояние, при котором, вопреки приобретенным знаниям, и даже благодаря им, человек, обладающий меньшими возможностями, всегда оказывается жертвой тех, кто располагает большим числом их,— в то состояние, которое всегда позволяет облеченному властью меньшинству порабощать огромное большинство.
При таком положении вещей единственный способ извлечь наибольшую пользу из нашего собственного положения, с моей точки зрения, заключается в следующем: опираясь на разум, справедливость и мораль, создать себе известное число принципов, от которых мы не должны никогда отступать; далее, необходимо научиться распознавать те склонности, которые человек получил от природы, и изучить различные их проявления у индивидуумов его вида, принимая во внимание обстоятельства, в которых каждый из них находится. Эти знания будут очень полезны в наших взаимоотношениях с другими людьми.
Таким образом, для того чтобы с наименьшим ущербом управлять нашим поведением в отношении людей, с которыми мы вынуждены жить и общаться, мы обязаны изучать их, раскрывать, по мере возможности, источник их поступков и стараться понять природу тех поступков, которые они неизбежно совершают соответственно их полу, возрасту, положению в обществе, богатству, власти и т. д. Мы должны будем даже принять во внимание, что с изменением возраста, положения в обществе, состояния, богатства или власти, {216} у них изменяется и способ чувствовать, и взгляды на вещи, и суждения, и т. п., а все это порождает соответствующие влияния, определяющие их поступки.
Но как достигнуть цели в столь трудном изучении, если нам совершенно неизвестна значительная часть того влияния, которое природные склонности оказывают на все поступки человека!
И вот, поскольку мне казалось, что этими существенными познаниями слишком пренебрегают, я решил попытаться дать чрезвычайно сжатый очерк их основ. Вопросы, которые я намерен осветить здесь, рассматривались до сих пор как относящиеся целиком к компетенции моралиста, а потому все то, что в них явно принадлежит компетенции натуралиста, не было достаточно изучено. Рассмотрение одной только этой стороны я и хочу взять на себя и это дает мне право предложить следующую основу для анализа склонностей цивилизованного человека.
Человек, обладающий, подобно всем прочим чувствующим существам, внутренним чувством, заставляющим его, благодаря тем эмоциям, которые оно способно испытывать, действовать немедленно и машинально, т. е. без участия мысли, именно таким путем получил от природы могущественную склонность, являющуюся источником всех тех склонностей, которым он обычно бывает подчинен. Этим внутренним чувством, воздействующим на него незаметно для него самого, следует считать:
Склонность к самосохранению представляет для всякого индивидуума, наделенного чувством существования, наиболее могущественную, наиболее общую и наименее подверженную изменениям склонность. {217} Эта склонность порождает четыре другие склонности, также присущие всем индивидуумам человеческого рода, действующие столь же непрерывно и столь же мало подверженные изменению в течение жизни индивидуума. В свою очередь, эти последние обусловливают огромное разнообразие особых склонностей [penchants particuliers], подчиненных одни другим и иерархическую связь которых у человека так трудно установить. Склонность к самосохранению, о которой здесь идет речь, сама по себе ничем не может быть нам вредна; напротив, она может быть нам только полезна. Среди склонностей, которые она, в зависимости от тех или иных условий, порождает у нас, мы должны научиться различать те, которые могут привести к последствиям, вредным для наших истинных интересов, и мы должны стремиться их подавлять и направлять их к нашей пользе.
Немаловажный интерес для нас представляет знание того, что склонность к самосохранению, которой подвластны все люди, непосредственно вызывает у человека и поддерживает в нем четыре весьма сильных внутренних чувства, т. е. четыре вторичные склонности, которые незаметно для него самого господствуют над ним и управляют всеми его действиями, если этому благоприятствуют обстоятельства. Человек может посредством разума умерять результаты этих склонностей и направлять их в сторону своих подлинных интересов только в том случае, если он эти склонности полностью познает.
Этими четырьмя глубоко внутренними чувствами, о которых здесь идет речь, иными словами — четырьмя вторичными склонностями, свойственными всем индивидуумам человеческого рода, являются:
1. Стремление к благополучию.
2. Себялюбие.
3. Склонность господствовать.
4. Страх перед разрушением своего физического существа.
Я уверен, что именно этими четырьмя вторичными склонностями обусловлено огромное разнообразие склонностей, или особых чувств, {218} примеры которых мы находим в поступках человека, живущего в обществе себе подобных, т. е. тех склонностей, которые имеют своим источником то одну, то несколько из четырех указанных выше. Попытаемся рассмотреть основные результаты этих четырех склонностей и ограничимся этим.
Стремление к благополучию существует у всех нас. Оно способствует нашему самосохранению или благоприятствует ему. В самом деле, эта склонность не только влечет за собой необходимость избегать состояния неблагополучия, т. е. избегать страдания, независимо от его природы и степени; но, помимо того, она неразрывно связана со стремлением обеспечить себе противоположное состояние, т. е. состояние благополучия.
Однако состояние благополучия еще не избавляет от какого бы то ни было состояния неблагополучия. Оно даже и вовсе неосуществимо для человека, ибо он всегда имеет те или иные желания и, следовательно, те или иные неудовлетворенные потребности. Но человек постоянно испытывает состояние благополучия всякий раз, когда он получает какое-нибудь наслаждение, и, действительно, всякое наслаждение достигается только путем удовлетворения той или иной потребности, какова бы она ни была. Достаточно известно, что в зависимости от степени интенсивности испытываемого при этом чувства мы получаем то, что называют в одном случае удовлетворением, в другом — удовольствием.
Из этих рассуждений следует, что для человека состояние благополучия не является постоянным, но носит главным образом преходящий характер; что Человек обретает его в той или иной степени при всяком наслаждении и что он неизбежно утрачивает его всякий раз, когда потребность полностью удовлетворена. Так же обстоит дело и в отношении неблагополучия, какова бы ни была его степень.
Состояние неблагополучия не может иметь у индивидуума абсолютной и одинаковой длительности, ибо оно всегда прерывается, или и некотором роде подавляется, тем или иным наслаждением. Отсюда {219} же следует, что из этого нерегулярного чередования состояний благополучия и неблагополучия слагается судьба человека, соответственно обстоятельствам его положения в обществе, его взаимоотношениям с себе подобными или его физическому и моральному состоянию.
Таким образом, стремление к благополучию, т. е. к наслаждению, которое мы испытываем, удовлетворяя ту или иную потребность, не только заставляет искать ощущения и положения, приятные и являющиеся предметом наших желаний, но оно помогает также избавиться от моральных страданий, от всего, что причиняет беспокойство или удручает нашу мысль, одним словом, от всего того, что может нарушить состояние удовлетворенности или душевный покой, и тем самым создать противоположное состояние духа. Итак, необходимо различать:
1) стремление к благополучию физическому;
2) стремление к благополучию духовному.
Все особые склонности, являющиеся результатом каждого из этих двух стремлений, очень легко определить, особенно если отличать во всех случаях те из них, которые порождаются потребностями, полученными от природы или созданными нами самими, от тех склонностей, которые обязаны своим происхождением нашему влечению к различным вещам, что составляет как бы иной род потребностей, подлежащих удовлетворению. Таким образом, легко убедиться, что, с одной стороны, наше стремление к благополучию физическому порождает в пас, в зависимости от обстоятельств:
1. Потребность удовлетворять голод, жажду, когда мы их испытываем, потребность избегать боли, вредных или неприятных ощущений и всего того, что причиняет неудобство; потребность отвращать от себя страдания, болезни, все виды физического неблагополучия, наконец, потребность выполнять под влиянием внутренних возбуждений акты, обеспечивающие воспроизведение, и т. д.
2. Влечение к приятным ощущениям, чувственным удовольствиям, сладострастие. Отсюда — чревоугодие, любовь к комфорту, уюту, веселью и т. д., наконец, чувственная любовь и т. п. {220}
С другой стороны, наше стремление к духовному благополучию порождает в нас:
1. Потребность удовлетворять всякого рода доступные нам желания, избегать неприятных или удручающих мыслей и стремление отвлекаться от них; потребность приобретать полезные знания, подавлять в себе внутренние эмоции, вредные склонности, потребность испытывать чувство внутреннего удовлетворения.
2. Стремление к свободе, независимости, приятным мыслям, к разнообразию и развлечениям, ко всему необычному и чудесному, к духовным наслаждениям, к изящным искусствам, всему приятному и т. д. и т. п.
Себялюбие, или личный интерес, является вторым результатом склонности к самосохранению. Это чувство вообще составляет неотъемлемую принадлежность человека, оно способствует самосохранению, заставляя нас ценить это. Само по себе это чувство не может причинить нам вреда, вредны только его последствия, если они не умеряются разумом. Для анализа этого чувства необходимо рассмотреть главные его проявления:
1) под влиянием одного только внутреннего чувства;
2) под влиянием чувства и мысли, не управляемой разумом;
3) под влиянием чувства и мысли, управляемой разумом.
Под влиянием одного только внутреннего чувства себялюбие обусловливает, в зависимости от обстоятельств:
1. Непроизвольные движения, выполняемые без предварительного размышления, например: вздрагивание при неожиданном сильном шуме; движения, заставляющие обращаться в бегство при внезапной и неминуемой опасности; движения, заставляющие нас многократно и незаметно для самих себя изменять направление на людных улицах или бульварах.
2. Малодушие, например, страх при приближении или появлении опасности; трусость в делах, выполнение которых сопряжено с опасностью; робость перед всем, что может внушить страх; всякого рода мании, укореняющиеся в результате неразумных привычек. {221}
3. Отвращение в одних случаях и сильное влечение в других, например: отвращение ко всему, что причиняет нам вред или чуждо нам,— источник ненависти ж наоборот: влечение ко всему, что нам приносит пользу, близко по духу и отвечает нашим вкусам,— источник дружбы.
Под влиянием внутреннего чувства ж мысли, не управляемой разумом, т. е. мысли, которая ни в какой степени не стеснена разумом, себялюбие, в зависимости от обстоятельств, обусловливает то двоякого рода неупорядоченные чувства, то беспредельную активность.
Таким образом, указанными мною путями себялюбие порождает у нас, в зависимости от обстоятельств, два следующих неупорядоченных чувства, а именно:
1. Самолюбие, которое побуждает нас быть довольными нашими личными качествами и заставляет нас думать, что мы внушаем другим лестное мнение о себе.
Достаточно известно, что благодаря этому чувству мы всегда бываем довольны своим характером, своими суждениями, своим умом. Самолюбие порождает чувство, заставляющее нас устанавливать предел знаний, которого могут достигнуть другие, исходя из предела, устанавливаемого степенью нашего ума и нашими собственными знаниями; наконец, самолюбие является тем чувством, которое заставляет нас искать в работах других людей только наши собственные мнения или все то, что нам льстит. К числу крайних проявлений самолюбия следует еще отнести тщеславие, чванство, самодовольство, гордость, наконец, зависть к тем, кто имеет подлинные заслуги.
2. Эгоизм, который отличается от самолюбия тем, что эгоиста совершенно не интересует, что о нем думают другие. Он видит только себя и свои интересы, притом почти всегда в неправильном свете.
Известно, что это неупорядоченное чувство порождает скупость, жадность, страсть к игре и т. д., заставляет нас не признавать никакого иного права, кроме наших личных интересов, и там, где это выгодно, толкает нас на сделки с общепризнанными принципами, {222} побуждает придерживаться предрассудков, отвечающих нашим личным интересам, делает нас равнодушными ко всему, что нас непосредственно не касается, черствыми, безучастными к огорчениям, страданиям и несчастиям других, и т. д. и т. п.
Благодаря тем же упомянутым путям себялюбие иногда обусловливает силу действия, кажущуюся безмерной, например отвагу, беззаветную смелость, не считающуюся с опасностью и побуждающую слепо и часто без всякой надобности устремляться навстречу ей.
Под влиянием внутреннего чувства и мысли, руководимой разумом, себялюбие, полностью управляемое в этом случае разумом, порождает наиболее важные свои проявления, а именно:
1. Настойчивость — основное свойство, характеризующее трудолюбивого человека, которого не останавливает длительность и сложность полезного труда.
2. Храбрость — когда, имея представление об опасности, человек подвергает себя ей, если сознает, что это необходимо.
3. Любовь к мудрости, являющаяся основой истинной философии, чрезвычайно сильно отличает человека, пользующегося теми знаниями, которые дают наблюдение, опыт и привычка к размышлению, и руководствующегося в своих действиях лишь тем, что ему подсказывают справедливость и разум. Любовь к мудрости заставляет его:
1) любить истину во всем, приобретать всякого рода новые положительные знания для достижения все большей и большей правильности суждений;
2) везде и во всем избегать крайностей;
3) умерять свои желания и проявлять благоразумную сдержанность в потребностях, не имеющих насущного характера;
4) соблюдать чувство меры во всех поступках и избегать всякого притворства;
5) соблюдать во всем общепринятые условности;
6) быть снисходительным, терпеливым, гуманным и добрым по отношению к другим людям;
7) любить общественное благо и все, что полезно ближним; {223}
8) презирать изнеженность и быть до некоторой степени суровым по отношению к самому себе, что избавляет от множества ложных потребностей, порабощающих тех, кто предается им;
9) быть покорным судьбе и там, где это осуществимо, проявлять моральную стойкость в страданиях, превратностях судьбы, несправедливостях, притеснениях, всякого рода утратах и т. д.;
10) уважать порядок, общественные установления, власть, законы, мораль, наконец — религию.
Соблюдение этих десяти положений характеризует истинного философа, удерживает человека от необузданных проявлений его склонностей, от страстей, которые могут его волновать, и доставляет ему то высокое положение, которого он один среди существ, обладающих умом, может достигнуть.
Склонность господствовать — третья из тех склонностей, которые обязаны своим происхождением склонности к самосохранению. Она носит постоянный характер, присуща всем людям, проявляется с самого детства и беспрерывно действует без ведома человека. В основе этой склонности лежит внутреннее убеждение человека в том, что чем больше он имеет преимуществ в чем-либо перед другими людьми, тем больше он получает средств для собственного благополучия и самосохранения.
Рассматриваемая склонность является наиболее сильной из всех склонностей, которыми нас наделила природа. Она достигает то большего, то меньшего развития, в зависимости от того, в какой мере этому благоприятствуют судьба индивидуума и разного рода обстоятельства, связанные с положением, занимаемым им в обществе. В самом деле, несчастья, притеснения и состояние привычного подчинения в значительной мере подавляют эту склонность у рядового человека, в то время как счастье и постоянный успех значительно усиливают ее проявления. Отсюда следует, что эта склонность достигает наивысшего развития у человека, которому все благоприятствует, и что, напротив, доброта, гуманность, умеренность и даже мудрость {224} свойственны лишь тем, кто много страдал от людской несправедливости.
Именно эта склонность господствовать, это стремление обладать какими-либо преимуществами по сравнению с другими людьми вызывает у человека то смутное и общее чувство неудовлетворенности, которое мешает ему быть довольным своей судьбой и которое проявляется тем сильнее, чем больше у данного индивидуума запас представлений и чем сильнее развит его ум, так как при этих условиях его непрерывно волнуют препятствия, которые эта склонность встречает со всех сторон.
Известно, что никто не бывает доволен своей судьбой, какова бы она ни была, что никто также не бывает доволен своими возможностями и что даже человек, утративший то, что он имел, всегда более несчастен, чем тот, который вовсе не преуспевает в жизни. Известно также, что всякое однообразие, как физическое, так и духовное, которое не может быть устранено непрерывным трудом, неизбежно ограничивая внутренние стремления, вызывает в нас чувство пустоты, смутное чувство духовного неблагополучия, которое принято называть скукой и которое вызывает в нас ненасытную потребность в перемене.
Та же склонность непрерывно побуждает человека увеличивать число средств, которые могут обеспечить ему господство, и человек никогда не упускает возможности развивать эту склонность, пользуясь то властью, то богатством, то положением, то, наконец — теми или иными разнообразными преимуществами всякий раз, когда для этого представляется подходящий случай.
В поступках человека склонность господствовать проявляется в бесчисленном многообразии форм, в зависимости от обстоятельств, в которых находится данный индивидуум. Однако всегда достаточно легко обнаружить ее влияние. Именно эта склонность обусловливает неуступчивость в спорах, нетерпимость всякого рода, тиранию по отношению к тем, кто в какой бы то ни было степени от нас зависит, наконец, злость и даже жестокость, когда стремление господствовать, как нам кажется, требует этого. {225}
Если мы лишены возможности господствовать при помощи силы или богатства, то рассматриваемая склонность вызывает у нас стремление взять верх над другими хоть в чем-нибудь. В этом случае именно склонность, о которой здесь идет речь, заставляет нас иногда делать огромные усилия, чтобы выделиться на поприще науки, литературы или искусства. В результате этого почти все, кто подчиняет себе других людей, пользуясь властью или богатством, так мало заботятся о расширении своих знаний и не придают почти никакого значения наукам и талантам: они обладают более верным способом подчинить себе других!
Одним из наиболее замечательных проявлений нашей склонности господствовать является честолюбие — чувство, в зачаточной степени существующее у всех людей, развивающееся с возрастом и [усиливаемое] надеждами, но приобретающее огромную действенность, только если этому благоприятствуют обстоятельства. И вот, развившись и превратившись под влиянием благоприятствующих обстоятельств в страсть, честолюбие лишает покоя тех, кто его испытывает; успех увеличивает интенсивность этого чувства, характерной особенностью которого является то, что оно никогда не может быть удовлетворено. Это чрезвычайно сильное чувство внушает тем, кто ему поддается, пламенное желание добиться всеми средствами богатства, должностей или почестей, влияния или известности и, наконец, власти. Без сомнения^ эти четыре стремления, порождаемые честолюбием, редко встречаются одновременно, так как, в зависимости от обстоятельств, развивается лишь какое-нибудь одно или несколько из них.
Я отнюдь не намерен давать здесь анализ всех тех многообразных усилий, путей и средств, которые неразрывно связаны со склонностью господствовать и с честолюбием, являющимся ее результатом у различных индивидуумов в том множестве положений, которые они занимают в обществе. Все это достаточно хорошо известно.
Четвертым и последним результатом склонности к самосохранению является то внутреннее и естественное чувство, которое вызывает {226} у человека страх и отвращение перед разрушением его собственного существа. Это чувство, которым обладает только человек и которое присуще вообще всем людям (ибо, по-видимому, человек — единственное существо из созданий, наделенных умом, имеющее представление о смерти), мне представляется источником надежды, созданной человеком об ином, не имеющем границ существовании, которое должно наступить вслед за земной жизнью. И быть может, некое внутреннее предвидение подсказывает ему, что это надежда обоснована. У человека, сумевшего путем наблюдения природы или каким-либо иным путем возвыситься мыслью до понятия о верховном существе, эта высокая мысль питает надежду и внушает ему религиозное чувство, а также сознание тех обязанностей, которые оно на него налагает84.
Я не буду останавливаться здесь на рассмотрении вопроса о том, каким образом религиозное чувство может изменяться под влиянием некоторых природных склонностей, которым слишком часто бывают подчинены все поступки человека; не буду также касаться того, каким образом фанатизм и религиозная нетерпимость, столь сильно отличающиеся от истинного благочестия, могут явиться результатом склонности человека господствовать. Всего, что было рассмотрено в предшествующем изложении, достаточно для освещения этого вопроса.
Я указал, к каким последствиям приводят человека страх перед разрушением его физического существа, и этим должно было бы ограничиться все, что входит в круг знаний натуралиста, а также все то, что можно отнести к природе. Но, как я уже упоминал, этот источник надежды человека вовсе не исключает других путей, которые могут пролить свет на столь важную для него область познания.
Этим заканчивается приведенный мною краткий обзор склонностей человека с указанием их источника — склонностей, которыми он несомненно обязан своей организации. Разумеется, я дал лишь крайне неполный очерк вопроса, который намерен был рассмотреть. Однако этого вполне достаточно для поставленной мною цели, и все мои выводы опираются на неоспоримые принципы. {227}
Как натуралист, я выполнил, как мне кажется, свою задачу и я должен был это сделать, поскольку содержание этой главы дополняет выводы, относящиеся к проявлениям организации. Но другая задача — посвятить себя глубокому наблюдению себе подобных, их склонностей, изменяющихся в зависимости от условий, в которых они находятся, их страстей, слишком часто порабощающих их, если они не сумели их обуздать,— эта задача, повторяю, еще совершенно не выполнена. И действительно, здесь дело идет о том, чтобы проникнуть во все мельчайшие частности, выяснить всю сложную совокупность причин, определяющих такое множество наблюдаемых нами поступков, одним словом,— о том, чтобы понять и объяснить бесчисленные тончайшие оттенки действующих причин, которые обусловливают все многообразие наблюдаемых поступков.
Разнообразие вкусов, склонностей, желаний и даже страстей, примеры которых мы находим у индивидуумов человеческого рода, настолько велико, что исследователи, пытавшиеся изучить внутренний мир человека, определить его глубину, проникнуть во все его извилины, рассматривали его как огромный лабиринт, в котором так трудно не заблудиться.
Я не претендую на то, что мне удалось полностью разрубить этот гордиев узел, но я пытался внести некоторый порядок в изучение этого важного вопроса и, кажется, что мне удалось вскрыть главные причины наших склонностей и даже наших страстей. Помимо того, я пытался установить, опираясь на мои собственные наблюдения, те основы, которыми следует руководствоваться при разработке этой обширной области изучения.
Таким образом, рассматривая человека исключительно с точки зрения его организации и законов природы, я вижу, что человек, подобно всем прочим животным, обладающим способностью чувствовать, подвержен во всех своих действиях могущественному влиянию первопричины, порождающей различные его склонности, а также страсти. В самом деле, пытаясь найти этот источник, я пришел к выводу, что почти все действия человека могут быть объяснены этой причиной. {228}
Далее отмечу, что если, зная основную причину главных и иерархию второстепенных склонностей человека, взять на себя труд внимательно проследить у какого-нибудь индивидуума особенности его пола, возраста, физической конституции, его имущественного состояния и те важные изменения, которым последнее могло внезапно подвергнуться, иными словами, если принять во внимание все те особые обстоятельства, с которыми тот или иной индивидуум мог встретиться, то вполне возможно предвидеть характер всех поступков, которые он способен выполнить в каждом отдельном интересующем нас случае.
Заслуживает быть отмеченным, что из всех существ, наделенных умом, человек является тем существом, над которым обстоятельства, по-видимому, имеют особенно сильную власть. Вот причина того, что по своим качествам, по своему поведению различные индивидуумы его вида столь значительно отличаются друг от друга. Трудно поверить, до каких пределов это влияние может изменять ум, взгляды, чувства, суждения и даже склонности человека!
В самом деле, положение индивидуумов в обществе, каково бы это положение ни было, и, следовательно, обстоятельства, связанные с привычками, родом занятий, общественным и имущественным положением, происхождением и т. д., представляют безграничное разнообразие. Такое же большое разнообразие наблюдается и в индивидуальных качествах людей, так что, рассматривая крайние проявления склонностей человека, мы обнаружим огромную разницу между одним человеком и другим. Именно этой причиной, обусловленной цивилизацией, объясняется отсутствие единства, выявляемое при сравнении отдельных индивидуумов человеческого рода, несмотря на то, что все люди имеют один и тот же общий тип организации85.
Таким образом, можно сказать, что из всех существ, наделенных умом, человек, если рассматривать его в сравнении с другими индивидуумами его вида, представляет:
в отношении умственных способностей — или существо самое невежественное, самое бедное представлениями, самое тупое, самое {229} грубое, самое низкое и иногда даже стоящее на более низком уровне, чем животные, или же — существо, наиболее одухотворенное, обладающее наиболее справедливыми суждениями, наибольшим запасом представлений и знаний, наконец — существо, всеобъемлющий гений которого достигает высшего предела;
в отношении чувства человек может быть или существом самым гуманным, самым любящим, самым доброжелательным, чутким, самым справедливым или, наоборот,— самым черствым, самым несправедливым, самым злым, самым жестоким, превосходящим по своей жестокости наиболее свирепых животных.
Сущность влияния обстоятельств, в которых находятся индивидуумы в обществе, состоит в том, что эти обстоятельства обусловливают тем большее разнообразие мыслей, чувств, средств, которыми человек пользуется, и поступков отдельных индивидуумов, чем больше он упражняет свой ум и, следовательно, чем большего развития последний достигает.
Для человека развитие ума, без сомнения, является огромным преимуществом. Однако крайнее неравенство в умственном отношении, которое цивилизация неизбежно создает между различными индивидуумами, не может способствовать общему благу. Причину этого следует видеть в приведенном ниже, хорошо известном из наблюдений факте, а именно: чем сильнее развит у индивидуума ум, тем больше он приобретает благодаря ему средств и тем больше он ими обыкновенно пользуется, чтобы всецело отдаться своим склонностям. Но так как более сильное развитие ума благоприятствует развитию наиболее сильных из этих склонностей, например себялюбия, и в особенности — склонности господствовать, то о степени развития различных склонностей можно судить по влиянию, которое данный индивидуум имеет в обществе.
Между тем не следует заблуждаться, как это произошло с одним знаменитым автором86; конечно, при известных условиях сильно развитый ум предоставляет тем, кто им обладает, большие возможности для злоупотребления своей властью, для порабощения и очень часто для притеснения других людей, что, по-видимому, делает эту {230} способность скорее вредной, чем полезной для блага всего общества, поскольку цивилизация влечет за собой огромное неравенство в знаниях у отдельных индивидуумов; но, с другой стороны, тот же высокоразвитый ум укрепляет здравый смысл и помогает извлекать пользу из опыта, иными словами,— ведет к истинной философии и с этой точки зрения полностью вознаграждает тех, кто им наделен. Следовательно, можно сказать, что ум всегда очень полезен для тех, кто им обладает. Правда, огромное большинство, для которого этот предел [умственного развития] недоступен, неизбежно страдает.
Итак, только существующее между людьми неравенство в отношении знаний, но отнюдь не сами эти знания, могут причинить людям вред.
Как в духовном, так и в физическом отношении более сильный почти всегда злоупотребляет имеющимися в его распоряжении средствами в ущерб более слабому,— таков результат природных склонностей, если их не сдерживает сильный разум.
После того, что было изложено здесь, легко понять, почему среди различных форм управления так трудно установить те формы, которые наиболее благоприятствуют благополучию народов; вот почему почти всегда приходится наблюдать более или менее ожесточенную борьбу между правителями, большинство которых злоупотребляет своей властью, и управляемыми, которые стремятся освободиться от нее. По той же причине предел индивидуальной свободы, совместимый с установлением и выполнением справедливых законов, достигается путем преодоления многих препятствий и не может надолго быть сохранен там, где он был найден.
Два знаменитых, хотя и в разных областях, человека направили правителям: один — основные положения, имеющие своей целью благо народов, второй — обоснование безудержного произвела. Сравните число приверженцев первого и второго и тогда вы сможете судить о влиянии рассмотренных мною причин!
Таким образом, тот порядок вещей, который мы наблюдаем повсюду, заложен в самой природе человека и, что бы мы ни делали, он всегда будет тем, что он есть. Природные свойства человека {231} никогда полностью не исчезнут, хотя с помощью разума они до известной степени могут быть изменены.
Каков бы ни был общественный строй, в котором живет человек, из всех наделенных умом существ он один обладает наибольшим числом природных склонностей и наибольшим числом средств, дающих ему возможность видоизменять свои действия. Поэтому можно с уверенностью сказать, что человек всегда будет сожалеть о прошлом, никогда не будет удовлетворен настоящим, непрерывно будет возлагать надежды на будущее, счастье будет ему даваться с трудом, и оно всегда будет неполным, особенно если ему не придет на помощь такое могущественное средство, как философия.
На этом я закончу, так как дальнейшее развитие рассмотренной здесь темы могло бы отдалить меня от цели, которую я себе поставил.
Перейдем теперь к предмету более возвышенному, более важному, чем те, которыми мы до сих пор занимались, к предмету, необходимому для полного понимания связи всего того, что до сих пор было нами изложено, также в отношении животных. Мы перейдем теперь к вопросу, больше всего интересующему натуралиста,— самому важному из тех, которые необходимо было рассмотреть в настоящем «Введении». Я имею здесь в виду попытку определить, что собственно представляет собой природа и какое понятие мы должны составить себе об этом действенном начале, которому следует приписать столько вещей, иными словами,— о том начале, которому животные обязаны всем, чем они являются, и всем, чем они обладают.
| {232} |

Теперь следует показать, что существуют особые могущественные начала, которые не являются ни разумом, ни индивидуальными существами, но которые действуют только в силу необходимости и не могут сделать ничего, кроме того, что они действительно делают. И вот, если, по выражению натуралистов, животные составляют часть созданий природы, то посмотрим сначала, не является ли то, что называют природой, одним из этих особых действенных начал87, о которых я говорю. Мы исследуем затем, чем может быть это особое начало, способное обусловить бытие столь замечательных существ, о которых идет речь!
Первая мысль, которая возникает при исследовании вопроса,— это какова непосредственная причина существования животных, это мысль о том, чтобы приписать это существование разумному и неограниченному [в своих действиях] могущественному началу, создавшему их всех одновременно такими, какие они есть, каждое в своем роде.
Эта мысль, весьма обоснованная по существу, предрешает, однако, вопрос о способе выполнения высшей воли, не считаясь с тем, чему нас учит наблюдение. Так как послужившие предметом наблюдения и установленные факты являются вещами более положительными, чем наши умозаключения, они заставляют нас сделать теперь выбор между двумя следующими положениями. {233}
Создало ли разумное и неограниченное [в своих действиях] могущественное начало все физические тела, которые мы наблюдаем, непосредственно и одновременно или же оно установило порядок вещей, составляющий особое и зависимое начало, могущее, однако, последовательно обусловить существование такого множества различных тел?
Что касается этих двух способов выполнения высшей воли, то наша мысль еще до познания фактов, не предполагая даже возможности второго способа, склонялась в пользу первого из них и внешне все, казалось бы, подтверждало этот взгляд.
В самом деле, все тела, которые мы наблюдаем, обладают вообще каждое в своем роде бытием, действительно более или менее преходящим, и мы видим, что даже пока длится это бытие они могут или должны в силу необходимости претерпевать различные изменения. Но все эти тела находятся перед нашими глазами или снова появляются в таком же виде или почти такими же, и мы всегда обнаруживаем каждое из них с одними и теми же качествами или способностями и с той же возможностью или необходимостью претерпевать изменения.
Как можно после этого, возразят нам, предполагать, что эти тела образовались неодновременно, последовательно и в зависимости одни от других, иными словами, предполагать, что каждое из них имело происхождение, особая причина которого может быть определена? Почему не считать, что все тела столь же древни, как и природа, что все они имеют такое же происхождение, как и она сама и все то, что имело некое начало?
Так действительно думали и так думают еще сейчас многие и притом весьма просвещенные люди; они приписывают видам, как неорганических, так и живых тел, бытие почти столь же древнее, как и бытие природы, считая, что, несмотря на изменения и преходящее индивидуальное существование, эти тела остаются такими же [в видовом отношении] при каждом своем возобновлении.
И вот, существование этих видов, которые мы наблюдаем всегда почти одинаковыми, несмотря на то, что индивидуумы, совокупность {234} которых составляет виды, изменяются, исчезают и более или менее быстро вновь появляются, представляет, следовательно, как говорят эти люди, результат действия могущественного начала, обусловившего их бытие, словом,— начала, превышающего способность понимания!
Сколь велико должно быть могущество этого начала, если оно могло обусловить бытие всех тел и сделать их именно такими, какие они есть! Когда мы наблюдаем животное, даже самое несовершенное, например инфузорию или полипа, мы бываем изумлены видом этих своеобразных тел, их состоянием, жизнью, которой они обладают, и способностями, которые они благодаря ей приобретают; нас в особенности поражает, что тела столь простые и столь хрупкие, как указанные выше, не только способны расти и воспроизводиться, но что они, помимо того, обладают способностью двигаться. Наше удивление еще больше возрастет в дальнейшем, при наблюдении животных более высоко организованных, и в особенности когда мы перейдем к рассмотрению наиболее совершенных из них, ибо среди многочисленных способностей, которыми обладают эти последние, есть одна, особенно выдающаяся. В самом деле, способность чувствовать, столь замечательная сама по себе, все же ниже других способностей, более выдающихся, как то — способности образовывать представления, могущие сохраняться, и способности пользоваться ими для построения новых представлений, словом,— ниже способности сравнивать предметы, составлять суждения, мыслить. Эта последняя способность нам представляется столь великим чудом, что нам кажется невероятным, что природа могла ее создать.
Если животные, у которых мы наблюдаем такие способности, представляют собой машины, то, без сомнения, машины эти заслуживают того, чтобы мы ими восхищались. Они должны вызывать у нас необычайное изумление потому, что нам так трудно их понять, и потому, что для нас абсолютно невозможно сделать что-либо, хотя бы отдаленно похожее на них.
Все эти соображения казались и сейчас еще кажутся людям, о которых я упоминал, достаточным обоснованием для того, чтобы думать, {235} что природа не является причиной-производителем различных известных нам тел и что эти вновь и вновь появляющиеся тела, кажущиеся по виду всегда одинаковыми и обладающими одинаковыми качествами и способностями, должны быть столь же древними, как природа, и что они обязаны своим существованием той же причине, что и сама природа.
Если это так, то эти тела ничем не обязаны природе; они не являются ее созданиями; она ни в чем не властна над ними; она не производит над ними никаких действий, следовательно, она не является действенным началом; законы для нее не нужны, а название которое ей принято давать, не более как лишенное смысла слово, если оно выражает только факт существования тел, но не особое могущественное начало, непосредственно на них воздействующее88.
Но если изучать все, что изо дня в день происходит вокруг нас, если собирать и внимательно исследовать факты, доступные нашему наблюдению, то идеи, кажущиеся столь правдоподобными, о которых я упоминал, мало-помалу утрачивают свою видимую обоснованность.
В самом деле, мы наблюдаем во всех телах то медленные, то быстрые, в зависимости от их природы и обстоятельств, но реальные изменения; при этом одни из тел постепенно разрушаются, никогда не восстанавливая своих потерь, и в конце концов уничтожаются; другие же, также непрерывно подвергающиеся изменениям и сами восстанавливающие потери в продолжение ограниченного периода своего существования, тем не менее тоже кончают полным разрушением. Однако, несмотря на этот неизбежный конец существования любого тела, мы вновь и вновь находим одни и те же категории тел, одни и те же виды их, и снова встречаем эти тела во всех состояниях, на всех стадиях их изменения.
Можем ли мы, следовательно, отрицать существование некоего активного начала общего характера, постоянно действующего, постоянно производящего явные изменения,— начала, непрерывно создающего тела и разрушающего их?
Не видим ли мы сами при благоприятных для наблюдения обстоятельствах, как многие из этих тел образуются почти на наших глазах, {236} например сера в одних местностях, квасцы — в других, селитра — в третьих и т. д. и т. п.?
Наши наблюдения не ограничиваются только тем, что убеждают нас в существовании вечно действующего могущественного начала, которое изменяет, образует, разрушает и непрерывно восстанавливает различные тела; они, помимо того, доказывают нам, что это активное начало ограничено [в своих действиях], что оно всецело зависимо и не могло бы произвести ничего иного, кроме того, что оно производит, ибо оно всегда подчинено законам различных порядков, которые управляют всеми его действиями, законам, которые оно не может ни изменить, ни нарушить, и которые не позволяют ему применять различные средства при одних и тех же обстоятельствах.
Это великое начало не только само существует, но обладает способностью вызывать появление других действенных начал, столь Же зависимых, но менее общих, среди которых есть одно, столь же замечательное по тому, что оно производит.
В самом деле, в организации, в которую внесена жизнь, мы замечаем действие могущественной силы, изменяющей, восстанавливающей, разрушающей, но одновременно и производящей предметы, которые никогда не смогли бы существовать без нее.
Эта особая сила, получившая название жизни, область господства которой ограничивается живыми телами, действует только в соответствии с законами, управляющими всеми ее действиями. Мы уже проследили за этой силой и большим числом произведенных ею действий, мы даже установили многие из ее законов и могли убедиться в том, что при одинаковых обстоятельствах она действует всегда одинаковым образом. Однако это особое начало, о котором идет речь, способно воздействовать только на тела одного определенного вида, а так как это особое начало является производным от установившего его общего действенного начала, то оно разрушает само себя во всяком теле, относящемся к подвластной ему области, между тем как второе начало остается неизменным, ибо оно обязано своим существованием совершенно иному и бесконечно более высокому источнику!
Таким образом, общее могущественное начало, охватывающее {237} своим влиянием все предметы, доступные нашему наблюдению, и даже те, которые лежат вне пределов последнего,— начало, которое непосредственно создало растения, животных и все прочие тела, действительно является ограниченным и в некотором роде слепым; у него нет ни намерений, ни целей, ни воли; как бы оно ни было могущественно, оно не может создать ничего иного, кроме того, что создает. Это начало [природа] существует только по воле другого, высшего, не знающего границ всесильного начала, которое, установив его [природу] , в действительности и является творцом всего, что от него происходит, и вообще всего существующего.
Это слепое, ограниченное в своих действиях начало, которое нам так трудно понять, несмотря на то, что оно проявляется везде, отнюдь не является измышлением разума; оно существует на самом деле, и мы не можем сомневаться в этом, потому что мы наблюдаем его действия, можем распознать его проявления, потому что мы видим, что оно все образует только постепенно, потому что мы убеждаемся в том, что оно везде подчинено законам, наконец потому, что мы уже постигли многие законы, которые им управляют.
И вот это замкнутое в определенных границах начало, которому мы так мало уделяем внимания, которое мы так плохо изучаем, которому мы почти всегда приписываем намерения и цель в его действиях, начало, которое всегда в силу необходимости создает при одних и тех же обстоятельствах одни и те же вещи и которое притом создает такое множество столь удивительных вещей, это начало и есть то, что мы называем природой89.
Что те такое природа? Что представляет собой это необыкновенное начало, которое создает так много вещей и в то же время постоянно ограничено тем, что может создавать только их? Что представляет собой это начало, которое изменяет свои действия только при изменении обстоятельств, в которых оно действует? Что собственно подразумевают под словом природа, под этим столь часто употребляемым обозначением, которое не сходит с уст и которое мы встречаем почти на каждой строке в трудах натуралистов, физиков и многих других [ученых]? {238}
Необходимо, наконец, уточнить, если это возможно, смысл выражения, которым широко пользуется большинство людей, одни — по привычке и не связывая с ним никакого определенного представления, другие,— вкладывая в него совершенно ложные представления.
С понятием о действенном начале почти всегда связывали понятие о разуме, якобы управляющем его актами, и вследствие этого приписывали этому началу намерение, цель и волю. Без сомнения, нельзя отрицать, что это верно в отношении верховного начала, но помимо него существуют другие начала, ему подвластные, ограниченные, проявляющие себя только по необходимости, которые не могут делать ничего другого кроме того, что они делают. Эти начала отнюдь не являются разумом, они представляют собой не что иное, как действующие причины (causes agissantes], а всякая вообще причина, способная произвести действие, уже является реальным действенным началом, тем более такая причина, которая производит многочисленные и весьма заметные действия.
Так, например, всякий порядок вещей, оживляемый движением, источник которого может быть истощимым или неистощимым, является подлинным действенным началом, проявления которого влекут за собой те или иные факты или явления.
Жизнь во всяком теле, порядок и состояние вещей которого позволяют ей проявляться в нем, как я уже говорил, представляет собой подлинное действенное начало, обусловливающее многочисленные явления; между тем это действенное начало не имеет ни цели, ни намерения и может производить только то, что производит, будучи само лишь действующей причиной, но не особой сущностью90.
Речь идет о том, чтобы показать, что все эти соображения приложимы к природе, с той лишь разницей, что ее источник неистощим, между тем как источник жизни неизбежно иссякает.
Что касается природы, то мне почти нечего сказать о том, что вообще еще недостаточно изучено; но то немногое, что уже известно нам, относится к области положительных знаний, ибо оно основано на фактах; поэтому знакомство с тем, что я могу высказать по этому вопросу, имеет важное значение, ибо только оно поможет нам {239} раскрыть источник всего, что мы видим у животных и в других телах, доступных нашему наблюдению. Необходимо, следовательно, изложить и уточнить наши представления о предметах, которые мы познаем путем наблюдений.
Из числа различных заблуждений, возникших в связи с рассматриваемым здесь вопросом, я приведу только два главных, а именно: заблуждение, которое состоит в том, что многие считают синонимами слова природа и вселенная; и второе, которое заставляет большинство людей думать, что природа и ее верховный творец также синонимы.
Я попытаюсь доказать, что как тот, так и другой взгляд необоснован и начну с опровержения первого из них.
Эти два слова — природа и вселенная, которые так часто употребляют и смешивают, эти слова, с которыми обычно связывают лишь смутные понятия, а все попытки дать точное определение каждого из них представляются некоторым безумной затеей, необходимо, как мне кажется, строго различать по вкладываемому в них смыслу, так как они касаются совершенно различных предметов. Это разграничение настолько важно, что без него мы будем всегда ошибаться в выводах относительно всего того, что наблюдаем.
Для меня определение вселенной может быть только следующим:
Вселенная — это бездеятельное, недейственное само по себе начало, представляющее собой совокупность всех физических и пассивных существ, т. е. всех видов материи и всех существующих тел.
Таким образом, в этом определении речь идет исключительно о физическом мире, или физической вселенной. Имея возможность обсуждать только то, что доступно нашим наблюдениям, мы можем приобрести какие-либо познания исключительно о тех частях вселенной, которые мы видим, притом как о самих этих частях, так и обо всем том, что к ним относится.
Этим ограничивается все, что мы можем с полным основанием утверждать относительно вселенной. Пытаться объяснить ее возникновение, определить все предметы, входящие в ее состав, конечно, было бы безумием. У нас нет до этого средств; мы знаем обо {240} всем этом слишком мало; мы знаем только, что ее существование — реальность.
Но так как материя является основой всех частей вселенной, я могу доказать, что вселенная сама по себе пассивна и лишена собственной активности и что то, что мы должны понимать под словом природа, совершенно чуждо ей.
В самом деле, вникая глубже в этот важный вопрос, я, на основании моих собственных наблюдений, полагаю, что вправе утверждать относительно всех видов материи и всех тел, составляющих физическую вселенную, что эта совокупность сама по себе в целом неизменна, или неразрушима, и что она сохраняется такой, какая есть, до тех пор, пока на то будет воля ее верховного творца. Я осмеливаюсь также утверждать, что эта совокупность не представляет собой и не может представлять никакого действенного начала, что она не может обладать собственной активностью и что, следовательно, она не может передавать ее своим частям, поскольку источник всякой активности ей чужд; наконец, я полагаю, что имею основание утверждать, что все части физической вселенной обладают не большей активностью, чем та совокупность, которую они образуют; что все ее части на самом деле пассивны и что они-то и составляют единственную и обширную область, в которой царит природа.
Сама природа совершенно не относится к этой категории: она, действительно, не является ни телом, ни каким-либо существом, ни совокупностью существ, ни собранием пассивных предметов; напротив, как мы это увидим дальше, природа — это особый порядок вещей, составляющий подлинное действенное начало, которое, несмотря на это, является зависимым во всех своих действиях.
В самом деле, природа обусловливает существование не материи, но всех тел, основой которых в сущности является материя, и так как она имеет власть только над этой последней, причем ее власть в этом отношении ограничивается тем, что она беспрерывно различным образом видоизменяет и превращает отдельные массы материи, всевозможные ее сочетания, скопления и соединения, то можно быть уверенным в том, что только природа сделала тела такими, какие они {241} есть, что только она наделила одних из них свойствами, других способностями, которые мы у них наблюдаем.
Что же такое, спросим еще раз, природа? Есть ли это разум?
Конечно, нет. Природа отнюдь не является разумным началом, и я попытаюсь доказать это, но предварительно приведу определение, которое я ей намерен дать.
Природа — это порядок вещей, чуждый материи и определяемый наблюдением над телами, порядок, который в целом составляет действенное начало, неизменное в своей сущности, зависимое во всех своих проявлениях и непрерывно воздействующее на все части вселенной.
Если сопоставить это определение с определением вселенной, которая, как мы указали, является не чем иным, как совокупностью физических и пассивных существ, т. е. совокупностью всех существующих тел и всех видов материи, то мы поймем, что оба эти порядка вещей крайне различны, строго разграничены и что их не следует смешивать.
Несмотря на то, что мы никогда не отдаем себе в этом отчета, мы под влиянием особого внутреннего чувства почти никогда их не смешиваем, ибо, признавая этот незыблемый порядок вечно действующих причин и отличия его от подчиненных ему пассивных предметов, мы олицетворили его при помощи нашего воображения, обозначив его словом природа. И с этих пор мы в силу привычки пользуемся этим выражением, не вкладывая в него того смысла, который мы должны были бы в него вкладывать.
Мы увидим сейчас, что предметы нефизические, совокупность которых составляет природу, отнюдь не являются существами и, следовательно, не являются ни телами, ни видами материи, что, несмотря на это, они доступны нашему наблюдению, что это даже единственные предметы, чуждые телам и видам материи, о которых мы можем приобрести положительные знания.
В самом деле, так как знания эти приобретаются, как мы это сейчас увидим, путем наблюдения над телами, они всегда доступны нам и находятся в пределах наших возможностей. Таким образом, помимо {242} природы, помимо тел и видов материи, которые могут быть восприняты нами при помощи наших чувств, мы не можем ничего наблюдать, ни приобретать никаких положительных знаний.
Обратимся снова к вопросу о том, что представляет собой в действительности природа, и сопоставим ее с предметами, составляющими ее безграничное царство.
Если данное мной определение природы обоснованно, то из него следует, что природа — не что иное, как совокупность предметов нефизического порядка, т. е. предметов, ничего общего не имеющих с частями вселенной, которые стали нам известны только путем наблюдения над телами, и что эта совокупность образует порядок неизменно активных причин и средств, которые делают возможным действие этих причин и регулируют их. Таким образом, природу составляют:
1) Движение, которое нам известно только как изменение перемещающегося тела и которое не присуще ни одному виду материи и ни одному телу, как таковому, движение, источник которого неисчерпаем, а само оно распространено во всех частях тел;
2) Законы всех порядков, постоянные и неизмененные, которые управляют всеми движениями, всеми изменениями, претерпеваемыми телами, и которые вносят во вселенную, всегда изменчивую в своих частях, но всегда неизменную в своем целом, нерушимые порядок и гармонию.
Подчиненное действенное начало, являющееся результатом действующих причин того порядка, о котором я упоминал, всегда имеет в своем распоряжении:
1. Пространство, о котором мы себе составили представление только на основании рассмотрения местоположения тел, как действительного, так и возможного для них. Пространство, как известно, неподвижно, повсюду проницаемо и безгранично, не имеет ограниченных частей, за исключением мест, которые занимаются данными телами, а также частей, получающихся в результате производимых нами измерений этих тел и тех мест, которые они могут последовательно занимать при перемещении.
2. Время, или длительность, представляющее собой не что иное, {243} как непрерывность, имеющую предел или не имеющую его, либо движения, либо существования вещей, к измерению которого мы пришли, с одной стороны, посредством рассмотрения последовательности перемещений тела, происходящих под влиянием единообразной силы (при этом рассмотрении мы разделяем на части путь, пройденный телом, что дает нам представление о конечных и относительных отрезках времени), с другой стороны,— посредством сравнения различной продолжительности существования разных тел, сопоставляя эту длительность с конечными и уже известными отрезками времени.
Таким образом, мы можем теперь убедиться, что порядок вечно действующих причин, порядок, составляющий природу, и средства, которые последняя всегда имеет в своем распоряжении, представляют собой предметы, существенно отличающиеся от совокупности физических и пассивных предметов, из которых состоит вселенная; ибо, что касается природы, то ни движение, ни законы всякого рода, управляющие ее действиями, ни время и пространство, которыми она беспредельно располагает, не являются свойствами, присущими материи, как таковой. Известно, что материя представляет собой основу всех физических тел, совокупность которых и составляет вселенную.
Определение физической вселенной, доведенное до надлежащей простоты, дает, тем не менее, о ней точное понятие и показывает, что она представлена исключительно материей и телами, основой которых служит материя; что, следовательно, ни этой вселенной, ни ее частям, каковы бы они ни были, не присуща никакая активность, никакой род силы. Все это отнюдь не приложимо к природе, ибо последняя раскрывает нам прямо противоположную картину.
Нужно было наблюдать большое число изменений, непрерывно и повсюду происходящих в частях вселенной, чтобы обнаружить существование этого могущественного, но подчиненного в своих действиях начала, составляющего природу, начала, совершенно чуждого материи и тем телам, которые из нее образованы, иными словами,— начала, производящего все изменения, наблюдаемые нами в различных частях вселенной, а также и те, которые мы не можем наблюдать.
Было замечено, что жизнь, которую мы видим в некоторых телах, {244} до некоторой степени напоминает природу, ибо она также не является существом, но представляет собой порядок вещей, оживляемый движениями, порядок, который, в свою очередь, обладает собственной силой, собственными способностями и который сохраняет их до тех пор, пока он существует. Между тем жизнь коренным образом отличается от природы, и их нельзя смешивать. Жизнь, будучи обязанной природе своим существованием и средствами, которыми она располагает, в то же время приводит к собственному разрушению, между тем как природа, как и все то, что было сотворено первично, неразрушима и неизменна, и только сотворившая ее воля верховного творца может положить предел ее существованию91.
Перейдем ко второму заблуждению, о котором мы уже упоминали, когда шла речь о смешении понятий, обычно имеющем место при рассмотрении [понятия] природы, и попытаемся устранить это заблуждение.
Думали, что природа есть сам бог92. Таково мнение большинства, и только исходя из этого воззрения, соглашаются признать, что животные, растения и т. д. представляют собой создания природы.
Странная вещь! Не отличают часы от часовщика, произведение от его творца! Разумеется, этот взгляд непоследователен и никогда не был глубоко продуман. Могущество, создавшее природу, конечно, беспредельно, оно не может быть ограничено или подчинено чему-либо в проявлении своей воли, оно не подвластно никакому закону. Только оно способно изменять природу и ее законы; только оно одно может даже уничтожить их, и хотя у нас нет положительных знаний об этом великом предмете, наши представления о существующем бесконечном могуществе, во всяком случае, наиболее близки к истине из всех тех, которые человек должен был создать себе о божестве, когда смог возвыситься мыслью до этой идеи.
Если бы природа была разумным началом, она могла бы желать, она могла бы изменять свои законы или, вернее, она вовсе не имела бы законов. Наконец, если бы природа была самим богом, ее воля была бы свободной, ее действия отнюдь не были бы вынужденными. Однако это не так. Напротив, природа всюду подчинена постоянным {245} законам, над которыми она не имеет никакой власти. Таким образом, несмотря на то, что ее средства беспредельно разнообразны и неисчерпаемы, она всегда действует одинаково при сходных обстоятельствах и не могла бы действовать иначе.
Без сомнения, все законы, которым природа подчинена в своих действиях,— не что иное, как выражение высшей воли, установившей их, но все же природа является особым порядком вещей, который не способен иметь желания, который действует только в силу необходимости и выполняет только то, что может выполнять.
Многие признают существование мировой души, якобы, направляющей все движения и все изменения, происходящие в частях вселенной, к цели, которая должна быть достигнута.
Не является ли эта идея, воспроизводящая воззрения древних, которые не ограничивались признанием мировой души, но приписывали отдельную душу каждому виду тел, не является ли эта идея, повторяю, аналогичной той, которая заставляет в настоящее время утверждать, что природа — то же, что бог? Я доказал выше, что мы имеем здесь смешение несовместимых понятий и что, так как природа отнюдь не является ни особым существом, ни разумным началом, но порядком вещей, всегда зависимым, то абсолютно недопустимо сравнивать ее в каком бы то ни было отношении с верховным существом, могущество которого не может быть ограничено никакими законами.
Было бы подлинным заблуждением приписывать природе цель, какую-либо преднамеренность в ее действиях. Тем не менее это заблуждение — одно из наиболее распространенных среди натуралистов. Я замечу только, что, если нам кажется, будто результаты действий природы отвечают заранее поставленным целям, то это происходит лишь потому, что неисчерпаемое разнообразие обстоятельств, в которых находятся существующие предметы, повсюду подчиненное постоянным законам, первоначально сотворенными верховным творцом для достижения поставленной им перед собой цели, устанавливает гармонию между законами, управляющими всякого рода изменениями, обусловленными этими обстоятельствами, и результатами этих изменений. Это происходит также потому, что законы последних {246} [низших] порядков зависимы и, со своей стороны, подчинены законам первых, или высших порядков.
Именно в отношении живых тел и преимущественно животных пытались приписывать природе целесообразность [but] в ее действиях. Между тем здесь, как и везде, эта целесообразность только кажущаяся, а не реальная. В самом деле, в каждой отдельной организации этих тел порядок вещей, подготовленный причинами, которые его последовательно установили, привел, только путем управляемого обстоятельствами постепенного развития частей, к тому, что нам кажется целесообразностью, но что на самом деле есть не что иное, как необходимость. Климат, положение, место обитания, средства к существованию и самосохранению, одним словом,— особые обстоятельства, в которых пребывает каждая порода, обусловили привычки данной породы; а привычки видоизменили и приспособили органы индивидуумов. Отсюда получилось, что наблюдаемая нами гармония между организацией и привычками животных кажется заранее поставленной целью, тогда как в действительности это лишь конечный результат необходимости*.
Таким образом, природа, не будучи вовсе разумным началом, не будучи даже существом, но лишь порядком вещей, образующим действенное начало, подчиненное законам, природа, повторяю, не есть и сам бог; она — только высшее проявление его всемогущей воли и из всех сотворенных вещей она самая великая и самая замечательная.
Итак, божественная воля всюду выражается выполнением законов природы, ибо эти законы исходят от нее. Тем не менее эта воля не может быть этим ограничена, ибо верховное могущество, которое ее порождает, беспредельно. Между тем не менее верно и то, что среди явлений физического и духовного порядка никогда не удается {247} наблюдать ни одного, которое не было бы обусловлено упомянутыми выше законами.
Человеку наблюдающему и мыслящему картина-вселенной, в которую природа внесла жизнь, без сомнения, представляется очень внушительной; она способна привести в волнение, поразить его воображение, возвысить его дух, побудив его подняться до познания высоких идей. Все, что он видит, ему кажется проникнутым движением, то действительным, то скрытым благодаря равновесию сил. Повсюду он замечает различного рода взаимодействия тел, перемещения, движения, всевозможные превращения и изменения, наконец, разрушение и образование новых тел, в свою очередь разделяющих участь других, им подобных, но переставших уже существовать. Он видит также непрерывное воспроизведение, подчиненное влиянию обстоятельств, вызывающих изменения [наблюдаемых] результатов, одним словом, он видит поколения, непрерывно и быстро сменяющие друг друга и в некотором роде, как принято говорить, «устремляющиеся в бездну времен».
Наблюдатель, о котором я говорю, вскоре перестает сомневаться в том, что царство природы охватывает все вообще тела. Он постигает, что это царство включает в себя не только тела, составляющие обитаемый земной шар, т. е. что природа не ограничивается созданием, изменением, увеличением числа, разрушением и непрерывным возобновлением животных, растений и неорганических тел на нашей планете. Было бы, без сомнения, заблуждением думать, что все сказанное относится только к тому, что мы видим, ибо распространенное повсюду движение и его действующие силы, вероятно, нигде не находятся в состоянии полного и постоянного равновесия. Таким образом, царство, о котором идет речь, охватывает все части вселенной, каковы бы они ни были. Следовательно, известные или не известные нам небесные тела, в свою очередь, неизбежно подвластны влиянию сил природы. Мы имеем даже полное основание думать, что, как бы медленно ни протекали изменения, производимые природой в этих огромных телах вселенной, все они, тем не менее, подвластны им, так что ни одно физическое тело не обладает абсолютным постоянством. {248}
Итак, всегда деятельная, всегда бесстрастная природа, возобновляя и изменяя тела всех видов, не предохраняя ни одно из них от разрушения, раскрывает перед нами величественную и необозримую картину и указывает на заключающееся в ней могущественное начало, которое действует только в силу необходимости.
Такова совокупность вещей, составляющая природу, в существовании которой мы убеждаемся путем наблюдения; совокупность, которая не могла возникнуть сама собой и которая не властна ни над одной из своих частей; совокупность, которая слагается из вечно деятельных и управляемых законами причин, или сил, и из средств необходимых для осуществления их действий; наконец,— совокупность, порождающая могущественное начало, зависимое во всех своих действиях и, тем не менее, достойное удивления во всем, что оно производит.
Познание природы доказывает существование ее творца и питает самую возвышенную мысль человека, так сильно отличающую его от других существ, обладающих менее развитым умом,— существ, которые никогда не могли бы подняться до столь возвышенной мысли.
Если добавить к этой истине следующую, а именно, что наши положительные знания отнюдь не охватывают всего того, что вообще может существовать, то мы поймем, что они дадут нам средства, позволяющие опровергнуть ложные умозаключения, на которых зиждется безнравственность93.
Продолжим наши рассуждения о природе, которые позволят нам установить правильный взгляд на нее.
Так как природа является тем могущественным началом, которое производит, возобновляет, изменяет, перемещает, наконец, слагает и разлагает различные тела, составляющие части вселенной, то понятно, что всякое изменение, всякое образование, всякое перемещение совершается только в соответствии с ее законами, и хотя обстоятельства могут иногда изменять результаты как ее действий, так и действий законов, которые при этом должны были быть применены, все же и эти изменения управляются законами природы. {249}
Таким образом, известные неправильности в ее действиях, известные уродства, как бы противоречащие ее обычному пути, известные потрясения порядка физических тел, наконец — столь часто гибельные последствия человеческих страстей, все это — не что иное, как результаты ее собственных законов и обстоятельств, имевших при этом место. Да и, помимо того, разве не известно, что слово случай свидетельствует только о нашем незнании причин [того или иного явления]94.
Ко всему этому я добавлю, что [кажущиеся] нарушения в природе в действительности вовсе не являются нарушениями, но представляют собой лишь факты, связанные с общим порядком вещей: одни — мало нами изученные, другие — касающиеся тех частных случаев, в которых интересы самосохранения отдельных объектов несовместимы с этим общим порядком («Philosophie zoologique», ч. I, стр. 440).
В самом деле, кому не понятно, что если природа обладает способностью изменять, производить, разрушать различные тела и непрерывно вносить в них разнообразие, то те из них, которые обладают способностью чувствовать, выносить суждения и делать выводы и которые в согласии с законами природы стремятся к самосохранению и благополучию, воспримут как нарушение порядка все то, что грозит этому самосохранению и этому благополучию, в котором они так сильно заинтересованы?*.
Таким образом, добро или зло в мире — понятия относительные, затрагивающие интересы той или другой части [целого], в них нет {250} ничего реального, ни со стороны целого, составляющего физическую вселенную, ни со стороны порядка вещей, которому эти части подчинены, ибо эти две категории неизменно являются тем, чем их сделало всемогущее начало, пожелавшее сделать их именно такими.
Хотя природа может: в отношении материи — только видоизменять, перемещать, соединять, разъединять и сочетать ее части; в отношении движения — только делать его бесконечно разнообразным при помощи бесчисленного множества различных способов или противопоставляя его самому себе; в отношении ее собственных законов — только применять в каждом отдельном случае лишь те из них, которые должны управлять данным действием; в отношении пространства — только заполнять его части или освобождать их в пределах определенного времени и места; наконец, в отношении времени — только употреблять различные отрезки его для своих действий; они, тем не менее, способны, по отношению к наблюдаемым нами различным физическим телам и физическим явлениям, осуществить все при помощи всех этих средств.
В настоящее время можно считать положительным знанием то, что, кроме первозданных вещей, т. е. кроме самой материи, движения, рассматриваемого в его сущности, законов, управляющих всеми видами движения, наконец, кроме пространства и времени, которые не могут быть категориями более позднего происхождения и иметь какой-либо иной источник, все без исключения тела обязаны своим существованием, состоянием, свойствами, способностями и всеми изменениями, которые они претерпевают, этой совокупности первично сотворенных вещей, короче говоря,— природе, и все они действительно являются ее созданиями.
Природа, однако, является не чем иным, как орудием, особым путем, которым угодно было воспользоваться высшему могуществу для того, чтобы сотворить различные тела, для того, чтобы их изменять и создать все их многообразие, наделить одних — свойствами, других — способностями, словом, для того, чтобы привести все пассивные части вселенной в то состояние бесконечного изменения, {251} в котором они постоянно находятся. Природа является в некотором роде посредником между богом и частями физической вселенной, выполняющим божественную волю.
Именно в этом смысле мы можем сказать, что как животные, так и способности, которыми они обладают, представляют собой создания природы. То же можно сказать о растениях. Наконец,— что и неживые тела, каковы бы они ни были, также являются созданиями природы, несмотря на то, что все, что существует, возникло только благодаря воле верховного творца всех вещей.
Что касается природы, то, если рассматривать ее как активное начало, произведшее и продолжающее производить столько вещей, столько чудесного, то в этом утверждении нет ничего предумышленного, ничего, что было бы продуктом нашего воображения, ибо мы ежедневно бываем свидетелями ее действий, можем проследить многие из них, можем наблюдать их развитие и понять законы, которым она неуклонно подчиняется в каждом из этих действий.
Нам уже известны многие законы, которым природа следует в своих действиях, мы умеем различать ее пути на основании тех действий, которые она производит, и обстоятельств, видоизменяющих результаты этих действий; наконец, нам известно, что, создавая тела, в которых она могла установить жизнь, и усложняя организацию различных этих тел, она всегда действовала последовательно. Мы видим также, что у животных, которых она наделила раздражимостью, она постепенно, начиная с самых несовершенных и кончая самыми совершенными из них, усложнила их специальные органы, что дало ей возможность обусловить у этих существ различные органические явления, все более и более замечательные, и наделить наиболее совершенных из этих животных способностями, которые превосходят все, что мы могли бы создать силой нашего воображения, и которые перестали бы казаться чудесными, если бы был известен механизм их действия.
Вот истины, открытые при помощи наблюдения, истины, против которых в настоящее время нельзя привести никаких разумных возражений. {252}
Отсюда следует, что область, доступная нашему познанию, строго ограничена. Мы можем приобретать положительные знания только о телах, их свойствах, способностях и о явлениях, которые нам раскрывают эти тела, только о природе, которая их изменяет, делает многообразными, разрушает и непрерывно восстанавливает. Укажем теперь истины, к познанию которых мы пришли при помощи наблюдения.
Вселенная является неизменной, недеятельной и лишенной собственной активности совокупностью всех существующих видов материи и тел. Эта совокупность, лишенная собственной активности и неспособная что-либо произвести самостоятельно, представляет собой единственную область действия природы и обязана ей состоянием всех своих частей.
Природа, напротив, является подлинным действенным началом, зависимым96 во всем, что оно создает, неизменным по своей сущности, непрерывно действующим на все части вселенной и заключающим в себе неисчерпаемый источник движений и управляющих ими законов, а также средств, необходимых для осуществления действия этих законов, одним словом,— из предметов, не обладающих свойствами материи, но, тем не менее, поддающихся определению путем наблюдения. Природа составляет особый постоянный порядок вещей, который приводит все части вселенной в то состояние, в котором они находятся в каждый данный момент,— порядок, которому обязаны своим существованием все наблюдаемые нами факты, а также многие другие, которых мы не можем познать.
Вот, следовательно, две резко отличающиеся друг от друга категории вещей, которые нельзя смешивать. Существование их для нас является реальным фактом, ибо наши наблюдения его постоянно подтверждают.
В тех важных вопросах, которыми мы здесь намерены заниматься и относительно которых необходимо, по мере возможности, твердо установить определенные понятия, следует отличать то, что представляет собой положительный результат наблюдения, от того, что {253} является не чем иным, как продуктом воображения, в свою очередь порождающим все произвольные допущения, все фикции и всякого рода иллюзии.
Действительно, две области, огромной протяженности каждая и чрезвычайно несходные между собой, всегда открыты умственному взору человека. Эти две области — это область реального и область воображения.
Человек, благодаря присущему ему вниманию и способности мыслить, обращается то к одной, то к другой из них, в зависимости от интереса или удовольствия, которые он там находит. Чем чаще он вступает в ту или другую область, тем шире становятся для него границы каждой из них и тем больше развивается его мысль.
Область реального. Это та область, которую составляют различные виды материи и тела, доступные нашему наблюдению, а также природа в ее действиях, явлениях и в ее поступательном движении.
Мы можем определить эту область как область фактов, бывших предметом наблюдения или доступных последнему, и так как она охватывает только реальные предметы, и так как мы можем почерпнуть в ней только плоды наблюдений, то она и является единственной областью, которая может обеспечить нас положительными знаниями.
Виды материи и тела, доступные нашему наблюдению, движения, перемещения, свойства, изменения и различные явления, которые все эти тела и все эти виды материи могут раскрывать и которые мы способны познавать при помощи наших чувств; наконец, законы и порядок, согласно которым эти движения, изменения и явления осуществляются,— вот единственные предметы, которые мы можем рассматривать, изучать и всесторонне познавать. Поэтому всякое знание, не вытекающее непосредственно из наблюдения или из выводов, сделанных на основании установленных наблюдением фактов, неизбежно окажется беспочвенным и, следовательно, необоснованным.
Такова совокупность фактов, охватываемых областью реального; только в этой области мы можем обрести полезные истины, свободные от иллюзий. {254}
Область воображения. Эта область, сильно отличающаяся от первой, но не менее обширная, чем она, есть область вымыслов, произвольных предположений и всякого рода иллюзий.
Мысль человека охотно пребывает в этой области, хотя в ней нет ничего доступного наблюдению и хотя ничего реального она не может установить. Взамен этого мысль произвольно создает в ней все, что может ее интересовать, пленять или услаждать. Она достигает этого, видоизменяя представления о реальных предметах, приобретенные ею в первой области.
Следует отметить поистине необыкновенный факт, над которым, как мне кажется, еще никто не задумывался, а именно, что воображение человека не может создать ни одного представления, которое имело бы иной источник, кроме представлений, полученных при посредстве чувств.
Сравнивая простые представления, полученные путем ощущений, и высказывая о них суждения, человек образует из них сложные представления первого порядка; сопоставляя два или несколько сложных представлений первого порядка, он получает новые представления — более высокого порядка; на основе этих последних или других представлений любого порядка, которые человек к ним присоединяет, он создает все новые и новые представления, и так это может продолжаться почти до бесконечности. Таким образом, все выводы, которые он делает, и, следовательно, все образуемые им представления имеют своим источником простые первичные представления, приобретенные благодаря наличию органической системы, обусловливающей ощущения.
Если добавить к этой возможности увеличивать число своих представлений способность получать из них новые путем произвольного видоизменения представлений всех порядков, обязанных своим происхождением ощущениям и наблюдениям, то мы получим полную картину всего того, что может создать воображение человека.
Так, например, в одних случаях воображение, пользуясь контрастами или противопоставлениями, исходя из понятия о конечном, строит понятие о бесконечном; подобно этому, исходя из понятия о {255} материи или о теле, оно строит понятие о сущности нематериальной. Никогда мысль не могла бы осуществить все эти превращения, иными словами, не могла бы прийти к этим преобразованиям, т. е. к видоизмененным представлениям, без тех реальных образцов, которыми она пользовалась. Иногда мысль человека, произвольно видоизменяя внешний вид известных нам тел и присущие им знакомые из наблюдения свойства, а также наиболее выдающиеся явления, которые они производят, наделяет вымышленные существа внешними признаками, качествами и способностями, отвечающими во всем тем фантастическим созданиям, которые ей по тем или иным мотивам угодно было сотворить. Несмотря на это, мысль человека всегда несвободна в осуществлении этих превращений, этих вымыслов и может выполнять их только на основе образцов, которыми ее снабжает область реального, образцов, которые она видоизменяет на все лады и без которых она вообще не могла бы создать ни одного представления («Philosophie zoologique», ч. Ill, стр. 750 и след.).
Таким образом, будучи неограниченной властительницей в области воображения, мысль человека находит в ней очарование, которое непрерывно влечет ее, она создает здесь иллюзии, дающие ей отраду, услаждающие ее, иногда даже вознаграждающие ее за все то, что ее мучает и угнетает. Вот почему мысль человека так заботливо культивирует эту область97.
Единственно полезное, что человек может извлечь из этой области,— это надежда, и он ее бережет. Истинным врагом человека был бы тот, кто лишил бы его этого реального, часто почти единственного блага, которое он сохраняет до последних мгновений жизни.
Как бы обширна и интересна ни была область реального, мысль человека с трудом удовлетворяется ею.
Здесь она неизбежно зависима, ограничена наблюдением и изучением тел, наконец, здесь она ничего не может создавать, изменять и может лишь познавать. Мысль человека вступает в эту область только потому, что она одна дает ему все, что способствует его самосохранению, удобству или удовольствию, словом,— удовлетворению его физических потребностей. В результате этого область реального {256} обыкновенно разрабатывается гораздо меньше, чем область воображения, и притом лишь незначительным числом людей, которые в большинстве случаев оставляют нетронутыми самые замечательные части ее.
Сравнивая между собой эти области, легко представить себе, каким огромным превосходством обладает область воображения, доставляющая столь приятные мысли, взгляды и иллюзии, над рассудком, вечно суровым и непреклонным, словом,— над областью реального, которая повсюду ставит препоны мысли и не допускает иного средства, кроме наблюдения, и иного вожатого в работе, кроме самого рассудка, всегда являющегося плодом опыта.
Натуралист, запрещающий себе вступать в область воображения потому, что он доверяет лишь поддающимся наблюдению фактам, не только изучает все то, что его окружает, устанавливает различия, описывает и классифицирует все рассматриваемые им предметы и указывает себе подобным то, что, по его мнению, может быть полезным, но, кроме того, он исследует природу, вникает в ее пути, изучает ее законы, действия, средства и стремится познать ее. Созерцая лишь весьма малую часть доступной его наблюдению вселенной, он создает себе простейшее представление о ней, не стремясь постигнуть или определить ее в совокупности всех частей. Сравнивая в дальнейшем эту физическую вселенную с природой, с этим вечно активным началом, которое производит столько вещей, столько удивительных явлений, он видит, что только вселенная и природа обладают постоянством, кажущимся ему абсолютным, и на основании этого приходит к выводу о неизбежности этого постоянства.
Определив, чем может быть природа, осветив единственную точку зрения, с которой мы можем ее рассматривать, и показав в приведенном здесь, полезном для нашей темы отступлении единственный дуть, который дает нам возможность приобрести положительные знания, я закончу этим шестую часть моего труда.
Я должен был коснуться приведенных здесь подробностей и разъяснений, потому что мне казалось, что существующие на этот счет представления весьма расплывчаты, произвольны и плохо обоснованы, {257} а также и потому, что без этих соображений все, что я излагаю относительно происхождения животных, образования различных видов организации у беспозвоночных, об источнике каждой, присущей животным способности и всех склонностей существ, наделенных чувством и умом, наконец, о пути, которому следовала природа, о ее способах действия,— все это могло бы показаться плодом моего воображения, несмотря на то, что приводимые мною данные неоспоримы.
Настоящей, шестой частью заканчивается «Введение», т. е. все размышления, касающиеся животных, их происхождения и того, что они представляют собой, каждое в своем роде. Я полагаю, что, за исключением, быть может, нескольких частностей, требующих исправления, это «Введение» содержит на протяжении составляющих его шести частей большое число очевидных истин, тесно связанных одна с другой, истин, которые полезно знать и которые трудно было бы опровергнуть, хотя бы с некоторым разумным основанием.
Этим я должен был бы закончить необходимое «Введение» к моему труду, ибо именно в шестой части, как мне кажется, нарастающая важность содержания достигает высшего предела98. Однако запросы зоологических наук, произвол, царящий в области искусственных приемов, без которых нельзя обойтись в этих науках, наконец, постоянные колебания, влекущие за собой разнобой в распределении самих объектов исследования и, еще больше, в установлении различного рода подразделений, которые необходимо было ввести при изучении животных, все это вынуждает меня добавить к настоящему «Введению», хотя бы в качестве приложения, седьмую часть, к которой я и перехожу теперь.
Итак, в седьмой и последней части я намерен рассмотреть общее распределение животных и его различные подразделения, уделяя при этом главное внимание тем принципам, которые должны быть положены в основу этого распределения. Я предлагаю здесь лишь те из принципов, которые, как мне кажется, заслуживают признания со стороны зоологов.
| {258} |

После важных проблем, последовательно рассмотренных нами выше, вопросы, которые нам предстоит обсудить в этой последней части или, вернее, в этом дополнении к «Введению», могут показаться гораздо менее интересными. Между тем эти вопросы не лишены значения, ибо они связаны с положениями, существенно важными для прогресса зоологии и необходимыми для завершения настоящего труда.
В предшествующем изложении я показал, что представляют собой животные вообще, что их характеризует, чем они обязаны природе, иными словами, я рассмотрел все то, что мне казалось необходимым отметить в отношении животных. Для того чтобы изучить все эти предметы, достаточно, как я полагаю, их исследовать, а для этого требуется собрать и рассмотреть многочисленные факты, которые и послужат основой изучения.
Здесь я имею в виду исключительно то, что имеет отношение к искусственным приемам в зоологии; что касается этой области, то у меня есть целый ряд важных соображений, которые я хотел бы предложить для усовершенствования, уточнения и, если это окажется возможным, для освобождения этих приемов от того произвола, который неизменно делает результаты [их применения] столь шаткими.
Всякий искусственный прием должен иметь свои принципы или свои правила, направляющие и ограничивающие область его применения. {259} Понятно, что в противном случае эти приемы мало совершенствуются и не достигают своей цели.
И вот, так как те искусственные приемы, о которых здесь идет речь, касаются общего распределения животных, места, принадлежащего в этом распределении каждому виду, каждому роду и каждому семейству, наконец, каждому классу, и так как, помимо того, они связаны также с расположением всего порядка в целом, то необходимо указать, что именно следует сделать для совершенствования этого распределения и какие следует выдвинуть принципы, которым наши приемы должны быть подчинены.
Следовательно, для построения вполне удовлетворительного общего распределения животных и для установления правильных подразделений всего ряда в целом, наконец, для наилучшего расположения, которое можно придать этому ряду, необходимо, как я полагаю, разрешить три следующих вопроса.
Первый вопрос: какими следует пользоваться приемами для построения вполне удовлетворительного распределения животных и для правильного построения всех тех подразделений, которые необходимо установить в этом распределении?
Второй вопрос: каковы те принципы, которыми мы должны руководствоваться при пользовании этими приемами, чтобы исключить всякий произвол в этой области?
Третий вопрос: какое расположение следует придать общему распределению животных, чтобы оно соответствовало порядку самой природы при создании этих существ?
Разумеется, до тех пор пока мы оставим эти три вопроса без надлежащего исследования и без ответа, и до тех пор пока мы не установим какого-либо принципа для упорядочения наших приемов, мы по-прежнему будем вносить произвол в наши определения тех или иных объектов, а в работах зоологов, посвященных различным частям общего распределения животных, всегда будут встречаться различные перестановки, предложенные отдельными авторами для тех или иных частей общего ряда, всегда будут иметь место противоречащие природе и непрерывно меняющиеся группировки объектов, подлежащих {260} размещению, одним словом,— всегда будет наблюдаться полное отсутствие единства действий. Существующий в этой области разнобой мог бы задержать развитие науки, образовать препятствия на его пути и помешать науке утвердиться, лишив нас тем самым возможности изучать природу во всем, что она создала и продолжает создавать в отношении животных.
Обратимся сначала к первому вопросу и попытаемся его разрешить, далее установим, поскольку это нам удастся, принципы, которыми следует руководствоваться, чтобы достигнуть поставленной в нем цели.
Первый вопрос. Какими следует пользоваться приемами для построения вполне удовлетворительного распределения животных и для правильного построения тех подразделений, которые необходимо установить в этом распределении?
Ответ на этот вопрос: главные приемы, которые нужно выполнить, чтобы надлежащим образом осуществить обе задачи, о которых идет речь в этом вопросе, заключаются в следующем:
1. Сближать животных друг с другом на основе принципа, в котором нет места произволу, т. е. таким образом, чтобы можно было образовать из них общий ряд, либо- простой, либо имеющий ответвления.
2. Разделить этот общий ряд на различного рода группы, из которых одни были бы подчинены другим, и для этого руководствоваться условными принципами, которые надлежит предварительно установить.
3. Точно определить место каждой из этих групп в соответствии с предварительно установленными общими принципами, а именно, определить:
место каждого первичного деления во всем ряде в целом;
место делений, соответствующих классам в каждом первичном делении;
место отрядов или семейств в классе;
место родов в семействе;
место видов в роде. {261}
Выполнение этих троякого рода приемов бесспорно необходимо. Это хорошо понимали, и каждый автор в большей или меньшей степени занимался этими вопросами, однако, вся работа в этой области носила характер произвола, т. е., предварительно не были установлены принципы, заслуживающие общего признания, иными словами,— принципы, исключающие всякий произвол и способные действительно упрочить науку.
Первый из этих приемов, имеющих своей целью сблизить одних животных с другими, с тем чтобы образовать из них общий ряд, является предварительным основным приемом, который должен предшествовать всем прочим и без которого последние были бы невыполнимы. Этот прием, помимо того, дает нам возможность выяснить порядок самой природы, тот порядок, познать который для нас так важно.
Создавая живые тела, в особенности животных, природа, без сомнения, следовала определенному порядку, но так как она рассеяла всех этих животных по поверхности земли и в водах и смешала различные их породы, то этот порядок их образования оказался до некоторой степени искаженным или даже вовсе не поддающимся обнаружению. Для того чтобы обнаружить его, мы вынуждены отыскать какое-либо средство, могущее привести нас к его открытию и позволяющее найти какие-нибудь твердые принципы; они дали бы возможность безошибочно распознать тот порядок, который мы стремимся определить.
В этом отношении самый важный шаг уже был сделан, когда поняли, какой интерес представляет изучение отношений и как необходимо знать их для того, чтобы положить их в основу всех частей в наших системах распределения.
Нам стало ясно, что для правильного распределения животных — так, чтобы никакие произвольные мнения нигде не могли ослабить его обоснованность, необходимо прежде всего сближать одних животных с другими на основе их отношений, наилучшим образом установленных; далее, можно будет без труда наметить разграничительные линии, разделяющие как классы, так и их подразделения, которые {262} полезно было бы установить, следя за тем, чтобы порядок и состав этих различных подразделений нигде не нарушал [естественных] отношений.
Таково состояние знаний, достигнутых нами в деле установления [систем] распределения, но еще много остается сделать для усовершенствования нашей работы в этой области и для полного устранения того произвола, который проник даже в определения многих отношений. В самом деле, существуют отношения различного рода, и так как их значимость далеко не одинакова, мы не могли бы безошибочно предпочесть одни другим, если бы предварительно не установили некоторых правил для устранения произвола в этих определениях.
Для того чтобы устранить порядок вещей, утвердившийся в области искусственных приемов, тот порядок вещей, который обесценивает все наши усилия, заставляя непрерывно изменять как установленные нами определения отношений, так и их применение, необходимо прежде всего исследовать, что собой действительно представляют отношения, какие бывают роды отношений и как следует пользоваться каждым признанным нами родом отношений. После этого нам легче будет определить те принципы, которые должны быть установлены.
Отношениями были названы обнаруживаемые путем сравнения или сопоставления черты сходства или аналогии, которыми природа наделила различные свои создания и различные части их тела. Определить эти черты сходства можно при помощи наблюдения.
Знание этих черт сходства настолько необходимо, что все наши распределения окажутся совершенно необоснованными, если объекты, которые они охватывают, не будут размещены согласно закону, предписываемому этими отношениями.
Отношения бывают различных порядков: одни из них носят общий, другие менее общий характер и, наконец, третьи представляют собой частные отношения.
Помимо того, отношения принято делить на такие, которые касаются различных сравниваемых существ, и такие, которые охватывают лишь сравниваемые части различных существ. Этим {263} разграничением слишком часто пренебрегают, хотя оно имеет важное значение.
Но это еще не все: несмотря на то, что отношения составляют часть самой природы, не все они являются результатом ее непосредственных действий над ее созданиями, так как среди отношений между сравниваемыми частями [тела] различных существ очень часто мы находим такие, которые обусловлены причиной, видоизменившей непосредственные деяния природы. Так, например, отношения, устанавливаемые при сравнении внешней формы китообразных и рыб, можно приписать исключительно влиянию водной среды, в которой обитают эти две группы животных, но отнюдь не непосредственному плану действий природы в отношении их.
Необходимо, следовательно, тщательно отличать отношения, обусловленные непосредственными действиями природы в ходе постепенного усложнения организации животных, от отношений, являющихся результатом влияния места обитания или тех привычек, которые различные породы вынуждены были приобрести100.
Но эти последние отношения, без сомнения, имеющие гораздо меньшую значимость по сравнению с первыми, не ограничиваются только наружными частями; напротив, можно доказать, что посторонняя причина, способная изменять непосредственные действия природы, часто оказывает свое влияние на те или иные внутренние органы; Поэтому для правильной оценки этих отношений надлежит установить какие-нибудь правила.
В зоологии установлен принцип, который гласит, что наиболее заслуживающими внимания отношениями являются отношения, которые заимствованы из рассмотрения внутренней организации.
Этот принцип вполне обоснован, если он выражает предпочтение, которое следует отдавать рассмотрению внутренней организации перед рассмотрением наружных частей. Но если, вместо того чтобы понимать его в этом смысле, его применяют к отдельным случаям по собственному выбору и без предварительно установленных правил, всегда есть опасность злоупотребить им, как это, действительно, неоднократно имело место. При этом может случиться, что будет дано {264} предпочтение отношениям, раскрываемым тем или иным внутренним органом или той или иной системой внутренних органов, перед отношениями, установленными путем сравнения каких-либо других внутренних органов, несмотря на то, что отношения, представляемые этими последними, имеют гораздо более важное значение. Там, где пользуются этим приемом, открывающим простор произвольным мнениям каждого автора, в некоторых частях общего распределения допускаются искажения, противоречащие истинному порядку природы.
Наблюдение повсюду подтверждает следующий факт, о котором я уже упоминал, а именно: причина, изменяющая ход возрастающего усложнения организации, действовала не только на наружные части животных, но и различным образом видоизменяла их внутренние части и вызывала чрезвычайно неправильные изменения как тех, так и других частей.
Отсюда следует, что неверно, будто отношения между видами и особенно между родами, семействами, отрядами, иногда даже классами всегда могут быть надлежащим образом установлены на основе рассмотрения какой-нибудь одной, произвольно выбранной внутренней части, взятой в отдельности. Напротив, я глубоко убежден, что отношения, о которых здесь идет речь, могут быть надлежащим образом выявлены только путем рассмотрения всей внутренней организации в целом и, в качестве вспомогательного средства,— путем рассмотрения некоторых специальных внутренних органов, притом таких, относительно которых принципы, лишенные произвола, позволили убедиться в их большей значимости по сравнению с другими, в смысле тех отношений, которые они обнаруживают.
Следовательно, если мы хотим устранить произвол в определении отношений, который так сильно вредит точности науки, мы должны стремиться определить изложенные здесь принципы и в дальнейшем строго придерживаться их!
Второй вопрос. Каковы те принципы, которыми мы должны руководствоваться при пользовании этими приемами, чтобы исключить всякий произвол в этой области? {265}
Конечно, мы оказали бы большую услугу зоологии, если бы могли дать правильное решение этого вопроса, т. е. определить надлежащие принципы для упорядочения различных указанных выше приемов и для того, чтобы исключить из них всякий произвол.
Мне не пристало давать оценку усилиям, приложенным мною самим в этой области, но я намерен предложить те результаты их, которые мне внушают доверие.
Я думаю, что мы найдем надлежащие принципы для упорядочения всех разделов общего распределения животных только путем точного разграничения всякого рода отношений и с помощью обоснованного и надежного определения того предпочтения, которое следует отдавать какому-либо одному виду отношений перед другим.
Таким образом, задача состоит прежде всего в определении главных родов отношений, которые следует применять для достижения цели, а также в установлении превосходства значимости одних из этих отношений перед другими.
Исходя из этого, я считаю, что главные роды отношении, которые могут встретиться и которые важно отличать при сравнении различных животных, следующие:
Эти отношения, несмотря на то что они носят общий характер, проявляются в различной степени, в зависимости от того, сравнивают ли между собой породы или большие группы животных различных пород.
Следовательно, нужно различать среди них несколько родов отношений:
Первый род общих отношений. Этот род отношений служит для непосредственного сближения между собой пород или видов. Он, бесспорно, является первым, так как именно он представляет наиболее близкие отношения, которые могут быть обнаружены при сравнении между собой неодинаковых животных. Зоолог, который определяет этот род отношений, рассматривая все части организации, как {266} внутренние, так и наружные, устанавливает этот род отношений только тогда, когда последний отражает наименее значительные, наименее важные различия.
Известно, что животные, совершенно подобные друг другу по своей внутренней организации и по своим наружным частям, могут быть только индивидуумами одного и того же вида. Поскольку эти животные не обнаруживают никаких различий, отношения в данном случае не рассматриваются.
Но животные, между которыми можно обнаружить заметные, постоянные и одновременно наименьшие различия, могут быть сближены между собой при помощи самых тесных отношений, если при этом наблюдается большое сходство во всех частях их внутренней организации, а также в большинстве наружных частей.
Рассматриваемый род отношений отнюдь не обязывает принимать во внимания степень сложности организации животных. Он может быть определен в любом месте общего ряда.
Этот род отношений настолько легко установить, что каждый может сразу распознать его, и именно при помощи этого рода отношений натуралисты образовали те небольшие части общего ряда [животных], которые составляют наши роды, несмотря на всю произвольность границ последних.
Таким образом, в этом первом роде отношений, который можно назвать отношениями между видами [rapports d'especes], различия между сравниваемыми объектами — наименьшие из всех возможных и могут быть обнаружены только в частностях формы или наружных частей индивидуумов.
Второй род общих отношений. Это тот род отношений, который охватывает отношения между большими группами различных животных при сравнении этих групп между собой. Этот род отношений можно назвать отношениями между большими группами, [rapports de masses].
Для определения этого рода отношений принимают во внимание уже не особенности общей формы или наружных частей, но исключительно, или почти исключительно, особенности внутренней {267} организации, рассматриваемой во всех ее частях. Именно внутренняя организация дает возможность установить те различия, которые могут служить для разграничения больших групп.
Этот второй род отношений на одну или несколько ступеней ниже первого по количеству черт сходства между сравниваемыми объектами. Именно этот род отношений служит для образования семейств путем сближения одного рода с другим и для установления отрядов или секций путем объединения нескольких семейств; наконец,— для определения групп, образующих классы, на которые следует разделить общий ряд.
Отношения, о которых здесь идет речь, не могут служить для определения места больших групп в общем ряде и могут быть использованы лишь для различных сближений в целях установления и различения этих больших групп.
Из рассмотрения этих отношений можно вывести два следующих принципа:
Первый принцип. Общие отношения второго рода отнюдь не требуют полного сходства внутренней организации сравниваемых животных; они требуют только, чтобы сближенные большие группы обладали большим сходством между собой, чем с какой-либо другой группой.
Второй принцип. Чем крупнее сравниваемые большие группы или чем более общий характер они носят, тем больше различий могут представлять по своей внутренней организации животные, входящие в эту группу.
Таким образом, семейства представляют меньше различий со стороны внутренней организации входящих в них животных, чем отряды и особенно классы.
Третий род общих отношений. Эти отношения можно назвать отношениями места, положения [rapports de rang], потому что они служат для определения места в общем ряде и потому что при сравнении с точки зрения сложности и совершенства они действительно раскрывают отношения между сравниваемыми предметами то большей, то меньшей степени близости. {268}
В самом деле, эти отношения можно вывести, сравнивая какую-либо организацию, взятую в совокупности ее частей, с другой организацией, служащей отправной точкой или точкой сравнения. При этом определяют, на основании большего или меньшего сходства, существующего между обеими сравниваемыми организациями, насколько та, которую сравнивают, удаляется или приближается к той, которую приняли за исходную точку сравнения.
Мы увидим, что это действительно единственный род отношений, который может служить для установления места каждого из подразделений, составляющих лестницу животных.
Когда возникает вопрос о выборе организации, которая должна служить отправной точкой для сравнения при установлении степени близости или отдаленности от нее других организаций, в зависимости от их большего или меньшего сходства с ней, то нетрудно понять, что выбор должен пасть на одну из точек верхнего или нижнего конца общего ряда животных. При этом не может быть никаких колебаний: предпочтение следует отдавать лучше изученному концу ряда.
Таким образом, при определении места всякой сравниваемой организации мы, приняв за отправную точку самую сложную и самую совершенную организацию, переходим от более сложного к более простому и заканчиваем ряд наиболее простой и наиболее несовершенной из всех известных нам организаций животных.
Я уже отмечал, что из всех видов организации — организация человека действительно является самой сложной и одновременно самой совершенной в ее целом. Отсюда я имел основание сделать вывод, что чем ближе организация животного к организации человека, тем она сложнее и тем ближе к совершенству.
Поскольку это так, организация человека будет служить исходной точкой для сравнения и отправной точкой для суждения о степени близости той или иной организации животных к организации человека и, наконец, для определения истинного, а не произвольно принятого положения, которое каждое из составляющих его подразделений должно занимать в общем ряде101. {269}
Организация, принятая нами за исходную точку для сравнения, даст нам при рассмотрении совокупности ее частей возможность судить о степени сложности и совершенства любой другой организации, также рассматриваемой в совокупности ее частей. В сомнительных случаях легко устранить неопределенность и затруднения, прибегая к рассмотрению четвертого рода отношений, т. е. к принципу сравнения различных органов, рассматриваемых в отдельности, иными словами, к принципу, позволяющему установить превосходство одних органов над другими.
Итак, после того как будет найдена наша исходная точка для сравнения, легко будет установить место всех подразделений общего ряда, если руководствоваться приведенными ниже принципами.
Первый принцип. Если для определения места в ряде каждой большой группы в качестве постоянной отправной точки для сравнения принята самая сложная и самая совершенная из всех организаций, то, чем больше с ней сходства обнаруживает та или иная организация, рассматриваемая в совокупности ее частей, тем ближе она будет по своим отношениям к организации, принятой за исходную точку при сравнении; обратное наблюдается в противоположных случаях.
Второй принцип. Организации, план которых отличается от плана организации, принятой нами за исходную точку для сравнения, и обладающие одной или несколькими системами органов, сходными с входящими в систему организации, с которой их сравнивают,— будут занимать более высокое место по сравнению с теми, которые имеют меньшее число таких органов или вовсе их не имеют.
При помощи трех родов отношений, о которых речь шла выше, и тех принципов, которые могут быть из них выведены, легко установить разграничения видов и различных больших групп, которые из видов формируются, и затем, не внося никакого произвола, можно установить место каждой из таких больших групп в общем ряде,— наука сможет тогда развиваться, не зная колебаний.
Однако наши усилия были бы неполными и оставляли бы немало места для произвола, если бы мы не приняли во внимание важности {270} частных отношений [rapports partieuliers], т. е. тех отношений, которые можно установить путем сравнения специальных внутренних органов, рассматриваемых в отдельности у различных животных.
Четвертый род отношений охватывает только частные отношения — между частями, не подвергшимися изменению. Это тот род отношений, который может быть получен путем сравнения частей, рассматриваемых в отдельности, а именно — входящих в систему данной организации, которые не обнаруживают никаких существенных отклонений.
Рассмотрение этого рода отношений может оказать большую помощь во всех сомнительных случаях, когда требуется определить, какой из нескольких сравниваемых групп следует отводить более высокое место. Сомнительные случаи — такие, когда совокупность частей внутренней организации лишает- возможности определить, не внося произвола, какой из двух сравниваемых организаций принадлежит более высокое место.
Этот четвертый род отношений полезно применять главным образом при образовании и размещении отрядов, секций, семейств и даже родов в пределах классов и, следовательно, при определении места, принадлежащего каждой из этих нижестоящих групп, ибо применительно к этим группам принципы, лежащие в основе третьего рода отношений, часто трудно приложимы. И вот именно здесь открывается простор для произвола, который наносит непоправимый ущерб науке, ибо при этом в труды натуралистов непрерывно вносятся изменения в определения отношений, обусловливающих как состав самих групп, так и место, принадлежащее каждой группе в общем ряде.
В самом деле, многие животные, будучи правильно сближены между собой на основе общих отношений и признаков их класса, могут сильно отличаться друг от друга по некоторым своим внутренним органам, одновременно обнаруживая столь же большое сходство в других {271} внутренних органах. Отсюда понятно, что для определения степени значимости отношений, устанавливаемых путем сравнения специальных органов, необходимо, во избежание всякого произвола, руководствоваться некоторыми принципами, которые могут упорядочить эти отношения.
Приведем два принципа, дающие возможность определить степень значимости отношений, установленных на основе сопоставления специальных внутренних органов у различных сравниваемых животных.
Первый принцип. Из двух сравниваемых и рассматриваемых в отдельности органов или систем внутренних органов превосходство в значимости представляемых ими отношений принадлежит тем, которым природа придала большую общность употребления.
В соответствии с этим принципом ниже приводятся специальные органы, установленные природой во внутренней организации животных, в порядке убывающей значимости этих органов.
Органы пищеварения.
Органы дыхания.
Органы движения.
Органы размножения.
Органы чувствования.
Органы циркуляции.
Таким образом, рассматривая специальные органы, установленные природой во внутренней организации животных, с точки зрения наибольшей общности их употребления, мы видим, что органы пищеварения стоят на первом месте, а органы циркуляции — на последнем.
Вот, следовательно, перечень важных органов в порядке их значимости. В сомнительных случаях этот последовательный ряд позволяет точно установить, каким именно отношениям следует отдавать предпочтение.
Второй принцип. Из двух видов одного и того же органа или системы органов предпочтение, с точки зрения раскрываемых ими отношений, должно быть отдано тем, которые ближе к соответствующим органам более сложной и более совершенной организации. {272}
Так, например, если я хочу исходить из отношений, представляемых органами дыхания, то для того чтобы судить о предпочтении, которое следует отдавать этим отношениям перед отношениями, обнаруживаемыми другими органами, я должен, согласно указанному выше принципу, принимать во внимание следующие соображения:
Специальная система органов дыхания имеет чрезвычайно широкое применение в организации животных, ибо, за исключением инфузорий и полипов, все остальные животные обладают специальной дыхательной системой, однако не у всех животных, которые этой системой наделены, она имеет одинаковый характер. Для меня не подлежит сомнению, что настоящие легкие выше по своему значению, чем жабры, что жабры имеют большее значение, чем воздухоносные трахеи, а эти последние, в свою очередь, выше, чем водоносные трахеи, которые не следует смешивать с жабрами. Таким образом, я могу судить о том, имеет ли устройство органов дыхания, которым я намерен пользоваться при определении отношений, настолько важное значение, чтобы руководствоваться им, а не отношениями, представляемыми какими-либо органами иного рода.
Пятый род отношений охватывает частные отношения между частями, подвергшимися изменению. Этот род отношений требует, чтобы при сравнении частей мы отличали все то, что обязано своим происхождением действительному плану природы, от того, что является результатом изменений, которым этот план подвергся под влиянием случайных причин.
Этот род отношений устанавливают, таким образом, путем сопоставления частей, которые, при рассмотрении их у различных животных в отдельности, находятся вовсе не в том состоянии, в каком они должны были бы быть согласно соответствующему плану организации.
Действительно, для того чтобы судить о степени значимости того или иного отношения и о предпочтении, которое следует отдавать одному из этих отношений перед другими, далеко не безразлично — обусловлены ли форма органов, их увеличение, уменьшение или даже полное их исчезновение планом организации данных животных или {273} же состояние этих органов является результатом действия некоторой поддающейся определению изменяющей причины, которая видоизменила или уничтожила то, что природа выполнила бы, если бы не было влияния этой причины.
Так, например, для природы невозможно было бы наделить головой инфузорий, полипов, лучистых и т. д., ибо состояние этих тел, ступень их организации не позволили бы сделать это, и действительно, только у насекомых природа получила возможность [впервые] снабдить тело животного настоящей головой.
Но так как природа никогда не действует в обратном направлений, следует думать, что, дойдя до создания насекомых и, следовательно, до формирования головы — этого вместилища специальных чувств, она должна была в дальнейшем наделить настоящей головой всех животных, стоящих по своей организации выше насекомых. Однако дело не всегда обстоит так. Многие кольчецы, усоногие и моллюски совершенно лишены обособленной головы. Некая, посторонняя природе, но поддающаяся определению и видоизменяющая причина воспрепятствовала тому, чтобы указанные животные были снабжены настоящей головой. И в самом деле, в одних случаях эта причина в большей или меньшей мере противодействовала развитию этой части тела, а в других она привела даже к полному ее исчезновению.
То же можно оказать и в отношении глаз, там, где они предусмотрены планом организации; то же можно сказать и относительно зубов; наконец, то же — относительно различных, как внутренних, так и наружных частей организации. Изменяющая причина, о которой здесь идет речь, была способна увеличить, привести в упадок и даже полностью уничтожить упомянутые мною органы.
Отсюда понятно, что отношения, которые можно вывести путем рассмотрения этих измененных или подвергшихся деградации частей, будут по своему значению гораздо ниже тех, которые нам дало бы рассмотрение тех же частей, если бы они были такими, какими они должны были быть по плану организации, осуществляемому природой. Из этих соображений вытекает следующий принцип:
Принцип. Все то, что непосредственно создано природой, имеет {274} большую значимость по сравнению с тем, что обязано своим происхождением случайной причине, видоизменившей плоды ее трудов. При выборе отношений, которыми надлежит пользоваться, предпочтение следует отдавать тому органу или той системе органов, состояние которых отвечает плану организации, часть которого они составляют, перед тем органом или той системой органов, состояние или существование которых является результатом действия изменяющей, чуждой природе причины102.
В том случае, когда из двух различных органов, между которыми должен быть сделан выбор, и тот и другой подверглись действию изменяющей причины, предпочтение следует отдавать тому из них, изменения или деградация которого меньше отдалили его от того состояния, какое он должен был иметь соответственно плану организации.
Таковы пять родов отношений, которые важно отличать, если мы хотим получить принципы, исключающие всякий произвол при определении истинных отношений и их значимости. Ниже приводится краткий обзор этих принципов.
Первый принцип. На любой ступени лестницы животных наиболее тесными из отношений между различными животными являются те, которые служат для непосредственного сближения видов между собой. Эти отношения требуют, чтобы сближаемые животные обладали большим сходством в своей внутренней организации и чтобы главные отличия, существующие между этими животными, заключались только в особенностях их формы, роста или их наружных частей.
Второй принцип. Отношения, служащие для образования больших групп и для их разграничения, устанавливаются только на основании совокупности частей, составляющих внутреннюю организацию. {275}
Они никогда не требуют полного сходства внутренней организаций животных, составляющих эти большие группы, но требуют лишь, чтобы сближаемые крупные группы обладали большим сходством между собой, чем с какой-либо другой группой, в отношении внутренней организации входящих в них животных.
Третий принцип. Чем крупнее сравниваемые большие группы и чем более общий характер они носят, тем большие различия должна представлять внутренняя организация животных, составляющих эти группы.
Четвертый принцип. Если принять в качестве исходной точки для сравнения самую сложную и самую совершенную из организаций животных, то чем больше организация, рассматриваемая в совокупности ее частей, окажется похожей на ту, которая является исходной точкой для сравнения, тем ближе она будет к ней по своим отношениям, и vice versa.
Пятый принцип. Те из организаций, планы которых отличаются от плана организации, принятой за исходную точку для сравнения, е в которых представлена одна или несколько систем органов, подобных или аналогичных системам, присущим организации, с которой их сравнивают, должны занимать более высокое место, чем организации, имеющие меньшее число таких систем органов или вовсе их не имеющие.
Шестой принцип. При сравнении двух внутренних органов или систем этих органов, рассматриваемых в отдельности, те из них, которым природа дала более широкое применение, будут обладать преимуществом с точки зрения значимости раскрываемых ими отношений. Сообразно с этим различные внутренние органы должны быть {276} расположены в порядке их убывающей значимости следующим образом:
Органы пищеварения.
Органы дыхания.
Органы движения.
Органы размножения.
Органы чувствования.
Органы циркуляции.
Седьмой принцип. Из двух различных видов одной и той же системы органов предпочтения, с точки зрения представляемых ею отношений, заслуживает та из них, которая является более сходной с системой, уже воплощенной в организации, занимающей более высокое место по сложности и совершенству.
Восьмой принцип. Все то, что непосредственно создано природой, должно обладать преимуществом по своей значимости перед тем, что является лишь результатом действия случайной причины, изменившей плоды трудов природы. Поэтому при выборе отношений, которыми надлежит пользоваться, предпочтение следует отдавать тому органу или той системе органов, которые находятся в таком состоянии, в каком они должны были бы быть согласно плану организации, частью которого они являются, перед органом или системой органов, состояние или существование которых обусловлено изменяющей причиной, чуждой природе.
В том случае, когда два различных органа, между которыми приходится делать выбор, оба подверглись действию изменяющей причины, видоизменившей их, предпочтение следует отдавать тому из них, который в результате изменения в меньшей степени отдалился от того состояния, в каком он должен был бы находиться согласно плану соответствующей организации.
Восемь предложенных мной руководящих принципов являются, как мне кажется, теми принципами, против которых невозможно {277} выдвинуть какие-либо обоснованные возражения, и, вместе с тем, единственными принципами, способными выполнить задачу, для которой я их предназначаю. Они позволят установить без произвольных допущений порядок отношений в соответствии со значимостью последних, тот порядок, который должен служить для построения общего распределения животных и для уточнения места, принадлежащего каждому из рассматриваемых объектов. Эти принципы, помимо того, облегчают проведение разграничительных линий, служащих для наиболее удовлетворительного образования родов, семейств, отрядов, классов и [крупных] первичных подразделений животных.
Применение предлагаемых мною принципов, устраняя произвол, препятствующий развитию естественных наук,— ибо именно этот произвол всегда обесценивает результаты усилий, направленных на усовершенствование этих наук,— создаст единообразие плана, столь необходимое для трудов в этой области, и тогда наше распределение животных будет совершенствоваться все более и более, наши знания, касающиеся действий и законов природы, ее созданий, неизмеримо выиграют, а зоологические науки, в частности, обретут ту твердую основу, которой они пока лишены.
Некоторый произвол сохранится в определении места видов в границах их родов и иногда даже в определении места родов в границах их семейств, потому что предложенные мною руководящие принципы легко приложимы только к заметным различиям в признаках внутренней организации. Однако опыт в изучении природы и особое чутье, определить которое я затрудняюсь, помогут зоологу разрушить и этот последний оплот произвола.
Третий вопрос. Какое расположение следует придать общему распределению животных, чтобы оно соответствовало порядку самой природы при создании этих существ?
- Чтобы разрешить этот вопрос, и в этом случае следует найти какой-нибудь принцип, заимствованный у самой природы, чтобы руководствоваться им, ибо если мы построили общее распределение животных исходя из возрастающего усложнения их организации, то можно было бы предположить, что при этом одинаково уместно {278} переходить как от более сложного к более простому, так и от более простого к более сложному. Однако подобное предположение не обосновано. Если мы обратимся к природе, к порядку ее действий в отношении животных, она сама укажет нам следующий, не допускающий никакого произвола принцип:
Природа действует только постепенно, вследствие чего она могла создать животных только в последовательном порядке; поэтому она очевидно шла от более простого к более сложному.
Если, по моему глубокому убеждению, необходимо признать, что во всем, что природа делает, она всегда действует постепенно и если именно она создала животных, то она могла образовать различные их породы только в последовательном порядке. Отсюда совершенно очевидно, что, создавая их, она переходила от более простого к более сложному. Таким образом, чтобы воспроизвести порядок, которому следовала природа, необходимо придать общему распределению животных расположение, соответствующее указанному принципу.
В моей «Philosophie zoologique» (ч. I, стр. 362) я уже показал, что для того, чтобы общее распределение животных соответствовало порядку, которому следовала природа, создавая все существующие породы, мы должны идти от более простого к более сложному, т. е. необходимо начинать это распределение с самых несовершенных, самых простых по организации животных, с тем чтобы закончить его наиболее совершенными, теми животными, организация которых отличается наибольшей сложностью.
Только этот порядок соответствует естественному, только он должен руководить нами, только он способствует изучению природы, наконец, только он позволяет нам познать путь природы, ее средства и те законы, которые управляют ее действиями в отношении животных.
При помощи этого расположения и предварительно подчинив повсюду распределение объектов порядку отношений, образовав деления, соответствующие классам, мы облегчим себе познание постепенного усложнения организации и нам нетрудно будет понять и причины этого поступательного движения и те причины, которые то в {279} одном, то в другом месте изменяют, а иногда и прерывают его ход. («Philosophie zoologique», ч. I, стр. 276—278).
Вероятно, покажется менее приятным и менее отвечающим нашим вкусам, если мы поставим во главе животного царства крайне несовершенных, едва доступных наблюдению животных с их частями, обладающими ничтожной плотностью, с их чрезвычайно ограниченными способностями, вместо того чтобы поместить там животных, достигших наибольшей степени сложности и совершенства организации, тех животных, которые обладают наибольшим числом способностей, наибольшим числом средств для видоизменения своих действий, словом,— животных, имеющих наиболее развитый ум. Поскольку именно эти животные чаще всего служили предметом наблюдения и лучше всего изучены, можно было бы даже считать более правильным переходить при рассмотрении животных от более известного к менее известному, а не идти в противоположном направлении.
Однако так как во всяком деле необходимо думать о поставленной цели и о тех средствах, которые могут привести к ее достижению, легко показать, как я полагаю, что установившийся по традиции порядок распределения животных больше всего удаляет нас от той цели, которой важно достигнуть, и что именно этот порядок меньше всего способен углубить наши знания; именно он создает наибольшие трудности, мешающие нам понять план природы, последовательность его выполнения и средства, которыми она пользуется в своих действиях в отношении животных.
Если бы при исследовании и изучении этих живых тел вопрос заключался только в том, чтобы отличать их друг от друга на основании их наружных признаков, и если бы рассмотрение их разнообразных способностей можно было считать простым развлечением, т. е. предметом, могущим возбудить наше любопытство в часы досуга, но не пробудить у нас желание исследовать эти способности и глубоко вникнуть в причины их возникновения; если бы, повторяю, все это было бы так, я, пожалуй, готов был бы согласиться, что порядок распределения, о котором я упоминал выше, мог бы меньше всего нас удовлетворить, несмотря на то, что он является наиболее естественным. {280} В этом случае было бы совершенно бесполезным заниматься исследованием отношений между животными и изучать их внутреннюю организацию.
В настоящее время все натуралисты признают важность изучения отношений и необходимость принимать их во внимание при всех наших группировках и распределениях созданий природы. На чем, в сущности, основана важность этих отношений? Почему мы считаем необходимым руководствоваться ими в наших распределениях? Не потому ли, что они в самом деле приводят нас к познанию того, что было создано природой? Не потому ли, что мы не властны изменить эти отношения по своему усмотрению, поскольку не мы их создали? Не потому ли, что именно они вынуждают нас сближать одни тела между собой, а другие в той или иной мере отдалять друг от друга? Не потому ли, наконец, что они косвенно позволяют нам осознать, что природа в своих созиданиях следовала особому и определенному порядку, который нам так важно знать и которым мы должны руководствоваться в своих исследованиях.
После того как отношения, установленные нами у животных, позволят точно определить место, принадлежащее каждому из этих существ, вряд ли найдется зоолог, который вздумал бы по собственному произволу разместить их иначе! В самом деле, кто решился бы поместить летучих мышей в класс птиц на том лишь основании, что и
они способны парить в воздухе, тюленей или китов — среди рыб, потому что плотная среда, в которой обитают те и другие, придает всем им некоторое сходство в форме тела; наконец, каракатиц — в один класс с полипами, потому что и у тех и у других вокруг рта располагаются своего рода руки!
Поскольку выясненные отношения определяют все наши распределения и придают тем из них, которые с этими отношениями согласуются, полную убедительность, предохраняя их от влияния изменчивости наших мнений, постольку вполне понятно, что для нас представляет подлинный интерес построить эти распределения таким образом, чтобы они возможно больше соответствовали порядку самой природы, отражали его и позволяли лучше изучить его. {281}
И если мы теперь находим, что для нас полезно изучать природу, знать присущий ей порядок и воспроизводить его в наших распределениях, то не следует ли отсюда, что и мы, подобно ей, должны начинать с более простого, переходя затем к более сложному, ибо несомненно одно из двух: или природа ничего не создала, или, если признать, что животные являются частью ее произведений, она, создавая их, не могла начать с наиболее сложных и наиболее совершенных.
Итак, предложенный мною порядок распределения животных, тот порядок, обоснование которого я дал и которым я пользуюсь в продолжение многих лет в моих лекциях в Музее (изложение его можно найти в моей «Philosophie zoologique», ч. I, стр. 362), становится обязательным и не может быть заменен никаким другим.
Помимо всего, этого порядок как бы подчеркивает общность методов зоологии и ботаники, поскольку как в той, так и в другой науке естественный метод устанавливает распределение, в котором соблюдается переход от более простого к более сложному.
Если, установив расположение, которое следует давать порядку животных, мы станем обозревать и исследовать общий ряд всех живых тел, размещенных соответственно их отношениям и согласно» приведенным выше принципам, то мы убедимся в возможности и даже полезности разделения этого общего ряда на два главных раздела, каждый из которых охватывает определенное число классов.
В самом деле, эти два раздела чрезвычайно резко отличаются один, от другого тем, что первый из них, более многочисленный и включающий самых несовершенных животных, охватывает всех тех животных, которые лишены позвоночного столба. Планы организации составляющих этот раздел больших групп настолько отличаются один от другого, что, пожалуй, можно было бы сказать, что единственно общим для всех этих животных является только то, что все они обладают животной жизнью. Животные второго раздела, к числу {282} которых относятся наиболее совершенные существа, все имеют позвоночный столб — эту основу настоящего скелета — и все они построены почти по одному и тому же плану организации. Однако этот план достигает большего или меньшего развития, совершенства и видоизменения в зависимости от места, занимаемого тем или иным классом, входящим в этот раздел.
В моем первом курсе зоологии, который я читал в Музее естественной истории, я назвал животных первого раздела беспозвоночными животными, а животных второго раздела, в отличие от них,— позвоночными животными.
Нет надобности указывать, что среди этих последних (позвоночных животных) находятся те животные, организация которых ближе всего к организации человека, и действительно отличается наибольшей сложностью, наибольшим числом специальных органов; наконец, у некоторых из них в наивысшей степени проявляется животная природа, а выдающиеся способности, которыми природа сумела наделить эти существа, достигают наибольшего совершенства. Они все обладают более или менее полным расчлененным скелетом, существенную основу которого составляет имеющийся у всех них позвоночный столб.
Путем такого деления я, с одной стороны, отделил, так сказать, и более четко отграничил позвоночных животных, общий план организации которых совпадает с планом организации человека, от огромного множества беспозвоночных животных. Последние, будучи построены далеко не по одинаковому для всех их плану организации, имеют системы органов, весьма сильно отличающие одних от других.
Деление животных на позвоночных и беспозвоночных, без сомнения, очень правильно и даже важно. Однако мне казалось, что оно не отвечает полностью запросам науки и не отражает того, что нам раскрывает сама природа в отношении многочисленных беспозвоночных животных.
В самом деле, так как две группы, образовавшиеся в результате этого деления, очень неравны, поскольку позвоночные животные {283} охватывают едва ли одну десятую часть всех известных нам животных, я пришел к выводу, что было бы полезным для изучения и даже более соответствующим плану самой природы — разделить всех беспозвоночных животных на две главные группы.
Поэтому, отметив, что у одних беспозвоночных животных — и таких огромное большинство — все органы движения прикреплены под кожей, а сами эти животные имеют симметрично построенное тело с парными частями на противолежащих сторонах тела, тогда как у других мы не находим ничего похожего, я предложил в мае 1812 г. в моем курсе зоологии различать эти два рода животных в качестве двух естественных групп беспозвоночных животных.
Благодаря этому приему лестница животных окажется естественно разделенной на три первичных раздела, более крупных, чем классы. Позвоночные животные составят первый раздел, а беспозвоночные животные — второй и третий или наоборот. Эти деления станут руководящими, удобными для изучения и облегчат запоминание включенных в них объектов.
После этого оставалось только найти для каждой из этих трех групп особое название, которое заключало бы в себе сравнение и давало основное представление о животных, к которым оно относится. Я так и поступил, приняв за основу наличие или отсутствие у этих животных наиболее выдающихся способностей, которые могут быть свойственны природе животного, а именно — способности чувствовать и выполнять умственные акты.
Внимательно подвергнув еще раз исследованию животных, которым был посвящен мой курс, я вскоре убедился, что существа, относимые к каждой из двух групп, на которые делятся беспозвоночные животные, отличаются друг от друга не только по форме и расположению частей [их тела], но также и по характеру присущих им способностей.
В самом деле, одни из них лишены способности чувствовать, поскольку они не обладают специальной системой органов, которая одна только и может производить эту способность; движения, выполняемые этими животными, свидетельствуют о том, что они движутся {284} только под действием внешних причин, благодаря присущей им раздражимости.
Все остальные, напротив, обладают нервной системой, достаточно сложной и развитой, чтобы обусловить у них способность чувствовать. Наблюдения над движениями и привычками этих животных доказывают, что они действительно обладают этой способностью и что очень часто они движутся под влиянием внутренних возбуждений, вызываемых эмоциями их внутреннего чувства.
Первые из этих животных, следовательно, лишены способности чувствовать, тогда как вторые действительно заслуживают названия животных, обладающих способностью чувствовать.
Таково четко проведенное деление беспозвоночных животных, позволяющее отличать среди,них две резко отграниченные группы. При этом животные каждой из этих групп характеризуются различиями формы и положения частей [тела].
Это еще не все: если среди беспозвоночных животных мы находим множество таких, которые обладают способностью чувствовать, то на основании наблюдений над их привычными действиями можно утверждать, что ни одно из них не обладает умственными способностями.
В самом деле, никогда не наблюдалось, чтобы какое-нибудь из этих животных было способно по собственной воле изменять свои действия и чтобы какое-нибудь из них достигало цели, к которой оно стремятся для удовлетворения той или иной из своих потребностей посредством действий, отличающихся от привычных действий, свойственных всем особям данной породы. Действительно, в пределах каждой породы все они неизменно выполняют одним и тем же способом действия, удовлетворяющие их потребности и служащие им для самосохранения или для воспроизведения. Следовательно, эти животные лишены способности сочетать представления, мыслить, выполнять умственные акты.
Иначе обстоит дело у позвоночных животных. Все они не только обладают способностью чувствовать, но, помимо того, как подтверждают наблюдения, многие из этих животных могут видоизменять по мере надобности свои действия, имеют представления, способные {285} сохраняться, умеют сочетать эти представления, видят сны, производят сравнения, выносят суждения, изобретают разного рода средства, могут испытывать радость, печаль, страх, гнев, зависть, привязанность, ненависть и т. д., одним словом, они наделены умственными способностями. Правда, эти способности в действительности наблюдаются не у всех позвоночных животных, но так как план организации у всех них почти один и тот же, хотя он и может достигать различной степени развития и совершенства, мы имеем полное основание приписывать всем позвоночным животным умственные способности, хотя и в различной степени.
Я имел, таким образом, основание разделить животных на три следующие большие группы:
Общее распределение и первичные подразделения животных
|
Животные, не обладающие способностью чувствовать [animaux apathiques] 1. Инфузории 2. Полипы 3. Лучистые 4. Черви (Эпизои) |
Они совершенно не обладают способностью чувствовать и движутся только благодаря присущей им раздражимости, в результате ее возбуждения. Признаки. Нет ни головного мозга, ни удлиненной мозговой массы, ни органов чувств; имеют разнообразную форму, изредка сочленения. |
|
Беспозвоночные животные |
||||||||||||||
|
Животные, обладающие способностью чувствовать [animaux sensibles] 5. Насекомые 6. Паукообразные 7. Ракообразные 8. Кольчецы 9. Усоногие 10. Моллюски |
Они обладают способностью чувствовать, однако ощущения дают им лишь восприятия предметов, своего рода простые представления, которые они не способны сочетать для образования из них сложных представлений. Признаки. Нет позвоночного столба, имеется головной мозг и чаще всего удлиненной формы мозговая масса; несколько отчетливо выраженных органов чувств; органы движения прикреплены под кожей; форма тела симметричная благодаря наличию парных частей. |
||||||||||||||||
|
Животные, обладающие умом [animaux intelligents] 11. Рыбы 12. Рептилии 13. Птицы 14. Млекопитающие |
Они обладают способностью чувствовать, имеют могущие сохраняться представления, выполняют умственные акты над представлениями, образуя из них новые представления; в различной степени наделены умом. Признаки. Позвоночный столб, головной и спинной мозг; отчетливо выраженные органы чувств; органы движения прикреплены к частям внутреннего скелета, имеют симметричную форму тела благодаря наличию парных частей. |
|
Позвоночные животные |
Порядок, представленный на прилагаемой таблице, воспроизводит, наилучшим, как мне кажется, образом порядок возрастающего усложнения организации животных. Это тот порядок, которым необходимо руководствоваться при их распределении и при построении общего ряда; наконец, это порядок, указывающий почти весь путь, которым шла природа, создавая различные породы этих существ.
| {287} |

к общему распределению животных
(.Введение", стр. 258),
в котором рассматривается действительный порядок
образования этих существ
В связи с последними наблюдениями, произведенными Савиньи, Лезюером и Демаре103 над животными, большую часть которых принято было относить к полипам, я считаю себя вынужденным ввести новую группу, которая, как мне кажется, не может быть частью какого-либо из классов, ранее установленных в животном царстве.
Рассмотрение этой новой группы, которую я временно помещаю после лучистых, хотя она, по-видимому, не является их продолжением и не образовалась непосредственно от них, заставило меня убедиться в необходимости различать, с одной стороны — единый и простой ряд, который мы вынуждены построить для облегчения изучения животных, а с другой — фактический, или действительный порядок образования этих существ, подчиненный причинам, нарушившим его простоту.
Если простой ряд, который должен образовать общее распределение животных, состоит из некоторого числа больших групп, расположенных соответственно постепенно возрастающей сложности различных видов организации животных, то этот ряд представит порядок самой природы, т. е. тот порядок, который природа осуществила бы, {288} если бы случайные причины не видоизменили ее действий. Если бы, следовательно, мы сделали этот ряд более совершенным и надлежащим образом подразделили его, он дал бы нам единственный естественный метод, которым следует пользоваться.
Между тем, этот простой ряд в действительности не во всем соответствует тому порядку, которому следовала природа, создавая различных животных, ибо этот порядок далеко не прост: он может быть представлен рядом разветвленным и, по-видимому, даже состоит из нескольких отдельных рядов104.
Я описал (стр. 258) общее распределение животных, представляющее собой единый и простой ряд, тот ряд, которым мы вынуждены пользоваться. Я не намерен ничего изменить в нем, разве только увеличить число классов, но я добавлю к нему после лучисты к новую группу, о которой я уже говорил и которая включает животных, названных мной асцидиями.
Здесь я ограничусь тем, что покажу действительный порядок образования животных, каким он мне представляется и который я называю порядком образования. Но прежде всего я должен показать, что этот порядок образования не является плодом воображения, но что он ясно подтверждается отношениями, следовательно, — самой природой.
До последнего времени, как мне кажется, натуралисты видели в отношениях между телами природы только средства для группирования их на основе близости отношений и для образования из этих тел различных частей ряда; последние они затем располагали соответственно степени близости отношений, обнаруженных между этими частями ряда или этими отдельными большими группами.
В результате их трудов в этой области был установлен общий ряд, состоящий из всех этих частей или отдельных рядов, расположенных более или менее правильно. И вот, устанавливая это распределение, натуралисты пришли к выводу о необходимости помещать на противоположных концах ряда существа, самые несходные между собой, иначе говоря,— самые далекие друг от друга с точки зрения сложности и совершенства их организации. {289}
Несмотря на то, что следствие, вытекающее из этой необходимости, было просто и легко доступно пониманию, оно, по-видимому, не было замечено, ибо натуралисты не усматривали в этом распределении ничего, кроме порядка, основанного на отношениях, а между тем оно, помимо того, раскрывало с наибольшей очевидностью порядок образования этих существ.
Оставалось сделать еще шаг, и это был наиболее важный шаг, который мог бы лучше всего осветить нам действия природы. Дело шло о том, чтобы признать, что части общего ряда, образуемые телами, надлежащим образом сближенными между собой соответственно их отношениям, сами являются не чем иным, как частями порядка образования этих тел105.
Этот шаг наконец сделан, и в настоящее время порядок последовательного образования различных животных не может быть оспариваем. Совершенно необходимо его признать.
Однако порядок этот вовсе не прост, и он и не мог быть простым. Случайные причины изменяли его то здесь, то там. В самом деле, наличие боковых ветвей, которые пришлось признать в нем, и самый факт его распадения по меньшей мере на два отдельных ряда свидетельствуют о том, что этот порядок в очень сильной степени подвергся воздействию со стороны изменяющих причин, приведших его в то состояние, в котором мы его наблюдаем.
Я могу действительно показать, что порядок образования животных первоначально был представлен единственным рядом с несколькими ответвлениями и что в дальнейшем, когда уже было создано некоторое число животных, особые обстоятельства вызвали образование другого явно выраженного ряда, также имеющего боковые ответвления. Таким образом, порядок образования, о котором здесь идет речь, оказался представленным двумя отдельными рядами, причем каждый из них имел по несколько простых ответвлений. Быть может, существуют еще другие ряды, однако я думаю, что тех двух рядов, которые я намерен указать, достаточно для объяснения всего того, что нам в настоящее время известно о животных106. {290}
Для того чтобы объяснить, чем вызван этот своеобразный порядок вещей, укажу на доказанную, как мне кажется, истину. Когда природа выполняет свои действия при различных обстоятельствах или над веществами, по существу различными, то и результаты ее действий, бесспорно, должны быть различными.
Я указывал уже, что когда природа создавала живые тела, в ее распоряжении были вещества двоякого рода, поэтому из одних она сумела создать только растения, между тем как из других — только животных (см. «Введение», стр. 108).
И вот мы видим, что природа, создавая животное царство, должна была в силу необходимости начать с ряда, представленного инфузориями, за которым следуют все полипы; что этот ряд, образовав боковую ветвь — лучистых, продолжается, приводя к асцидиям, далее к безголовым моллюскам, которых можно считать самостоятельным классом; после них идут моллюски, имеющие голову, если только головоногие моллюски не заслуживают пока, чтобы их выделили в особый класс.
Можно думать, что спустя довольно долгое время, уже после того, как были созданы инфузории и полипы, природа приступила к образованию нового ряда (ряда червей), пользуясь для этого особыми материалами, которые оказались внутри уже существующих животных, и с помощью этих материалов она прибегла к самопроизвольным зарождениям, которым обязаны своим происхождением черви, живущие во внутренностях других животных [vers intestins]; некоторые из них, выйдя наружу, могли привести к образованию червей, живущих вне тела других животных [vers exterieurs].
В самом деле, огромное несходство в организации, наблюдаемое у животных, принадлежащих к классу червей, свидетельствует, как я говорил («Extrait», стр. 39), о том, что самые несовершенные из этих животных произошли путем самопроизвольных зарождений и что черви на самом деле составляют особый ряд, более позднего происхождения, нежели тот, который был начат инфузориями107. {291}
Я уже установил и описал особую ветвь, или самостоятельный ряд, который, по моему мнению, образуют черви, когда Латрейль поделился со мной своими соображениями по этому поводу; он сообщил мне о своей уверенности в том, что именно от этой ветви произошли эпизои (epizoaires), насекомые и т. д.
Руководствуясь мнением этого ученого, которое и я разделяю, я считаю, что порядок образования животных представлен двумя отдельными рядами.
Эти два ряда очень сильно отличаются один от другого, и там, где у животных, входящих в каждый из этих рядов, нервная система уже заложена и более или менее развита, можно видеть, что она имеет совершенно различный характер в каждом из этих рядов.
В самом деле, в ряде, который начинается инфузориями и заканчивается моллюсками, нервная система никогда не содержит мозговых стволов, снабженных по всей своей длине ганглиями, или узлами, между тем как во втором ряде, начинающемся червями, всюду, где нервная система способна обусловить чувствование, имеются мозговые тяжи, снабженные на всем своем протяжении узлами, или ганглиями.
Итак, я выдвигаю на обсуждение зоологов предполагаемый порядок образования животных в том виде, в каком он представлен в прилагаемой таблице.
Я убежден, что нам никогда не удастся представить, каким бы способом мы ни пытались это сделать, настоящие естественные переходы между установленными большими группами в том простом ряде, который должен представить общее распределение животных, и, следовательно, никогда не удастся сохранить во всех частях этого ряда отношения, являющиеся результатом порядка образования составляющих его существ. Таким образом, наш простой ряд всегда будет воспроизводить прерывистые и неравные части этого порядка; между этими частями мы будем помещать другие, оказавшиеся вне ряда [части его], выбирая те из них, которые по степени сложности организации входящих в них животных обнаруживают наименьшее несходство с упомянутыми частями общего ряда.
| {292} |
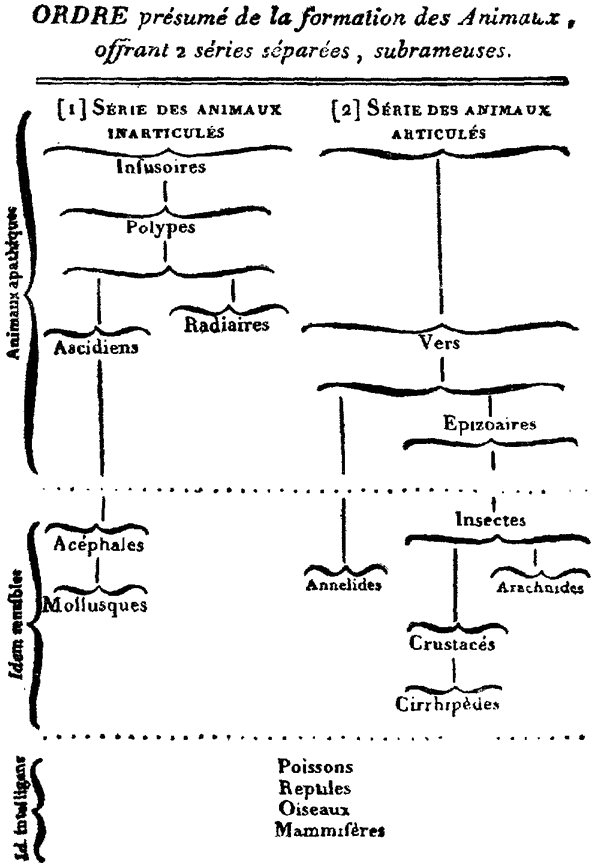 |
Таблица из первого тома «Естественной истории беспозвоночных животных», изображаюшая «порядок образования» [генеалогические отношения) животных |
| {293} |
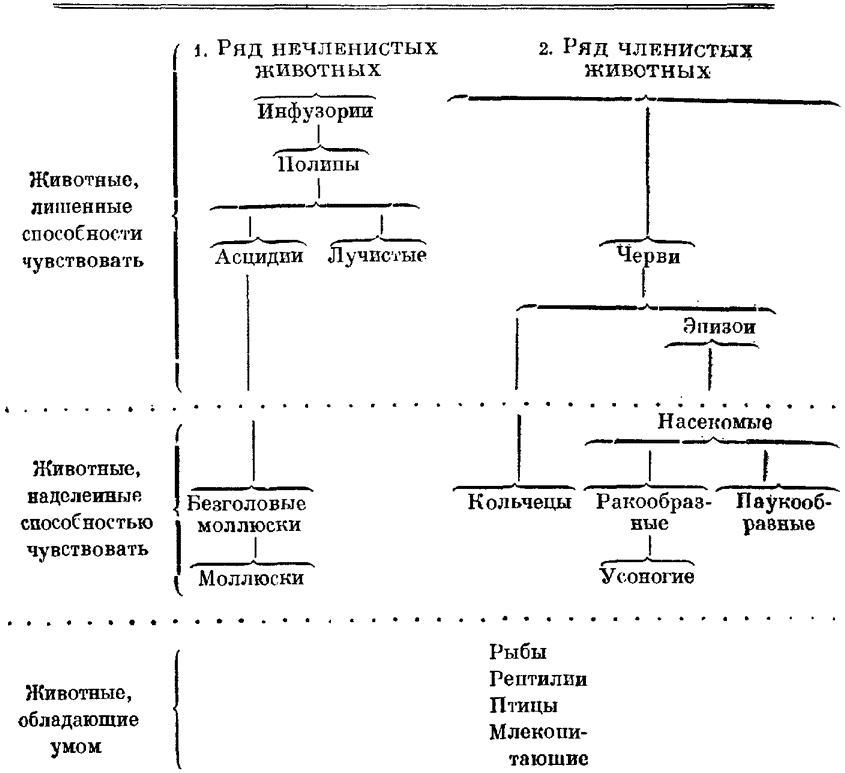 |
| {294} |
Понятно, что эти включенные новые части могут находиться только вне ряда и должны образовать отклонения в простом ряде, если они принадлежат к боковой ветви или к отдельному ряду.
В самом деле, было бы трудно связать настоящими постепенными переходами ракообразных с кольчецами, а между тем в простом ряде общего распределения следовало бы кольчецов поместить после ракообразных. В упомянутом ряде кольчецы, хотя и помещены правильно, находятся вне ряда, и можно предположить, что они происходят от червей.
Насекомые, идущие вслед за эпизоями, от которых они, по-видимому, произошли, не связаны постепенными переходами без разрывов ни с паукообразными, даже через шестиногих и имеющих сяжки паукообразных [arachnides antenniferes], ни с ракообразными. В данном случае имеются две ветви, начало которых теряется в своего рода hiatus'e.
С одной стороны, подуры, чешуйницы и, далее, многоножки, по-видимому, ведут к мокрицам, бокоплавам-привидениям и т. д., и от них, надо полагать, произошли ракообразные, в ряде которых низшие раки образуют небольшую боковую ветвь.
С другой стороны, шестиногие паразиты, например блохи и рицинусы, по-видимому, ведут к пикногонам и к клещам, далее — к сенокосцам, скорпионам, наконец, к паукообразным, имеющим паутинный аппарат [arachnides fileuses]. Этот ряд обрывается и, по нашему мнению, представляет собой боковую ветвь, исходная точка которой помещается по соседству с ракообразными, не образуя, однако, с последними, ни даже с насекомыми, ни одной настоящей точки соприкосновения109.
Наконец, ракообразные тесно связаны с усоногими, однако между теми и другими нет подлинных переходов. Именно здесь заканчивается ряд членистых животных, который становится постоянным только после установления нервной системы, достаточно развитой для того, чтобы представить мозговые тяжи, снабженные по всей своей длине ганглиями.
Что касается другого ряда, то он представляется мне весьма {295} естественным, менее разветвленным и не включающим ни одного животного, обладающего членистыми частями. Я полагаю, что этот ряд следует разделить на большее число классов, ибо не только необходимо выделить в особый класс, с одной стороны, асцидий, с другой — безголовых моллюсков, но мне кажется даже, что следует отделить головоногих от моллюсков вследствие особенностей их формы и организации. Таким образом, головоногими закончился бы ряд нечленистых животных, если оставить в стороне киленогих, которые еще слишком мало изучены.
Вот все, что я могу сказать относительно порядка образования беспозвоночных животных.
Естественно возникает вопрос: как связать настоящим переходом этих животных с позвоночными животными? Конечно, эти переходные формы еще неизвестны. Я полагаю, что киленогие, если нам удастся изучить других животных этого класса, когда-нибудь дадут возможность установить эти переходные формы, которые, как мне кажется, несомненно существуют110.
Эти проблемы, без сомнения, еще долго останутся нерешенными, но мы имеем основание думать, что порядок создания природой различных животных не может быть выражен единым и простым рядом.
Как бы велики ни были эти трудности, обусловленные тем, что нам недостает еще очень многих наблюдений, и каковы бы ни были неизбежные отклонения в нашем простом ряде, все те выводы, к которым можно прийти на основании указанных фактов, не затрагивают принципа последовательного образования различных животных.
Этот принцип состоит в том, что после самопроизвольных зарождений, которыми был начат каждый самостоятельный ряд, все животные в дальнейшем произошли одни от других. И вот, несмотря на то, что законы, управлявшие образованием животных, всюду и неизменно были одними и теми же, различие обстоятельств, в которых действовала природа, когда она их создавала, неизбежно должно было повлечь за собой отклонения от простой лестницы животных, явившейся результатом всех ее деяний. {296}
Вследствие этого мы должны работать над составлением и усовершенствованием двух различных таблиц, а именно:
Одна из них должна представить простой ряд, которым следует пользоваться в работах и в лекциях для описания, разграничения и изучения наблюдаемых нами животных. Мы будем строить этот ряд на основе постепенного усложнения различных животных организаций, рассматривая каждую из них в совокупности ее частей и пользуясь предложенными мною принципами.
Вторая таблица должна воспроизвести те отдельные ряды с простыми ответвлениями, которые природа, по-видимому, образовала, создавая различных, ныне существующих животных111.
Эта вторая приведенная здесь таблица, если исправить ошибки, которые могли вкрасться в нее, без сомнения окажется полезной для обогащения наших знаний -и внесет ясность в целый ряд вопросов, постичь которые мы можем только с ее помощью. По всей вероятности, эта таблица будет также способствовать развитию наших знаний о природе.
Если изучение природы может пробудить некоторый интерес, я позволю себе думать, что все изложенное мною здесь не лишено значения.
Конец Дополнения
| {297} |
СТАТЬИ
ИЗ «НОВОГО СЛОВАРЯ
ЕСТЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИИ»
ДЕТЕРВИЛЛЯ

| {298} |
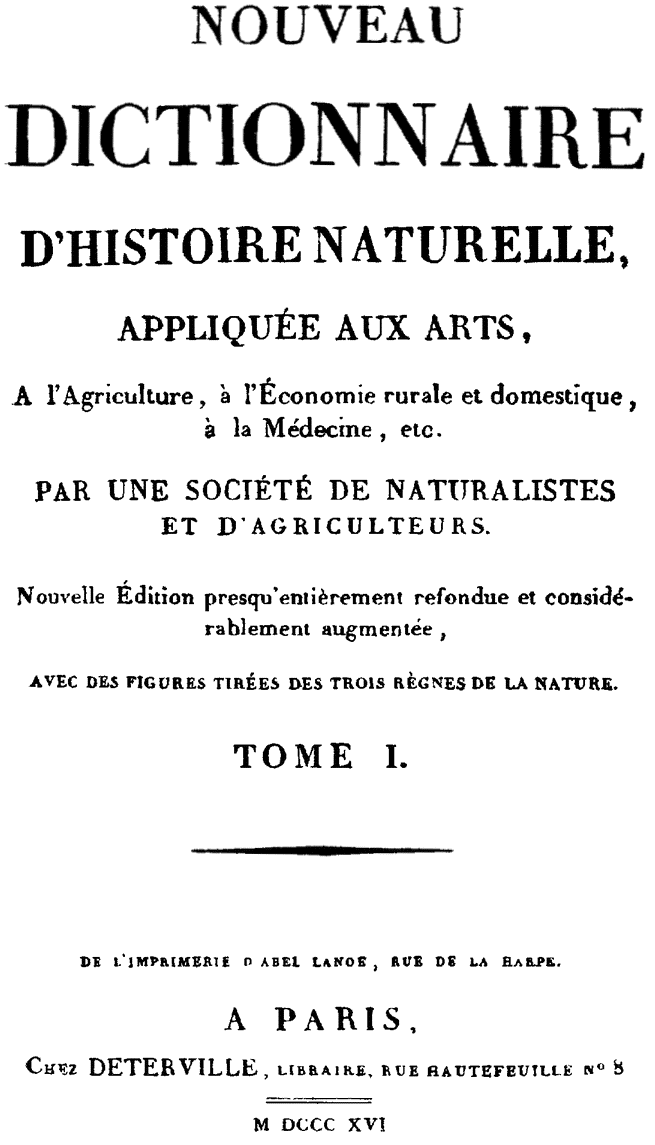 |
Титульный лист первого тома второго издания |
| {301} |

Это название принято давать всякой совокупности существующих сходных индивидуумов одной и той же природы, хотя мы можем наблюдать только отдельных из этих индивидуумов, по никогда не имеем возможности наблюдать одновременно всю совокупность их.
Следует различать вид у тел неорганических и вид у тел живых, потому что в обоих этих случаях как само определение вида, так и происхождение особей совершенно различны.
Вид у тел неорганических состоит из совокупности сходных во всем индивидуумов, которые произошли не от других подобных им индивидуумов и, следовательно, не образуют породы. А так как у неживых тел индивидуальность вида выражается исключительно в составной молекуле, характерной для данного вида, но отнюдь не в тех массах, которые могут образоваться в результате скопления этих молекул, то индивидуумы, составляющие тот или иной вид неживых тел, резко отличаются по своей природе и по своему происхождению от индивидуумов, обладающих жизнью и входящих в состав какого-либо вида организованных тел2.
Действительно, у живых тел вид состоит из совокупности во всем сходных индивидуумов, происшедших, за исключением тех, которые возникли путем самопроизвольного зарождения, от других подобных им индивидуумов и, следовательно, образующих породу. А так как у живых тел индивидуальность вида выражается не в каждой из их составных молекул, но в соединении составных молекул различной {302} природы, образующих особое тело, обязательно разнородное по составу, то индивидуумы подобного вида не имеют ничего общего с индивидуумами, составляющими вид у неорганических тел. О различии между телами неорганическими и телами живыми смотри «Histoire naturelle des animaux sans vertebres» (т. I, стр. 47 и след.; 60 и след.).
Теперь возникает вопрос, решение которого имеет чрезвычайно важное значение. В самом деле, правильное решение его установит ряд истин, которые представят в надлежащем свете все тела, доступные нашему наблюдению, истин, которые покажут нам, что эти тела представляют собой в действительности, что привело их к тому состоянию, в каком мы их видим теперь, чем они могут сделаться в дальнейшем, словом — раскроют нам те причины, под влиянием которых эти тела могут претерпевать те или иные изменения и даже разрушаться. Между тем всякое мнение, не имеющее прочного обоснования, выдвинутое по каким-либо соображениям взамен такого правильного решения, неизбежно повлечет за собой ряд ошибок в отношении всего, что касается рассматриваемых объектов и не даст нам возможности приобрести те полезные знания, которые мы могли бы получить о них.
Итак, дело идет о том, чтобы знать, что представляют собой на самом деле виды, всегда ли они были такими же, как теперь, такими же многочисленными и разнообразными, какими мы их наблюдаем в настоящее время, могут ли возникать новые виды или же все существующие виды останутся всегда такими, какие они есть, не увеличиваясь и не уменьшаясь в числе.
Нелегко, конечно, как я уже указал на это в «Philosophie zoologique» (ч. I, стр. 226), точно определить, что мы должны понимать под наименованием вида у живых тел, и нелегко исследовать, действительно ли виды обладают абсолютным постоянством, столь же древни, как природа, и изначала были такими же, какими мы наблюдаем их в настоящее время, или же виды, под влиянием изменения воздействовавших на них обстоятельств, изменили с течением времени, хотя и крайне медленно, свои признаки и форму и вследствие этого увеличились в числе и стали более разнообразными. {303}
Выяснение этого вопроса, как это было указано мною, имеет существенное значение не только для наших зоологических и ботанических знаний, но, кроме того, оно необходимо для понимания истории Земли.
Чтобы получить ясное представление об этом предмете, следует установить, отвечает ли и может ли отвечать почти всеми разделяемое мнение относительно вида и его происхождения тому, что нам дает наблюдение. А так как совершенно очевидно, что положительные знания могут быть получены только путем наблюдения, то отсюда следует, что всякое мнение, полученное из какого-либо другого источника и не подтвержденное наблюдением, не может иметь прочного обоснования. Итак, теперь остается лишь выяснить, согласуется ли это наблюдение с мнением, которое я намерен привести, или же явно ему противоречит.
Следующие соображения могут внести ясность в этот вопрос, и, приведя их, мы сопоставим их с тем, чему нас учит наблюдение.
Разумеется, все существует лишь по воле всемогущего творца вселенной и природы и, следовательно, все тела, каковы бы они ни были, обязаны ему своим бытием.
Исходя из этой истины, до познания которой в этом мире мог возвыситься только человек, пришли к выводу, что могущественный творец всего существующего изначала сотворил все виды и наделил каждый из них всеми присущими ему свойствами и способностями, так же как и способами их проявления. Это и послужило основанием для общепризнанного взгляда, что виды неизменяемы и что они почти столь же древни, как и сама природа.
Это, без сомнения, так и могло бы быть, ибо воля верховного творца безгранична в своем могуществе. Но в отношении предметов чисто физической природы тот, кто хотел бы, чтобы они были такими, какие они есть, мог поступить и иным образом, нежели мы допустили. Он мог бы сотворить материю, из которой в основном состоят все тела, каковы бы они ни были, он мог бы сотворить порядок вещей, всегда действенный и, следовательно, обладающий тем могуществом, которому была бы подчинена сотворенная им материя; наконец, он {304} мог бы сделать так, что порядок вещей, о котором только что шла речь, воздействуя непрерывно на материю и постоянно видоизменяя ее, привел бы к постепенному возникновению всех наблюдаемых нами физических тел. Если верховный творец так и поступил, то все физические тела именно ему обязаны своим существованием, несмотря на то, что в действительности они были созданы порядком вещей, сотворенным им же самим.
Сотворенный и всегда действенный порядок вещей, о котором идет речь, состоит из движения, источник которого неисчерпаем, из законов разных порядков, управляющих всякого рода движением всех видов, из времени и пространства, не имеющих пределов, но все же могущих быть подразделенными на измеримые отрезки, поскольку дело касается законченных действий или их результатов. Все это и есть то, что мы называем природой. Мы смутно сознаем существование этого порядка вещей, потому что дали ему особое название, однако, далекие от глубокого познания природы, мы связывали с этим названием лишь туманные и обычно ложные представления. (См. «Hi-stoire naiurelle des animaux sans vertebres» (т. I, ч. VI).
Природа, как я сказал, является могущественным, хотя и во всем подчиненным и ограниченным началом,— могущественным началом, создавшим безграничное множество вещей, большая часть которых представляется нам удивительными и даже непостижимыми потому, что нам неведомы ни путь, которому следовала природа, ни применяемые ею средства. Это могущественное начало вовсе не является разумным началом, оно не имеет заранее поставленной цели, ибо оно во всем ограничено и в каждом частном случае неизменно действует одинаковым образом, т. е. при сходных обстоятельствах делает одно и то же.
Теперь надлежит выяснить, доказывает ли наблюдение, что такой порядок вещей существует; доказывает ли оно везде, что [это] могущественное, однако зависимое и тем самым весьма отличное от верховного могущества начало [puissance dependante] на самом деле воздействует на все физические тела, на материю — единственную подвластную ему область, что оно создает различные тела, непрерывно {305} видоизменяет, превращает, разрушает, уничтожает и беспрерывно возобновляет их. Необходимо установить, сохраняет и раскрывает ли это могущественное, однако всегда подчиненное незыблемым законам во всех своих деяниях начало во всем, что оно создает, ту гармонию, которая указывала бы на всемогущую длань, его создавшую. Наконец, необходимо установить, подтверждает ли наблюдение то обстоятельство, что это могущественное начало создало все то, что мы видим, и верно ли, что физические тела обязаны ему всем тем, чем они являются, а также тем, что мы в них видим3.
Я неоднократно указывал в своих сочинениях и не боюсь ошибиться, когда утверждаю, что положительные знания приобретаются нами только путем наблюдения; наблюдать мы можем только природу, тела, их свойства, раскрываемые ими явления и, следовательно, только результаты деяний природы.
Если все обстоит таким образом, то все наблюдаемые нами тела, как неорганические, так и живые, являются телами физическими; все свойства, отмечаемые нами у них, также являются свойствами физическими; все способности, которые мы находим у некоторых из них, по существу, являются физическими, одним словом, все эти тела представляют собой не что иное, как создания природы. Мы настолько осознали это, что так и назвали их.
Природа как таковая, как бы велико ни было ее могущество, действует и должна действовать только путем актов физического порядка, она создает все только при помощи времени, только постепенно и никогда не делает ничего внезапно. Каждое ее действие управляется [определенными] законами и если то или иное обстоятельство изменяет направление ее деятельности, то каждое новое действие, в свою очередь, подчинено особому закону. Это и наблюдается постоянно.
Если все сказанное воспроизводит правильную картину результатов наших наблюдений, касающихся природы, то может быть поставлен вопрос, имеем ли мы основание допустить, что природа, основой которой является действенность, природа, которая все формирует и создает непрерывно, хотя и в определенной {306} последовательности, и которая изменяет свои действия всякий раз, когда к этому ее побуждают обстоятельства, могла ли природа, повторяю, сделать виды неизменными.
Мы увидим, что отрицательный ответ, подсказываемый разумом, ясно подтверждается наблюдением фактов.
Первый факт. Натуралисты, занимающиеся определением видов, признают существование разновидностей, и вынуждены это делать. Если бы виды были неизменными и такими сохранялись, несмотря на изменение обстоятельств, с которыми каждый из них может встретиться, то какой причине следовало бы приписать наличие разновидностей? Мне скажут, что изменившиеся и ставшие привычными обстоятельства могут действительно вызвать незначительные изменения видов, не обусловливая, однако, существенных отклонений от типичной для данного вида формы, которая всегда остается неизменной. На это я отвечу: 1) подобное объяснение не опирается на доказательства, которые на самом деле подтверждали бы, что типичная для данного вида форма никогда не изменялась, а приводимые примеры якобы неизменных видов не могут служить такого рода доказательствами, поскольку обстоятельства, при которых эти виды обитают, также остаются неизменными; 2)если известно много разновидностей, каждая из которых, по-видимому, относится к какому-либо поддающемуся определению виду, то известно также большое количество разновидностей, являющихся, по всей вероятности, промежуточными формами между двумя соседними видами, так что определение принадлежности их к тому или иному из этих видов будет произвольным. Нередко бывает, что формы, которые одни натуралисты принимали за разновидности, в дальнейшем были описаны другими как виды; 3) наконец, мы знаем, что настоящие разновидности, происхождение которых точно выяснено, с течением времени становятся постоянными, даже при воспроизведении их. Поэтому очевидно, что если бы виды были неизменными, то никогда не встречались бы индивидуумы, промежуточные по своим признакам и формам между двумя различными видами, и не было бы того, что принято называть разновидностями. {307}
У растений, где разновидности часто возникают внезапно, их удается сохранить обыкновенно только путем особых приемов, например, прививками, отводками и т. д. Однако эти разновидности возвращаются к исходному виду, если их размножать при помощи семян. Сказанное применимо не ко всем без исключения, но к большей части разновидностей, полученных как внезапно, так и в результате длительной культуры. Приведенное наблюдение позволяет надеяться, что вид можно было бы определить на основании его постоянства в условиях естественного воспроизведения.
Но в животном царстве, где всякое изменение получается исключительно медленно и где все приобретенные особенности сохраняются у потомства, постоянство признаков при размножении не может представлять никакой ценности как средство определения вида.
Таким образом, существование разновидностей всегда будет служить явным опровержением неизменяемости видов4.
Второй факт. Когда наши естественноисторические коллекции были еще незначительны, содержали небольшое количество объектов, то, как известно опытным натуралистам, определять виды было очень просто; еще более простым было определение родов, и все деления, которые необходимо было установить среди рассматриваемых объектов, были тогда ясно различимыми, четко обособленными, и их легко было охарактеризовать признаками, не вызывающими никаких сомнений. Знакомство с этими коллекциями позволяло предположить, что природа разделила свои создания на резко разграниченные и неизменные группы и что входящие в состав этих групп тела не связаны между собой по происхождению, поскольку эти группы очерчены столь четко выраженными границами.
Но, но мере увеличения наших коллекций, по мере включения в них огромного количества новых объектов, собранных натуралистами-наблюдателями и особенно путешественниками,— объектов, относящихся к различным родам, семействам, порядкам и классам, определение видов становилось все более и более сложным; почти все пробелы, как мы увидели, оказались заполненными, и наши разграничительные линии стерлись. Теперь в наиболее обширных разделах {308} наших коллекций мы вынуждены то прибегать к произвольным определениям, которые заставляют нас отыскивать мельчайшие различия между разновидностями, чтобы использовать эти различия в качестве признаков того, что мы называем видом, то признавать разновидностью того или иного вида индивидуумов, которых другие натуралисты рассматривают как особый вид.
Таким образом, чем богаче становятся наши коллекции, тем больше появляется у нас доказательств того, что во всем, особенно среди живых созданий природы, существуют постепенные переходы, что резкие различия, которые легко было обнаружить между первыми собранными нами объектами, мало-помалу исчезают, по мере того как все пробелы заполняются вновь открытыми и размещенными соответственно их отношениям объектами, и что чаще всего природа не оставляет для разграничения видов ничего, кроме самых незначительных и, так сказать, несущественных особенностей.
«Как много среди животных и растений родов, настолько обширных по числу относящихся к ним видов, что изучение и определение этих видов стало почти невыполнимой задачей! Будучи расположены в ряды и сгруппированы соответственно их естественным отношениям, виды этих родов так мало отличаются от соседних, что они как бы переходят один в другой, как бы сливаются, не оставляя нам почти никаких средств для того, чтобы выразить словами имеющиеся между ними незначительные различия.
Только тот, кто долго и усиленно занимался определением видов и изучал обширные коллекции, знает, как незаметно виды, установленные среди живых тел, переходят друг в друга, и только тот мог убедиться, что всюду, где виды представляются нам обособленными, это происходит потому, что у нас недостает ближайших к ним соседних, но пока еще неизвестных видов или потому, что эти виды находятся в конце слепо заканчивающихся ветвей» («Philosophie zoologique», ч. I, стр. 229).
Третий факт. Если рассматривать какой-нибудь вид из числа тех, которые встречаются в стране, где мы живем, выбрав, в частности, один из хорошо известных и широко распространенных видов, {309} и если затем вести наблюдения, совершая путешествие, уделяя при этом внимание отысканию того же вида, то в большинстве случаев, действительно, его удается найти; но, по мере удаления от начального пункта путешествия, можно будет заметить у индивидуумов этого вида разного рода изменения в росте, пропорциях некоторых частей, в окраске и т. д. Эти особенности, вначале почти неощутимые, будут увеличиваться с возрастанием расстояния и различия условий места обитания и в конце окажутся настолько значительными, что, если сравнивать индивидуумов, известных из местности, откуда мы начали путешествие, с теми, которые удалось наблюдать в конце его, мы смело отнесем их к разным видам. При этом нам удастся обнаружить не только простой ряд разновидностей, ведущих через постепенные переходы к исходному виду, но среди найденных разновидностей часто будут встречаться и такие, которые по своим признакам принадлежат к боковым ветвям, ведущим к другим видам.
Этот факт трудно обнаружить, потому что совокупность условий, требуемых для такого рода наблюдений, встречается исключительно редко; однако все то, что уже удалось установить в этом отношении, доказывает его полную обоснованность. Перон5 — натуралист, прославившийся своими путешествиями, наблюдениями и открытиями, рассказал мне, что он был поражен результатом сравнения планомерно собранных им экземпляров.
Мы, без сомнения, не знаем всех насекомых, промежуточных между bombix neustria6 и тутовым шелкопрядом [bombix mori], но мы не можем не признать, что при посредстве этих промежуточных форм один из видов, по всей вероятности, произошел от другого. Оливье нашел в Египте улитку, которую он с полным основанием относит к виду виноградной улитки [helix pomatia], однако сильно изменившемуся. Менар нашел ту же улитку, лишь незначительно отличавшуюся от первой, в Италии; улитка, которая живет в южных провинциях Франции, ближе по своим признакам к улитке, обитающей в северной Франции, по она несколько ярче окрашена. Следовало бы, как это принято в таких случаях, дать особое название упомянутой улитке, открытой Оливье. {310}
Если мы обратимся к изучению хорошо известной у нас бабочки-капустницы [papilio brassicae L.], то нам удастся обнаружить различные ее разновидности, и мы сумеем установить, что в других странах эти разновидности привели с течением времени к образованию пород, которые мы считаем видами. Натуралисты, обладающие большим опытом, могли бы предпринять подобного рода изыскания, если бы, как я уже указал, не было так трудно встретить сочетание обстоятельств, необходимых для наблюдений этого рода. Тогда, последовательно изучая существующие разновидности, натуралисты раскрыли бы нам происхождение почти всех установленных видов. Каждый из этих видов, без сомнения, неизменен и сохраняет свои признаки при размножении до тех пор, пока не изменятся привычные для него условия обитания. Он и не изменится никогда до тех пор, пока не изменятся обстоятельства. Этот факт хорошо известен и обусловливается теми принципами, которые были установлены мною. Но отсюда нельзя сделать никаких выводов в пользу мнимого постоянства видов.
Теперь, учитывая все то, что нам раскрывают приведенные выше троякого рода факты, возвратимся к рассмотрению следующего вопроса: обладает ли сотворенный верховным существом порядок вещей, наблюдаемый нами в настоящее время, порядок, действиями которого управляют многие уже известные нам законы, иными словами — порядок, который мы называем природой, обладает ли он каким-либо могуществом и способен ли он что-либо сделать и создать?
На этот вопрос мы можем, конечно, ответить утвердительно, потому что мы были и продолжаем и теперь быть свидетелями могущества природы и результатов ее деяний, проявляющихся во всех исследованных и изученных нами явлениях из области физики, химии, физиологии. Уже давно и не без основания все известные нам тела принято называть природными телами и говорить, что минералы, растения и животные являются созданиями природы.
Если эти наименования справедливы, если природа обладала прежде и обладает теперь способностью создавать все то, что мы наблюдаем, если именно она производит всякого рода изменения, {311} превращения, все процессы разложения, соединения и восстановления, то именно она и создала всевозможные тела и именно она обусловила существование того, что мы называем видами ее созданий.
Природе нужно время, чтобы выполнить все; мгновенно она ничего создать не может, ибо ее действия управляются законами, а эти законы всецело определяются теми обстоятельствами, при которых она действует7. Отсюда очевидно, что природа могла создать виды только постепенно, т. е. не все сразу; что она изменяла эти виды по мере того, как они распространялись по всему земному шару, и что она поступала при этом в полном соответствии с обстоятельствами, которые существовали во время выполнения ею всех ее деяний*.
Итак, виды являются тем, что природа и обстоятельства смогли сделать из них; они обладают постоянством лишь постольку, поскольку не меняются обстоятельства, в которых они находятся. И если бы обстоятельства оставались всегда и везде неизменными, то виды и даже разновидности были бы также неизменными.
Исходя из того, что было изложено в этой статье, и особенно из тех соображений, которые я привел в моей «Philosophie zoologique» (ч. I, стр. 226) по вопросу о том, что, собственно, представляют виды у живых тел,— можно и должно сделать следующие выводы:
1. Виды отнюдь не неизменны и обладают не абсолютным, но лишь относительным постоянством.
2. Подобно всем остальным физическим телам, индивидуумы {312} любого вида составляют часть царства природы; они всегда подвластны ей, и все то, что природа способна выполнять в отношении их, всегда подчинено влиянию обстоятельств, которые повсюду неизбежно видоизменяют результаты ее действий.
3. До тех пор пока вид будет существовать в одних и тех же условиях, он всегда сохранится неизменным.
4. Начиная с того времени, как все или только некоторые индивидуумы какого-нибудь вида вынуждены будут жр1ть и размножаться в иных условиях, нежели те, в которых они до этого находились, эти индивидуумы дадут начало разновидностям, т. е. будут характеризоваться особенностями, в большей или меньшей мере отличающими их от индивидуумов того вида, от которого они произошли. Эти разновидности, обладающие, как и сам вид, способностью сохраняться неизменными до тех пор, пока составляющие их индивидуумы остаются в прежних условиях существования, в свою очередь, могут образовать новые разновидности, если причина, аналогичная той, которая их создала, будет действовать на всех или хотя бы на некоторых относящихся к ним индивидуумов.
5. Наконец, следует различать разновидности, возникшие под влиянием случайных причин во время развития зародыша,— либо в семени, либо в яйце или матке, от тех, которые образовались в течение жизни индивидуума; разновидности первого рода менее устойчивы, чем разновидности второго рода8.
Если приведенные здесь положения соответствуют всему тому, что может быть почерпнуто из наблюдений, иными словами — если это истины, опирающиеся на факты, то они всегда сохранят свою силу, независимо от того, будут ли они признаны или нет. К этим истинам всегда будут возвращаться во всех случаях, когда предметом исследования будет то реальное, что в них заключается.
Виды живых тел — вот непосредственный и наиболее важный объект изучения. Роды, семейства, отряды и даже классы — не что иное, как полезные средства, облегчающие познание живых тел9.
| {313} |

Способностью называют особое проявление силы [pouvoir], которым обладает [любой] рассматриваемый объект сам по себе и которое, следовательно, ему свойственно. Таким образом, всякая способность есть проявление силы, позволяющее что-то выполнять или производить; это проявление силы свойственно телу, или органу, или системе органов, в которых оно наблюдается, и существует у этих объектов до тех пор, пока не будет уничтожен порядок вещей, его обусловливающий.
Из этого определения следует, что только живые тела имеют способности, и что ни одно неорганическое тело, ни один вид материи не может обладать какими бы то ни было способностями. Таким образом, всякое неживое тело, всякая материя, какова бы она ни была, имеют лишь качества, лишь свойства и никогда не обладают возможностью выполнять что-либо, разве только случайно.
Если это определение обосновано, то оно, несомненно, имеет большое значение, потому что, если его будут принимать во внимание, оно одно сможет направить различные отрасли современных физических теорий на правильный путь, которому необходимо следовать, чтобы содействовать прогрессу наших знаний в области фактов, рассматриваемых в этих отраслях науки. Я еще вернусь к этой теме, но после того, как вкратце изложу все, что относится к способностям живых тел, и покажу, что эти способности представляют собой чист» органические явления. {314}
Первый вопрос, который важно рассмотреть здесь, это вопрос о необходимости различать способности, присущие всем живым телам [lacultes generales], и способности, которые присущи лишь некоторым из этих тел [lacultes particulieres] (См. «Philosophie zoologique», ч. II., стр. 553 и след.).
О способностях, присущих всем живым телам. Не подлежит никакому сомнению и достаточно известно, что живые тела обладают общими для всех них способностями и что в этом отношении нот никаких исключений. С другой стороны, известно, что существуют различные живые тела, одаренные определенными способностями, присущими только им одним, и что, действительно, бесцельно было бы искать эти способности у других живых тел. Итак, у живых тел имеются способности, которые в самом деле являются общими для всех них, и другие способности, присущие только некоторым из них. Рассмотрим теперь способности того и другого рода, определим, чем отличаются одни от других и каковы причины этого различия.
Способности, присущие всем живым телам, несомненно, присущи самой жизни, ибо всякое тело с того момента, как в нем возникает жизнь, уже ими обладает. Я уже привел достаточно убедительные доказательства того, что жизнь [как таковая] не является какой-либо особой сущностью, но что это — порядок вещей, производящий в теле, которое им обладает, непрерывный ряд движений, вызываемых всегда активной причиной.
Название организации было дано порядку вещей, наблюдаемому у всякого живого тела, однако при этом не обратили внимания на то, что сама организация является лишь одним из условий, необходимых для существования жизни, и что следует выяснить причину, способную возбуждать и поддерживать движения в этом живом теле. Организация, какова бы она ни была,— только пассивное начало; она определяет, до тех пор пока сохраняет свою целостность, только половину условий; причина же, вносящая в нее жизнь и возбуждающая в ней непрерывный ряд движений, всецело лежит вне ее.
Таким образом, сама жизнь представляет органическое явление, обнаруживающееся в теле, обладающем необходимыми для этого {315} условиями,— явление, которое сохраняется в этом теле до тех пор, пока эти условия существуют, и которое вызывает ряд других явлений; эти последние и представляют собой способности, присущие всем живым телам.
Теперь, чтобы понять подлинный источник этих способностей живых тол, необходимо принять во внимание, что жизнь, слагаясь в основном из движений, действительно является своего рода силой, и что эта сила обнаруживается в ее проявлениях, ибо всякая сила обладает свойством проявляться и передаваться другим телам. Способности, будь то способности, присущие всем живым телам, или же способности, присущие лишь определенным органам или системам органов, являются проявлениями силы, которые и обусловливают наблюдаемые явления: одни — свойственные всем живым телам, другие — лишь некоторым из них.
Сама природа, производящая столько вещей и обладающая, следовательно, такими огромными возможностями проявления, — не что иное, как общий порядок вещей, непрерывно оживляемый движением, источник которого неистощим, движением, которое меняется сообразно обстоятельствам, но всегда подчинено законам природы. Я сравнил природу с жизнью, но жизнь приводит к собственному уничтожению, между тем как природа может быть вечной, если такова будет воля ее верховного творца. (См. «Введение» в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», ч. VI.)
Живые тела обладают способностями, свойственными всем им, способностями, очевидно присущими самой жизни, как таковой, или проявлениям ее силы. Если жизнь может существовать в телах, организация которых низведена до наибольшей простоты (например, у инфузорий), т. е. в телах, не имеющих ни одного специального органа, но лишь отвечающим главным условиям, необходимым для выполнения жизненных движений, то из этого неизбежно следует, что способности, присущие всем живым телам, не требуют для своего возникновения и проявления никаких специальных органов. Эти способности, действительно, наблюдаются на всех ступенях организации, независимо от степени простоты или сложности ее, и наблюдаются {316} они до тех пор, пока в телах существует жизнь. Если, переходя постепенно от тел с наиболее простой организацией к телам с более сложной организацией, мы видим, что число различных специальных органов возрастает, то происходит это потому, что, помимо способностей, присущих всем вообще живым телам и обязанных своим происхождением самой жизни, эти тела обладают также способностями, которые присущи только им одним и которыми не могут обладать первые.
Способности, присущие всем живым телам, т. е. такие, которыми могут обладать исключительно живые тела и которые вызывают ряд явлений.
1. Способность питаться веществами, включаемыми в состав собственного тела, непрерывно осуществлять ассимиляцию некоторой части этих веществ, наконец, способность удерживать, ассимилированные вещества, что возмещает, сначала с избытком, а затем более или менее полно, потери вещества, претерпеваемые этими телами в течение всей их активной жизни*.
2. Способность строить свое тело, т. е. самим образовывать вещества собственного тела из материалов, содержащих только основные начала этих веществ и доставляемых главным образом пищей.
3. Способность развиваться и расти до известного предела, особого для каждого из них, причем этот рост не является результатом простого наложения веществ извне путем их присоединения к телу. {317}
4. Наконец, способность к воспроизведению, т. е. к образованию других, во всем себе подобных тел («Philosophie zoologique», ч. II, стр. 554).
Таковы способности, присущие всем без исключения живым телам, и только живые тела обладают этими способностями. Итак, всякое живое тело, растение или животное, независимо от того, имеет ли оно организацию очень простую или очень сложную, принадлежит ли оно к тому или иному классу, порядку и т. д., обладает четырьмя только что названными мною способностями. Следовательно, можно сказать, что эти способности представляют собой наиболее существенные явления, обнаруживаемые этими телами.
Я отсылаю к «Philosophie zoologique», ч. II, стр. 555 и след., где рассмотрены эти явления и те способы, которыми природа пользуется для того, чтобы обеспечить всем без исключения живым телам возможность проявлять указанные четыре рода способностей.
Поэтому среди способностей, которыми обладают живые тела, необходимо различать, с одной стороны — способности, присущие всем живым телам, и с другой — способности, присущие лишь некоторым из них. Это разграничение действительно дает возможность выяснить происхождение и причины этих двоякого рода способностей.
О способностях, присущих лишь некоторым живым телам. Совершенно неоспоримо, что все живые тела обладают четырьмя способностями, о которых была речь выше. Таким же достоверным фактом является и то, что многие живые тела наделены способностями, которые совершенно отсутствуют у других тел. Птицы, как известно, обладают способностью подниматься в воздух, держаться в нем не которое время и перемещаться в воздушном пространстве на большие илр1 меньшие расстояния; между тем другие животные совершенно лишены этой способности. Множество животных обитает на поверхности земли, другие живут в воде и должны были бы погибнуть, если бы они остались на воздухе. Многие животные наделены различными чувствами. Те, которые обладают лишь небольшим числом их, все же могут видеть и осязать предметы; другие, помимо того, слышат шумы, различают различного рода запахи и ароматы. {318}
Эти животные пользуются испытываемыми ими ощущениями при удовлетворении своих потребностей, а также когда скрываются от опасности, при преследовании добычи, отыскании тех или иных благоприятных условий. Многие животные, не обладающие органами чувств, лишены каких бы то ни было ощущений, не способны преследовать добычу и, несмотря на это, без труда поддерживают свое существование, потому что все, что им необходимо для жизни, всегда находится непосредственно вблизи них. Наконец, многие животные могут вносить разнообразие в свои действия для удовлетворения различных потребностей; они способны прибегать к всевозможным уловкам, чтобы овладеть добычей, и изобретают всякого рода новые способы, чтобы избежать опасности или получить все, что способствует их благополучию. Многие животные поступают всегда одинаково при одинаковых обстоятельствах, употребляют постоянно одни п те же средства при всех своих действиях и не в состоянии заменить их другими. Таким образом, мы видим, что одни животные могут обладать способностями, которых совершенно лишены другие. Это и есть способности, присущие лишь некоторым живым телам. К рассмотрению этих способностей я намерен теперь обратиться. Разумеется, таких способностей существует весьма большое число, но бесполезно было бы входить здесь в детальное рассмотрение всех их.
Если некоторые животные обладают способностями, на самом деле свойственными исключительно им, то, очевидно, что они обязаны этими своими способностями, которыми лишь они одни наделены, причинам, полностью отсутствующим у других животных, и органам, которых совершенно лишены эти последние. Отсюда следует, что эти способности присущи только им одним; то же самое можно сказать об органах, производящих эти способности. Известно, кроме того, что наличие организации, допускающей существование жизни в теле, не является еще достаточным условием для того, чтобы наделить эта тело способностями, наблюдаемыми лишь у некоторых живых тел. Действительно, мы знаем живые тела, совершенно лишенные множества способностей, присущих другим живым телам.
Таким образом, жизнь может существовать в телах, имеющих {319} организацию самую несложную, сведенную к наибольшей простоте, в таких телах, которые не нуждаются ни в одном специальном органе для того, чтобы в них могли быть возбуждены жизненные движения; с того момента, как эти движения устанавливаются в живом теле, последнее приобретает способности, общие для всех вообще живых тел; многие другие живые тела, с более сложной организацией, обладают, помимо способностей, общих всем живым телам, еще другими способностями, тем более многочисленными и тем более выдающимися, чем сложнее их организация, т. е. чем большим числом различных специальных органов наделено живое тело.
Опираясь на наблюдения, изложенные мною в различных трудах и, в частности, в «Philosophie zoologique» и по «Введении» в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», я показал, что явление активной жизни беспрестанно влечет за собой последовательный ряд множества других явлений, иными словами,— что существование жизни в теле проявляется в непрерывном стремлении видоизменять возбужденные движения, увеличивать число и разнообразие путей, по которым движутся флюиды. Все это должно было постепенно создать и усложнить организацию, начиная с той, которая представляет наибольшую простоту, и до наиболее сложной, обладающей наибольшим числом различных органов, точнее — до организации, наделяющей живые тела наиболее многочисленными способностями, среди которых есть способности весьма выдающиеся11.
Из этого важного факта, установленного наблюдениями над живыми телами, следует, что всякая способность, присущая лишь некоторым живым телам, бесспорно, является продуктом деятельности органа или системы органов, вызывающих ее, и что данный орган или данная система органов действительно присущи лишь этим телам. Отсюда же следует, что способность, производимая соответствующими органами, будучи однажды приобретенной, должна быть представлена у всех живых тел с более сложной организацией, ибо порядок природы таков, что усложнение организации никогда не идет назад.
Причина, видоизменившая действия природы и продолжающая еще и сейчас беспрестанно их видоизменять, т. е. — те безгранично {320} разнообразные обстоятельства, в которых природа действовала и действует и поныне, привели к тому, что наименее существенные специальные органы подверглись под их влиянием [различным] изменениям, большему или меньшему недоразвитию и даже окончательно исчезли, как и зависящие от них способности. Но органы или системы органов первостепенной важности, будучи однажды созданными, оказались менее других подверженными влияниям обстоятельств; последние вызывали в них лишь небольшие изменения, но не могли их окончательно уничтожить, поэтому возрастающая сложность организации получила полное свое выражение.
Среди способностей, присущих лишь некоторым живым телам, способностей, которыми обладают многие и весьма несходные между собой животные, необходимо различать следующие два вида способностей.
1. Способности постоянные [facultes constantes], имеющие первостепенное значение, производимые либо органами, либо системами органов и являющиеся результатом только силы жизни, иначе говоря,— те способности, которые изменяющая причина [обстоятельства] не в состоянии уничтожить.
2. Способности, подверженные изменению [facultes alterables] под влиянием обстоятельств, имеющие меньшее значение, производимые органами и возникшие как в результате влияния обстоятельств, так и в результате силы жизни; способности, которые в дальнейшем могут изменяться и даже исчезать под влиянием длительного воздействия новых обстоятельств.
Я упустил из виду установить это разграничение в моей «Philosophie zoologique» при изложении принципов, лежащих в его основе. Поскольку оно необходимо для согласования фактов с теорией, которая их объясняет, спешу привести его здесь12. Укажем теперь для примера ряд способностей, присущих лишь некоторым живым телам и наблюдаемых у животных, различая при этом два вида способностей, о которых речь была выше.
Постоянные способности, имеющие первостепенное значение, наблюдаемые у животных, т. е. способности, обусловленные {321} специальными органами, которые являются результатами одной лишь жизни и не могут быть уничтожены влиянием обстоятельства, следующие.
1. Способность переваривать пищу.
2. Способность дышать при помощи специальных органов.
3. Способность совершать движения частей тела или производить действия при помощи мышц.
4. Способность чувствовать, или испытывать ощущения.
5. Способность размножаться половым путем: яйцерождением или яйцеживорождением.
6. Способность к циркуляции основных флюидов.
7. Способность обладать в той или иной степени умом, т. е. иметь представления [различных порядков], обладать вниманием и способностью делать сравнения, выносить суждения и т. д.
8. Способность размножаться путем живорождения, при котором активная жизнь вносится в зародыш уже в момент оплодотворения.
Каждая из упомянутых здесь способностей, будучи однажды приобретенной, никогда не исчезает в дальнейшем и всегда может быть обнаружена у животных всех вышестоящих ступеней организации, притом со всеми приобретенными усовершенствованиями. Перейдем теперь к рассмотрению способностей, подверженных изменению [под влиянием обстоятельств] и являющихся способностями менее высокого порядка13.
Способности, подверженные изменению, имеющие меньшее значение, обеспечиваемые специальными органами, возникающие под действием как обстоятельств, так и силы жизни,— способности, которые могут впоследствии изменяться и даже исчезать под влиянием длительного воздействия изменившихся обстоятельств, следующие.
1. Способность передвижения при помощи специальных органов, каковы: лапы для ходьбы, бега или прыганья по земле; крылья, чтобы держаться в воздухе и пересекать воздушное пространство; плавника для перемещения в воде; плавательные перепонки между пальцами, облегчающие перемещение по поверхности воды, а также перепонки {322} между конечностями, позволяющие делать большие прыжки в воздухе или даже осуществлять полет.
2. Способность осязать предметы при посредстве специально приспособленных для этого органов, как-то: сяжки у насекомых и других животных; щупальцы у брюхоногих моллюсков, у Trachelipoda и т. д.; щупальцеобразные волоски у Conchiferae и т. д.14
3. Способность схватывать предметы с помощью щупальцеобразных рук для того чтобы прикрепиться к этим предметам или схватить их, как это наблюдается у головоногих моллюсков, усоногих, разных полипов, различных лучистых и т. д.
4. Способность разрывать, размельчать твердую пищу или же производить настоящее жевание при помощи верхних или нижних челюстей, зубов, неподвижно прикрепленных к челюстям или помещающихся в особых ячейках последних.
5. Способность нападать и защищаться при помощи зубов, когтей, рогов и т. д.
6. Способность передавать себе подобным индивидуумам представления, связанные с замеченной добычей, предупреждающие о грозящей опасности, выражающие потребность любви, угрозу, гнев, месть и т. д., при помощи: различного рода свиста, оттенков голоса, пения, различных звуков, особых телодвижений, наконец,— членораздельных звуков, достаточных для обмена всевозможными мыслями, возникшими в результате возросших потребностей.
Я не считаю нужным говорить, что существует множество других способностей этой категории, о которых я не упомянул и которые я должен был обойти молчанием. Достаточно привести примеры главных из этих способностей и показать, что все они, так же как и те способности, которые я называю постоянными и которые имеют первостепенное значение, свойственны лишь некоторым, но отнюдь не всем животным.
Способности, присущие лишь некоторым животным, несомненно, являются, как я это только что сказал, результатом деятельности специальных органов, от которых они зависят, органов, которыми обладают не все животные. Разумеется, эти органы могут вызывать {323} проявления соответствующих способностей только при условии выполнения ими их функций. Кто не понимает того, что, если по какой-либо причине орган поврежден, то и его функции окажутся соответственно измененными, и одновременно с этим изменятся и его способности при выполнении им действий. Это утверждение вполне отвечает тому, что действительно наблюдается в этом отношении. Этим ограничивается все то, что я намерен был изложить относительно способностей живых тел, но, в дополнение к сказанному, я затрону один частный вопрос, связанный с приведенным в начале настоящей статьи определением понятия способности, так как он заключает в себе некоторые выводы, которые чрезвычайно важно не упускать из виду.
Поскольку способность тела или какой-либо из его частей — это возможность что-либо делать и поскольку эта возможность осуществляется лишь при помощи определенной органической функции, постольку всякая способность, всякая возможность подобного рода может быть присуща только живым телам, а следовательно, всякое неорганическое тело, всякого рода материя обладают лишь качествами и свойствами, но всегда лишены способности что-либо делать.
Разумеется, движение не может быть свойственно ни одному виду материи, оно не может быть свойством ни одного тела, но без него ни одно действие, ни одно явление не может иметь места. Даже организованные тела не могли бы осуществить сами ни одного свойственного им явления, если бы не были одарены жизнью. Поэтому, когда после смерти индивидуума его тело разлагается, подвергается ферментации и распаду и т. д., то явления, которые при этом происходят в нем, уже не принадлежат ему как таковому, никакие функции в этом теле больше не выполняются и оно всецело пассивно, а движения, осуществляющиеся теперь в его частях и вызывающие наблюдаемые в нем более или менее быстрые изменения, следует приписывать причинам, лежащим вне его. {324}
Между тем наши современные физические теории допускают, что способность к движению присуща различным видам материи. Эти теории приписывают одним из них способность отталкивать или отдалять тела друг от друга, другим — их притягивать и т. д. Согласно тем же теориям, теплород является материей настолько активной по своей сущности, т. е. по самой своей природе, что, проникая в тела, он отталкивает во все стороны их части, удаляет последние друг от друга, быстро расширяет эти тела, разжижает их или заставляет их улетучиваться, предварительно разрушая сцепление их частей, если иным путем он не может изменить их природу. Исходя из тех же теорий, электрический и магнитный флюиды также обладают способностью отталкивать или притягивать тела или их частицы и т. д.
Подобные выводы из наблюдений, без сомнения, были приняты в качестве принципов, на основании вполне реальных, точно установленных фактов; тем не менее эти претендующие на истинность принципы, хотя они и опираются на определенные факты, в действительности ошибочны, потому что не было принято во внимание, что способность к движению, приписываемая только что упомянутым мною видам материи, носит случайный характер, ибо она обусловлена обстоятельствами, но отнюдь не является свойством, постоянно присущим этим видам материи. В самом деле, невозможно, чтобы какой-либо вид материи сам по себе обладал какой бы то ни было способностью к движению, активностью, иными словами,— способностью делать что-либо.
Но мне, быть может, возразят, что упомянутые выше флюиды могут быть обнаружены только в состоянии активности, состоянии действия. Я согласен, что это верно, но отсюда можно сделать только тот вывод, что мы располагаем средствами наблюдать их лишь в этом состоянии.
Атмосферный воздух, сильно сжатый в духовом ружье, может после спуска курка послать пулю на большое расстояние и даже заставить ее пробить доску средней толщины. Но имеем ли мы право утверждать на основании этого, что воздуху присуща способность к движению? Конечно, нет! Наблюдения над воздухом при других {325} обстоятельствах доказали, что ему вовсе не присуще никакое движение. Я задаю вопрос: разве не могут существовать такие виды материи, которые мы способны обнаружить, только когда они находятся в движении, под действием причин, лежащих вне их?
Что касается меня, то я глубоко убежден, что такие виды материи действительно существуют, а все то, что я опубликовал о материи огня15, о различных состояниях, в которых она может находиться под влиянием различных причин, одним словом — о теплороде*, показывает, что последний обнаруживает наблюдаемые у него свойства лишь случайно, что он постепенно теряет их по мере того как их проявляет, а постоянную степень тепла можно поддерживать, только заставляя непрерывно притекать новый теплород, потому что всякое действующее новое количество его быстро теряет свою активность. Это должно было бы привести его в состояние полного отсутствия активности, характерное для него, как и для всякого другого вида материи, если бы теплород, содержащийся в окружающей среде, по некоторым причинам не поддерживал его в одном и том же состоянии.
Таким образом, то обстоятельство, что движение не может быть присуще ни одному виду материи, является принципом очевидным и в то же время одним из основных и наиболее важных принципов физики. Движение не может быть свойственно ни одному виду материи, как таковой; оно абсолютно чуждо всем существующим видам материи; оно является одним из тех сотворенных начал, которые образуют порядок, называемый нами природой, как это уже было доказано мною в «Histoire naturelle des animaux sans vertobres» (т. 1,ч. VI)16. {326}
Однако, если, игнорируя этот принцип, будут и впредь следовать по ложному пути, заставляющему нагромождать гипотезу на гипотезу, то наука, перегружаемая ошибками по мере углубления в бесчисленные детали наблюдаемых фактов, погрузится во мрак, а сложность начать все сначала и восстановить то ее состояние, из которого ее не нужно было выводить, иными словами,— трудность приблизиться к истинам, которые предстоит открыть, станет непреодолимой.
Поэтому важно разобраться в определении, данном мною слову способность в начале настоящей статьи. См. также статьи: «Idee», «Instinct», «Intelligence», «Fonctions organiques»17.
| {327} |

Привычка — это длительное или частое повторение одинаковых действий, которое наблюдается у животных всех классов и источник которого неодинаков [у различных представителей] животного царства.
Изучение у животных и даже у самого человека привычек, которые у одних представляют собой результат особых причин и носят характер абсолютной необходимости, между тем как у других являются результатом [внутреннего] влечения, можно рассматривать как одну из наиболее интересных задач естественной истории. Это изучение, наряду с исследованием всех тех вопросов, которые уже были отмечены мною, помогает нам понять, каким образом природа, установив жизнь в теле самого хрупкого и самого простого по своей организации животного, постепенно усложнила это тело, наделив его непрерывно возрастающими в числе специальными органами и все более и более многочисленными и высокими способностями, и каким образом она последовательно создала все разнообразие существующих животных и среди них — животных наиболее совершенных, обладающих самыми удивительными способностями.
Привычка выполнять одни и те же движения, одни и те же действия на первом этапе своего развития обусловливается причиной, лежащей вне животного, механически действующей на него и вынуждающей его производить те или иные движения. В дальнейшем она обязана своим происхождением внутренней причине, способ действия {328} которой делается более сложным, причине, которая влечет за собой, если не всегда одни и те же движения, то, во всяком случае, абсолютную необходимость одних и тех же действий. Наконец, привычка становится могущественным внутренним движущим началом, которое непрерывно побуждает индивидуума выполнять и повторять одни и те же действия, не препятствуя, вместе с тем, выполнению новых действий. Все это будет сейчас объяснено, однако предварительно необходимо обратить внимание на следующий принцип.
Все жизненные акты, все проявления организации в теле представляют собой не что иное, как результат отношений между теми или иными находящимися в движении флюидами и приведенными в состояние возбуждения плотными частями, в которых эти флюиды содержатся. Без этих отношений, без этих движений частей вообще не было бы жизни или она была бы лишена активности и ни одна органическая функция не могла бы осуществляться.
Этот принцип является основным и необходимо признать его. Единственно он дает правильное представление, позволяющее понять механизм функций различных органов, а также физическую причину всех способностей, присущих животным, иными словами,— это единственный принцип, который дает возможность раскрыть органический механизм чувствования и даже механизм умственных актов.
Все, что происходит согласно физическим причинам, всякое движение, возникающее как внутри самих тел, так и между ними, все эти явления, влекущие за собой те или иные результаты, требуют для своего осуществления определенных условий. В этом и заключается отличительная особенность физических явлений, а достаточно хорошо известно, что это единственные явления, которые мы можем наблюдать.
Если внимательно рассмотреть условия, требуемые состоянием каждого органа или каждой системы органов, чтобы наделить животное той или иной способностью, легко понять, что инфузории не могут заключать внутри себя особую органическую силу, которая заставила бы их самостоятельно выполнять свойственные им движения. В самом деле, нет никаких оснований допустить, что proteus diffluens располагает {329} особой органической силой, побуждающей его изменять время от времени очертания лопастей и всего тела, как мы это наблюдаем.
Такие своеобразные движения могут быть объяснены только внезапным вхождением внутрь тела этих маленьких студенистых существ и почти столь же внезапным рассеянием тонких и стремящихся расшириться флюидов, проникающих из окружающей среды. Подобные чередующиеся поступления и рассеяния флюидов имеют место и у других инфузорий, у полипов и т. д., но всегда различия в форме, плотности и объеме этих существ определяют результат, т. е. характер и большую или меньшую скорость движений, производимых тонкими флюидами на их пути. Эти же тонкие флюиды, в зависимости от различия условий, на которые я уже указал, прокладывают различные пути внутри тела упомянутых животных. Будучи однажды проложены, эти пути становятся, благодаря повторному прохождению, непосредственной причиной постоянного тождества действий и природы движений у [всех] особей данной породы.
Таким образом, у инфузорий, полипов, лучистых, имеющих мягкое тело, и у всех животных, лишенных чувствительности, особые привычки каждой породы обязаны своим происхождением, в целом или частично, с одной стороны — вхождению и рассеянию тонких флюидов, поступающих из внешней среды, с другой — особому, в зависимости от организации каждого вида, направлению тех путей, по которым эти тонкие флюиды должны были следовать первоначально и по которым они в дальнейшем вынуждены были двигаться в силу необходимости.
У названных мною животных постоянные привычки каждой породы представляют собой не что иное, как механическое следствие причины, лежащей вне их; именно так и установились постепенно эти привычки, о чем я уже сказал в начале настоящей статьи. Эта причина не в состоянии была обусловить [определенное] направление своего действия, ибо указанные мною обстоятельства сами по себе способны были изменить последнее только в очень ограниченных пределах, а животные, о которых здесь идет речь, не могли направить {330} свои действия на удовлетворение потребностей, поскольку еще не ощущали их. Отсюда возникла для этих животных необходимость постоянно иметь в непосредственной близости все то, что могло бы служить им пищей, как это и имеет место в действительности.
Если от животных, лишенных чувствительности, перейти к рассмотрению животных, обладающих ею, то окажется, что эти последние подвластны привычкам, постоянным для каждой породы. Мы увидим, что действия этих животных имеют совершенно иной источник и проистекают из внутреннего чувства, которое возможно лишь при наличии нервной системы, достаточно развитой для того, чтобы его обусловить.
Действительно, у высших групп животных, лишенных чувствительности, уже появляются зачатки нервов, способных возбуждать мышцы. Но так как у всех этих животных внутреннее чувство еще отсутствует, можно допустить, что эти впервые появившиеся нервы приобрели способность возбуждаться только путем воздействия на них тонких флюидов, притекающих извне.
Но когда организация достигла более высокой ступени развития и нервная система уже настолько усложнилась, чтобы обусловить способность чувствовать, тогда внутреннее чувство, присущее теперь всем индивидуумам, стало источником всякого рода действий и образовало ту силу, которую мы называем инстинктом. (См. статью «Instinct»). И вот тогда причина действий, первоначально находившаяся вовне, оказалась перенесенной внутрь самого животного; тем самым был установлен новый порядок вещей, гораздо более высокий, нежели тот, который существовал ранее.
В самом деле, все животные, обладающие чувствительностью и способные ощущать свои потребности, непрерывно стремятся их удовлетворять; но так как их внутреннее чувство является для них мощной силой, возбуждаемой каждой потребностью и управляющей действиями, подлежащими выполнению, иными словами — силой, направляющей нервный флюид к тем мышцам, которые должны действовать в каждом отдельном случае, то и все действия, соответствующие каждой потребности, осуществляются всегда безошибочно. {331}
Теперь важно выяснить, почему у всех животных, обладающих способностью чувствовать, привычки и всякого рода действия всегда одинаковы у всех индивидуумов данного вида, а также почему привычные действия у некоторых видов отличаются такой удивительной сложностью, что кажется, будто их осуществлению предшествовали какие-то умственные акты.
Рассмотрим сначала, каковы результаты привычек и почему эти результаты побуждают животных всегда повторять одни и те же действия. Следующее положение, как мне кажется, одно только может пролить свет на этот вопрос.
Сохраненные привычки видоизменяют организацию, открывают и расширяют флюидам пути, по которым они должны пройти, и облегчают выполнение действий, неизбежно обусловливающих, вследствие их повторяемости возникновение этих привычек.
При изучении природы необходимо уделять внимание этому положению, так как наблюдение подтверждает, что оно всегда обосновано.
Привычка упражнять тот или иной орган или ту или иную часть тела для удовлетворения потребностей, которые у животных, обладающих способностью чувствовать, всегда оказываются одинаковыми, приводит к тому, что внутреннее чувство позволяет перемещаемому им тонкому флюиду с большой легкостью достичь органа или части тела, которые должны прийти в действие. В самом деле: если этот флюид очень часто оказывается направленным к тому или иному органу или к той или иной части тела, то прохождение по тем путям, которые он себе прокладывает, чтобы достигнуть их, становится весьма доступным и весьма легким, а данная привычка превращается для животного в склонность, подчиняющую его и делающуюся неотъемлемым свойством его природы. Этот факт настолько очевиден, что даже создалась поговорка: «Привычка — вторая натура». (См. «Histoire naturelle des animaux sans vertebras», т. I, стр. 191 и след.).
Нами уже было установлено, что все органические акты представляют собой, с одной стороны — результат движений, с другой — результат отношений между плотными частями и содержащимися в них флюидами; что эти движения проявляются то в перемещении флюидов, {332} то в их воздействиях на плотные части, как пассивные, так и способные реагировать; отсюда нетрудно понять, что в результате любого, очень часто повторяемого действия организация [животного] подвергается действительному изменению, которое она сохраняет, и что нервный флюид, часто двигаясь в одну и ту же сторону и перемещаясь в направлении к одной и той же части тела, должен был проложить себе к ней путь, прохождение по которому постепенно становилось для него все более и более легким. Все это объясняет, почему различные наши способности, даже умственные, достигают такого развития по мере того, как мы упражняем их, тогда как они остаются крайне ограниченными и даже почти совершенно отсутствуют в тех случаях, когда мы их не упражняем.
Чем были бы наши методы, наши достижения в искусстве, если бы это было иначе? Бесспорно, я обладаю теми же органами, как и любой другой человек. Допустим теперь, что этот человек садится за рояль или берет в руки скрипку и начинает выполнять труднейшие музыкальные произведения, что совершенно невозможно для меня, даже если бы я был в такой же мере знаком с музыкой. В мгновенье ока, быстрее молнии, музыкант одновременно читает ноты разных размеров, и его внутреннее чувство немедленно направляет нервный флюид к мышцам тех пальцев, которые должны быть приведены в действие. Сокращение и расслабление различных этих мышц производится с необычайной скоростью. Могло ли бы это иметь место, если бы музыкант, о котором здесь идет речь, в продолжение долгого времени не упражнялся в выполнении на инструменте всевозможных пассажей и если бы нервный флюид, для которого указанное выше перемещение стало привычным, не проложил бы себе пути, прохождение по которым стало для него исключительно легким?
Пусть не говорят, что флюид, о котором здесь идет речь, вообще не претерпевает перемещений и что он только приходит в состояние возбуждения. Внимательное изучение органических явлений доказывает обратное. Кроме того, известны реальные доказательства внезапного перемещения тонких веществ в нашем теле. Напомним о быстрых перемещениях, стремительном переносе флюидов с одного места на {333} другое, нередко весьма отдаленное, как это бывает при ревматизме и подагре.
Обратимся теперь к животным, обладающим способностью чувствовать, и к рассмотрению привычек, приобретаемых ими под влиянием потребностей, всегда одинаковых у всех особей одной и той же породы.
Почему у животных, о которых здесь идет речь, потребности всегда одинаковы у всех особей одной и той же породы? Это происходит потому, что эти животные, будучи совершенно лишены той способности (ума), которая позволяет им видоизменять их действия, не могут увеличивать число своих потребностей. Все их потребности ограничиваются потребностями в пище, размножении и во всем, что способствует хорошему состоянию. В зависимости от условий, в которых обычно находится каждый вид, составляющие его особи удовлетворяют эти потребности всегда одним и тем же способом.
Известно, что потребности каждого из этих животных всегда сводятся:
1) к принятию, в зависимости от привычки, усвоенной особями -этого вида, того или иного рода пищи, когда они испытывают в ней потребность.
2) к выполнению акта оплодотворения, когда их побуждает к тому -состояние их организации, и к последующему обеспечению или выбору места для откладывания яиц; к отысканию средств питания для потомства и заботе о его сохранении;
3) к стремлению избегать боли или состояния неблагополучия;
4) к преодолению препятствий;
5) наконец, к отысканию при посредстве эмоций, которые их в этом направляют, всего, что приносит им пользу или доставляет удовольствие.
И вот для удовлетворения этих потребностей животные усваивают различного рода постоянные привычки, превращающиеся у них в соответствующее число непреодолимых склонностей.
Вот источник привычных действий этих животных, их особых приемов; некоторые из них, замечательные по своему своеобразию, {334} получили название индустрии19, несмотря на то, что ни один умственный акт, ни одно суждение не участвуют в них.
Склонности, приобретенные животными благодаря привычкам, усвоенным каждой породой, мало-помалу видоизменили их внутреннюю организацию, что чрезвычайно облегчило проявление этих склонностей. Изменения организации, приобретенные каждой породой, в дальнейшем передавались при размножении потомству. В самом деле, известно, что размножение передает новым особям состояние организации тех особей, которые их произвели. Вследствие этого упомянутые склонности существуют у новых особей данного вида еще до того, как они в состоянии проявить их. Следовательно, действия этих животных могут выполняться только одним и тем же образом20.
Именно таким путем одни и те же привычки и одни я те же склонности передаются из поколения в поколение у особей одних и тех же пород животных. У животных, обладающих чувствительностью, этот порядок вещей не подвергается значительным изменениям до тех пор, пока не изменятся обстоятельства, определяющие их образ жизни, и не заставят внести изменения в некоторые их действия. В этом отношении у природы нет ни заранее составленного плана, ни предвидения, ибо природа отнюдь не является ни существом, ни разумным началом, но лишь особым порядком вещей, как это было доказано мною21 («Histoire naturelle des animaux sans vertebres», т. I, ч. VI).
Все в природе определяется необходимостью, физическими причинами, подчиненными законам, а также наличием условий, делающих возможными наблюдаемые результаты.
Рассмотрим теперь, каким образом животные, не обладающие умом, могут при помощи одного лишь внутреннего чувства выполнять своеобразные и сложные действия, доставившие некоторым видам этих животных широкую известность. В этом отношении я поступлю так же, как и выше, и приведу в качестве [необходимого] принципа следующее положение.
Одного внутреннего чувства достаточно для возбуждения последовательных {335} и зависимых действий, которые напоминают, благодаря своей сопряженности, сложные действия.
Этот принцип, если проследить его частности и глубоко вникнуть в них, приподнимает, как я полагаю, покров, скрывающий от нас кажущуюся непроницаемой тайну.
Животные, обладающие только чувствительностью, имеют один единственный источник действий, а именно — их внутреннее чувство. Источник этот достаточен для того, чтобы позволить им выполнять все те действия, которые мы у них наблюдаем. Иначе обстоит дело у животных, наделенных умом. Они имеют два совершенно различных источника действий: ум, обусловливающий волевые акты, и внутреннее чувство, которое заставляет их действовать без предварительных размышлений.
Если исследовать, до какого предела могут простираться проявления внутреннего чувства, т. е. инстинкта, то станет ясно, что этот источник действий может обусловить одно за другим несколько различных действий, если только каждое из них является результатом испытываемой потребности.
Действие, возбуждаемое и направляемое внутренним чувством, не всегда представляет собой простое движение: но иногда оно слагается из нескольких, следующих друг за другом движений, иными словами,— действие, вместо того чтобы быть простым, иногда состоит из нескольких различных последовательных действий. Все это зависит от обстоятельств, при которых некоторые породы были вынуждены жить, обстоятельств, усложнивших и сделавших менее доступными средства удовлетворения их потребностей. Когда действие, подлежащее выполнению, должно слагаться из ряда движений или из других последовательных действий, то по окончании каждого из них животное немедленно ощущает потребность в выполнении последующего действия, и в тот же момент внутреннее чувство побуждает его безошибочно осуществлять последнее.
Итак, у некоторых видов, у которых обстоятельства мало-помалу сделали особей такими, какими мы находим их теперь, потребности, подлежащие удовлетворению, могли усложниться и вызвать необходимость {336} в новых, последовательных и весьма различных действиях, а внутреннее чувство, которое, в отличие от умственного акта, называемого суждением, никогда не бывает подвержено ошибкам, дало этим особям возможность в совершенстве выполнять очень сложные действия, напоминающие высокие проявления ума и обладающие, по сравнению с другими аналогичными актами, тем действительным преимуществом, что они всегда достигают цели.
Так, например, очень многие насекомые выполняют для удовлетворения своих потребностей ряд действий и своего рода сложных и необыкновенно любопытных приемов, а небольшое число тех из них, которые ведут общественный образ жизни (пчелы, шмели, осы, муравьи, термиты и т. д.), выполняют действия, вызывающие удивление и даже превышающие нашу собственную индустрию. Подобно этому, среди высших паукообразных, например у пауков, встречаются породы, которые пользуются столь же любопытными приемами. Однако все эти приемы, как бы сложны они ни были, всегда одинаковы, не обнаруживают никаких изменений у отдельных особей данной породы, так как неразрывно связаны с привычками, видоизменившими организацию рассматриваемых животных и вынуждающими этих особей выполнять именно эти действия; только инстинкт, под влиянием испытываемых потребностей, побуждает их выполнять все эти действия. Наконец, у новых особей уже с момента их рождения склонности превращаются в привычки, свойственные их породе, поскольку след действий, связанных с этими привычками, запечатлевается в их организации и постепенно углубляется22.
С тех пор как я изложил в моих лекциях и трудах эти важные соображения, много было написано по этому вопросу, и в настоящее время уже перестали приписывать упомянутым мною животным индустрию и ум, более высокие, чем у наиболее совершенных млекопитающих. Однако нигде не указан источник этого изменения воззрений. Не поняв непреложных результатов изменения организации, предполагали наличие у природы определенного плана, заранее поставленной цели, т. е. того, что в действительности можно приписать лишь верховному творцу, но не ей, как сотворенному порядку вещей. {337}
Допускали даже, что эти животные обладают более совершенным инстинктом, но и это неверно, ибо инстинкт не поддается совершенствованию и лишь одному уму присуще это свойство.
Если от животных, обладающих способностью чувствовать, перейти к рассмотрению тех, которые обладают умом, в той или иной его степени, то окажется, что эти последние приобрели новые способности и что у них существуют два весьма различных источника действий, причем каждый из них может обусловить эти действия. У этих животных даже особи каждого вида на самом деле могут варьировать свои действия, одним словом, могут удовлетворять свои потребности, свои склонности не всегда одинаковыми путями и при помощи различных приемов, изменяющихся в зависимости от обстоятельств, на что не способны животные двух ранее упомянутых групп.
Между тем власть привычек и у этих животных еще очень сильна и ясно выражена, так как весьма редко наблюдается, что они вносят разнообразие в свои действия, во всяком случае,— в главные из них. Известно также, что эти животные пользуются новыми средствами, новыми приемами только в тех случаях, когда препятствия или серьезные трудности мешают им удовлетворять их обычные потребности*. Помимо этого, привычки каждой породы оказываются всегда одинаковыми у всех особей. Действия, связанные с этими привычками, выполняются ими с особенной легкостью, так как след каждого из них сохраняется в их внутренней организации и передается при размножении всем новым особям.
У животных, обладающих способностью чувствовать, и даже у тех, которые наделены умом, привычки — не что иное, как результат вполне определенных склонностей и довольно ограниченных потребностей. У этих животных особи каждой породы имеют почти одинаковые привычки, почти равной интенсивности или силы.
У человека же, наоборот, привычки являются результатом склонностей, различные проявления которых настолько изменчивы у индивидуумов, живущих в обществе, что, по-видимому, не ограничены {338} никакими пределами и чрезвычайно многообразны. Причина этого заключается в том, что у цивилизованного человека каждая из его природных склонностей развивается лишь при наличии благоприятствующих тому обстоятельств. (См. «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», т. I, ч. V).
Отсюда следует, что в условиях цивилизации привычки отдельных индивидуумов беспредельно разнообразны и определяются обстоятельствами, в которых каждый из них находится. Достаточно известно, что, в зависимости от принадлежности к тому или иному классу общества, от положения, от той или иной степени благосостояния, от всякого рода обстоятельств, от рода занятий и т. д., люди приобретают весьма различные привычки; при этом та или иная из их природных склонностей развивается у них то более, то менее сильно, и человеку тем труднее освободиться от приобретенных им привычек и склонностей, которые у него развились, чем менее он просвещен. В этом отношении, следовательно, цивилизованный человек сильно отличается от животных, даже от тех из них, которые наделены умом, поскольку у этих последних все особи одного и того же вида обыкновенно имеют одинаковые привычки.
Сила привычек обусловлена тем, что они являются результатом часто повторяемых действий, и что выполнение этих действий становится тем более легким, чем чаще они совершаются и чем сильнее они успели видоизменить внутреннюю организацию. Отсюда понятно, что у человека, усвоившего ту или иную привычку, последняя может приобрести очень большую, а в некоторых случаях исключительную силу, притом тем более значительную, чем ниже уровень знаний и чем ограниченнее разум индивидуума, который ей подвластен. Кто не знает трудностей, с которыми приходится сталкиваться, когда дело идет о том, чтобы уговорить земледельца, ремесленника и т. д. изменить обычные методы и заменить их более рациональными, к которым пришли путем опыта! Кто не знает, как трудно искоренить ту или иную дурную привычку, особенно если она давно приобретена!23
Но если влияние привычек, связанных с деятельностью наружных частей тела, которые выполняют определенные движения или заставляют {339} эти части принимать особое положение, ограничивается тем, что облегчает соответствующие действия, то в отношении нервной системы в целом влияние привычек приобретает гораздо большую, значимость, влечет за собой гораздо более важные последствия и заслуживает особого внимания с нашей стороны.
В самом деле, все части нервной системы, необходимые для возникновения чувствования, и все ее части, функцией которых является выполнение умственных актов, благодаря привычке к упражнению не только легче выполняют свои акты, но, помимо тоге, одновременно увеличиваются размеры и мощь соответствующих органов и даже само их строение все более и более усложняется. Действительно, относительно головного мозга можно сказать, что, по мере того как приобретается привычка упражнять внимание и мыслить, по мере того как человек привыкает менять объекты своих наблюдений и размышлений, в этом исключительно мягком и податливом органе образуются различные подразделения, своего рода обособленные участки, которые по числу и значимости их способностей соответствуют количеству и разнообразию привычно возникающих в уме представлений24. Мы располагаем доказательствами, опирающимися на хорошо изученные факты и свидетельствующими о том, что когда орган ума вполне здоров и когда его сильно упражняют, то приобретенные им представления на самом деле оказываются систематизированными. Отсюда следует, что привычка упражнять сложный орган, при помощи которого выполняются умственные акты, а также орган, обусловливающий внутреннее чувство, являющееся источником наших, склонностей, влечет за собой двоякого рода важные последствия, которые необходимо иметь в виду.
Что касается ума, то следует заметить, что привычка с ранних лет сосредоточивать свое внимание, упражняться в наблюдении, думать, размышлять, глубоко вникать в рассматриваемые вопросы, наконец, выносить самостоятельные суждения, пусть даже не окончательные, однако не опирающиеся на чужие мнения, чрезвычайно расширяет эти способности и часто создает в этом отношении огромную разницу между людьми. Если привычка упражнять эти способности не была {340} своевременно усвоена, последние уже никогда не приобретаются в дальнейшем, ум может охватить лишь ограниченное число идей, не в состоянии одновременно обнять много представлений, не способен возвыситься до какой-либо важной и общей идеи. Человек становится поверхностным во всех отношениях, непредусмотрительным, склонным к непоследовательным поступкам. Он легко впадает в заблуждения и остается на низком уровне умственного развития. Бесцельно перечислять все невыгоды подобного состояния!
Точно так же в отношении внутреннего чувства следует заметить, что, когда обстоятельства благоприятствуют развитию у индивидуума той или иной из его природных склонностей, которой он всецело отдается, если его не удерживает от этого просвещенный разум,— привычка подчиняться этой склонности превращает ее в господствующую страсть, которая иногда приобретает исключительную силу. Кто не знает различных страстей, примеры которых мы столь часто наблюдаем у цивилизованного человека, несмотря на то, что почти всегда он бывает обманут ими или становится их жертвой! Кому не известны все проявления фанатизма, на которые человек способен и которые иногда приносят столько зла человечеству! Кому не известна почти полная невозможность изменить у основной массы населения любой страны старинные обычаи, укоренившиеся воззрения, опирающиеся на частные интересы отдельных лиц, а также те взгляды, которые внушаются и поддерживаются людьми, извлекающими из этого пользу, несмотря на то, что более просвещённый общественный разум указывает на необходимость приобретения взглядов, более отвечающих общему благу.
Каковы бы ни были усилия человеческого ума, какой бы высокой степени ни достиг общественный разум, обогащенный опытом,— народы всегда будут обречены нести последствия чрезмерного развития их склонностей, их неразумных привычек и предрассудков, а также последствия того, что вытекает из этих склонностей у людей, облеченных властью. (См. статьи «Idee», «Intelligence»)25.
| {341} |
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ
ЧЕЛОВЕКА

| {342} |
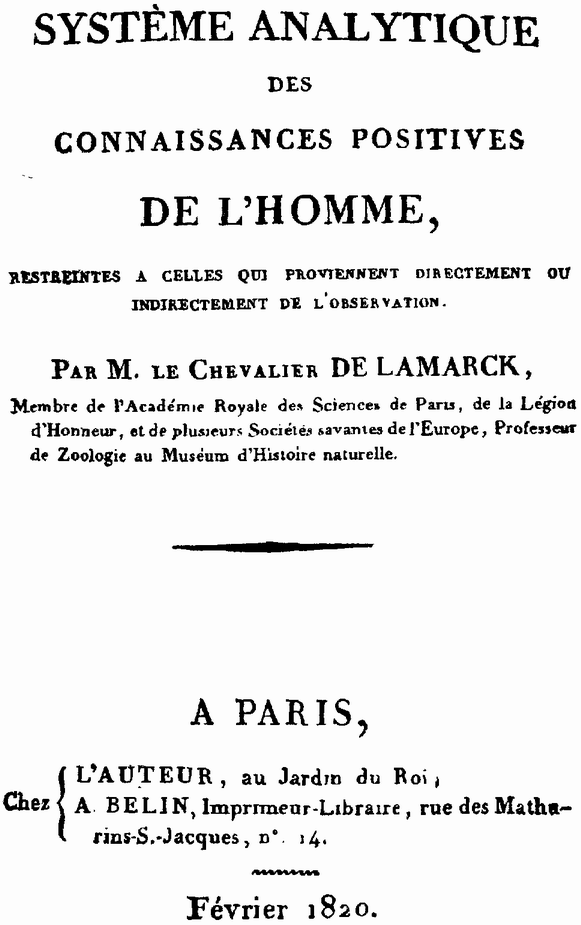 |
Титульный лист «Аналитической системы |
| {343} |
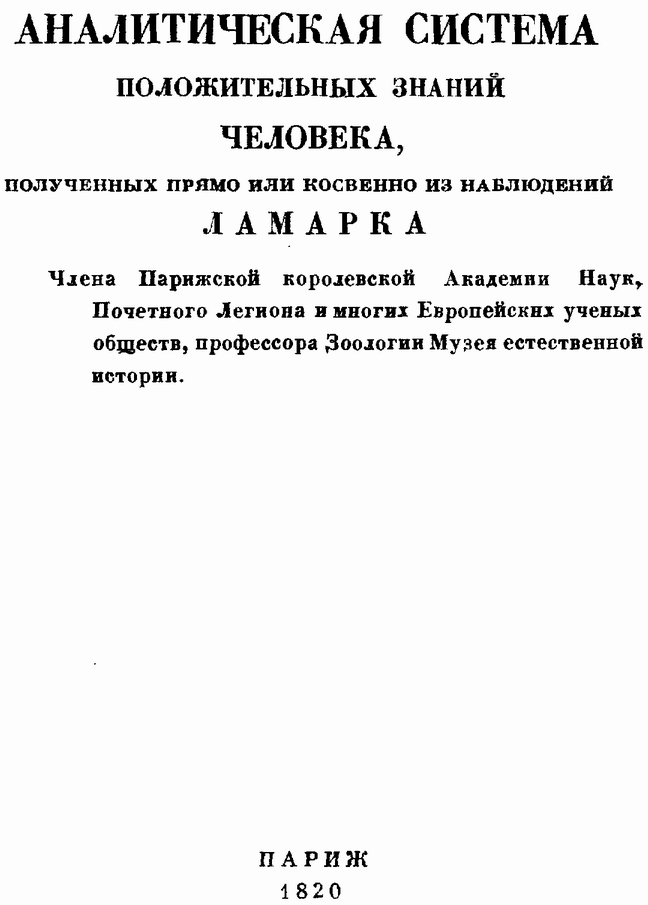 |
Титульный лист «Аналитической системы |
| {344} |

349 | ||
351 | ||
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ | ||
О предметах внешнего мира, познаваемых при помощи наблюдения . . | 355 | |
Первый раздел | ||
355 | ||
Глава первая | ||
357 | ||
Глава вторая | ||
360 | ||
377 | ||
Метафизические предметы, совокупность которых составляет природу | 378 | |
384 | ||
393 | ||
Второй раздел | ||
406 | ||
Глава первая | ||
408 | ||
Глава вторая | ||
417 | ||
424 | ||
430 | ||
ВТОРАЯ ЧАСТЬ | ||
43& | ||
44S | ||
454 | ||
Первый раздел | ||
456 | ||
458 | ||
461 | ||
Второй раздел | ||
О внутреннем чувстве и о важнейших обусловленных им явлениях .... | 465 | |
Глава первая | ||
475 | ||
Глава вторая | ||
489 | ||
Третий раздел | ||
Об уме, его средствах и явлениях, которые он обусловливает...... | 505 | |
Глава первая | ||
526 | ||
Глава вторая | ||
547 | ||
Глава третья | ||
561 | ||
| {349} |
Будучи убежден, что во всех областях полезно и даже необходимо знать истину, я решил посвятить себя ее отысканию, по крайней мере отысканию тех истин, постигнуть которые окажется для меня возможным, и остановиться главным образом на более общих, поскольку от них зависят все остальные. Однако, принимая во внимание, что с самого раннего детства, с того времени, когда мы получаем наши первые представления и способны самостоятельно судить лишь о вещах, непосредственно действующих на наши чувства, нас приучают всецело полагаться на суждения других людей в самых важных вопросах, которые в будущем должны повлиять на наши умозаключения, я понял, что достигнуть успеха в намеченных мною исследованиях будет тем более трудно, что среди внушенных мне мыслей могут оказаться мысли, лишенные глубокого основания. Желая быть последовательным, я, чтобы знать, чего мне придерживаться, счел правильным избрать следующий путь: я посвятил себя неустанному наблюдению фактов и в дальнейшем стремился собрать также те из них, которые были установлены другими наблюдателями. Затем, временно отвлекшись от собственных взглядов и от всякого предвзятого мнения в рассматриваемых мною вопросах, я долго исследовал все ставшие мне известными факты, сделал из них выводы, как общие, так и находящиеся в последовательной зависимости один от другого и имеющие более частный характер, и на основе всех их построил теорию, основные принципы которой здесь изложены. Что касается этой теории, то я употребил громадные усилия, чтобы избегнуть подводных {350} камней, о которые часто разбиваются многие наши теории и умозаключения. Подводные камни, о которых я говорю,— это та, нередко малонадежная основа теорий, на которой, не считаясь с этим, тем не менее строят их. В основе всего моего труда лежат наблюдения, и мне кажется, что трудно было бы найти лучшую основу.
Я не собираюсь опровергать те взгляды, с которыми не согласен, но так как большая часть их представляется мне несовместимой с выводами, к которым я пришел, предлагаю здесь просто совокупность этих выводов, придавая им не большее значение, чем они имеют в действительности. Все, что я могу сказать, сводится к следующему: если мои выводы настолько обоснованы, как это мне кажется, то взгляды, которые они опровергают, совершенно ошибочны; в противном случае моя теория должна быть целиком отброшена, как необоснованная. Но до тех пор, пока неопровержимые доводы не заставят меня отказаться от нее, я буду следовать ее принципам, не осуждая тех, кто будет считать своим долгом не признавать их.
Благодаря свойственной мне с давних времен привычке размышлять над наблюдаемыми фактами я стал вполне доверять этим принципам и они определили направление всех умозаключений, встречающихся в различных моих сочинениях. Хотя я убежден, что никто лучше меня не сумел бы изложить все в достаточно сжатой форме, я, тем не менее, отнюдь не предполагал выполнить этот труд. Но несчастный случай, внезапно лишивший меня зрения, прервал ход моих наблюдений над животными, составляющими предмет «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», и заставил меня спешно продиктовать приведенные здесь принципы. Я полагаю, что эти принципы могут дать важный материал для размышления тем, кто способен заинтересоваться ими. Обоснованность моих исходных положений совершенно очевидна и, как мне кажется, абсолютно неоспорима. Если это так, то рассмотрение их чрезвычайно важно и ясно определяет значение выводов, которые я намерен изложить. Чтобы сделать это, я должен предварительно привести следующие соображения:
Чем просвещеннее человек, тем лучше он понимает вред, который могут причинить заблуждения, и тем большую ценность приобретают {351} в его глазах открываемые им истины. Он начинает сознавать, насколько полезно и даже необходимо для него постигнуть источник собственных знаний, чтобы удостовериться в их обоснованности и никогда не смешивать положительные факты и неизбежно следующие из них выводы с предполошениями и предубеждениями, которые могут быть ему внушены воображением.
Что касается созданной мною теории, то я могу доказать, что она опирается на целый ряд истин, главные из которых служат и будут служить единственной основой всех истин, самым непосредственным образом интересующих человека и доступных его познанию. Их сила такова и их очевидность столь убедительна, что они всегда будут камнем преткновения для всякой мысли, как и для всякой системы или гипотезы, которые хоть в малейшей степени от них отклоняются.
Так как эта теория может дать определенное направление нашим умозаключениям и ограничить элементы, которые должны в них входить, мы сначала изложим принципы, лежащие в ее основе; далее мы установим различия между предметами, сотворенными [верховным творцом] и теми, которые, очевидно, произведены [природой], и изучим последовательно те и другие. В заключение мы приведем выводы, сделанные в результате этого изучения, в отношении человека, состояния, в котором он находится, того, чем он обязан природе и источника его поступков при различных обстоятельствах, в которых он может оказаться.
Рукопись этой небольшой работы была почти окончена, когда я решил включить в нее несколько статей, помещенных мною ранее в «Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle» (Paris. Deterville). Читатель найдет их здесь, расположенными в соответствующем порядке.
Все достоверные знания, которые человек может приобрести, имеют своим источником только наблюдение. Одни из этих знаний являются непосредственным его продуктом, другие — результатом правильно сделанных из него выводов. Вне этой категории все продукты мышления человека — не что иное, как плод его воображения. {352}
Среди выводов, которые человек извлек из своих наблюдений, один внушил ему самую возвышенную из его мыслей. Действительно, так как человек — единственное существо на нашей земле, обладающее способностью наблюдать природу, сознавать ее власть над телами и постигать те постоянные законы, при посредстве которых она управляет всеми наблюдаемыми им движениями и изменениями этих тел и даже всеми действиями, выполняемыми некоторыми из них, то из всех существ он один ощутил необходимость познать высшую и единственную причину, создавшую этот чудесный порядок вещей. Таким путем он возвысился до мысли о верховном творце всего сущего.
К понятию о верховном существе, о котором я говорил, к понятию о боге, воплощающем бесконечность, человек, как мы видим, пришел не непосредственно, но на основе фактов и выводов, неизбежно следующих из его наблюдений2. Таким же путем он составил себе и другое, столь же реальное понятие — о безграничном могуществе этого существа, понятие, внушенное ему созерцанием некоторых из тех творений верховного существа, которые были доступны его наблюдению. Бытие и всемогущество бога составит, следовательно, все то положительное, что человек знает о божественном. Этим ограничивается все то, что ему дано достоверно знать об этом важном вопросе. Много других понятий было, однако, приобретено человеком о столь высоком предмете, но источником всех их служило его воображение.
Создавая свои творения, в особенности те из них, которые доступны нашему познанию, всемогущее существо, без сомнения, следовало угодными ему путями. Воля же его могла быть такова:
Или создать все отдельные тела непосредственно и независимо друг от друга, такими, какими мы их можем наблюдать, следить за всеми их изменениями, движениями или действиями, непрерывно наблюдать за каждым из них особо и управлять ими согласно его высшей воле.
Или ограничить свои творения небольшим числом, установить среди них общий и постоянный порядок вещей, всегда оживляемый {353} движениями и повсюду подчиненный законам. При помощи этого порядка могли бы возникнуть все тела, каковы бы они ни были, все изменения, которым они подвергаются, все их особенности и все явления, которые многие из них могли бы осуществлять.
Об этих двух способах творения мы не могли бы составить себе никакого обоснованного мнения, если бы наблюдение не давало нам никаких указаний. Но дело обстоит не так. Мы на самом деле видим, что существует некий сотворенный и неизменный — до тех пор пока на то будет воля творца,— порядок вещей, который действует только на материю и может создавать все доступные нашему наблюдению тела и производить все происходящие в них перемены, видоизменения, даже разрушения и возобновления. Этому порядку вещей мы дали название природы. Таким образом, верховный творец всего сущего непосредственно сотворил материю и природу и является лишь косвенно создателем всего того, что последняя могла произвести.
Мы легко можем познать цель, которую себе ставит бог, создавая материю, являющуюся основой всех тел, и природу, которая подразделяет эту материю, образует тела, изменяет, преобразовывает, превращает и возобновляет их различным образом. Верховное существо не может встретить никаких препятствий при создании своих творений, поэтому общий результат его деяний всегда соответствует его воле. Этой целью может быть только существование природы, которой подвластна одна лишь материя, но этой целью не может быть образование каких бы то ни было отдельных тел.
Можно ли найти в этих двух сотворенных категориях — материи и природе — источник добра и зла, который почти во все времена хотели видеть во всех явлениях этого мира? На это я отвечу, что добро и зло относятся лишь к частным случаям, и так как они преходящи, то никогда не затрагивают предначертанного общего результата, а та цель, которую себе поставил творец, чужда и добру и злу, ибо все в ней наилучшим образом отвечает своему назначению3.
Ограничились ли деяния бога только созданием материи и природы? Это праздный вопрос, который должен остаться без ответа с нашей стороны, ибо мы можем познавать только путем наблюдения, {354} а нашему наблюдению доступны лишь тела и то, что к ним относится. Вот почему было бы дерзостью отвечать на этот вопрос как утвердительно, так и отрицательно.
Что такое дух [etre spirituel]? Под этим словом с помощью воображения можно подразумевать все что угодно. В самом деле, мы составили себе представление о духовном, противопоставляя его материальному, но так как эта предполагаемая сущность не имеет ничего общего с предметами, доступными нашему наблюдению, мы не можем ничего о ней знать. Следовательно, понятие, которое мы себе составили о духе, абсолютно лишено основания4.
Нам известны только тела физические и те предметы, которые имеют к ним отношение. Таково свойство нашей природы. Если рассматривать наши мысли, рассуждения и принципы как предметы метафизические, то эти предметы не могут быть особыми сущностями. Они являются лишь отношениями, или следствиями из этих отношений, или же результатами наблюдаемых законов.
Как известно, отличают отношения общего и более частного характера и среди последних различают отношения формы, размеров, плотности, величины, количества, сходства и различия. Если к этому прибавить наблюдения над окружающими нас телами, а также рассмотрение известных законов и, наконец, условные приемы и средства, то этим исчерпывается все содержание наших мыслей.
Мы можем наблюдать только действия природы, законы, которые этими действиями управляют, результаты этих действий, иными словами — только тела и то, что имеет к ним отношение. Все то, что исходит непосредственно от высшей силы, непостижимо для нас, как и она сама. Творить, т. е. из ничего создавать нечто,— это идея, которую мы никогда не постигнем, ибо во всем, что доступно нашему познанию, мы не находим ни одного примера, который подтверждал бы такую возможность. Творить может только бог, тогда как природа может только производить. Мы должны допустить, что для своих творений божеству не нужно время, между тем как природа может действовать только в пределах определенного времени.
| {355} |

О предметах, бесспорно сотворенных
Не подлежит сомнению, что среди предметов, доступных нашему наблюдению, имеются такие, установить происхождение которых для нас совершенно невозможно. Представление об образовании чего-либо к этим предметам неприложимо, потому что всякое образование подразумевает возникновение одного предмета из другого путем разного рода их изменений или сочетаний, но для нас непостижимо, каким образом из ничего может быть создано нечто, а между тем именно это имеет место во всех сотворенных предметах. Мы признали существование божественного могущества и должны были допустить, что оно безгранично. Но подобно тому как нам совершенно недоступно познание сущности этого могущества, так и его непосредственные творения выше нашего понимания.
Известно, что люди часто употребляют выражения, с которыми они не связывают точных представлений. Так, например, они пользуются словом сотворенный во многих случаях, когда применение этого выражения совершенно неуместно. Природа, несмотря на все свое могущество, в действительности не творит ничего, тем более человек не в состоянии ничего сотворить. Он не способен, как мы это показали, образовать ни одного представления посредством воображения и строит новые представления только из представлений, приобретенных им путем чувств, преобразовывая их или противопоставляя их одно другому по своему усмотрению. {356}
Тщательно изучая среди предметов, доступных нашему наблюдению, предметы, безусловно сотворенные, мы приходим к выводу, что последние ограничиваются лишь двумя: материей и природой. Верховное существо в своем безграничном могуществе, без сомнения, могло сотворить еще множество других предметов, но знать о них ничего положительного нам не дано, и мы можем познавать лишь два указанных выше предмета. Рассмотрим вкратце каждый из них в отдельности.
| {357} |

О материи
Бог сотворил материю, создал различные виды ее и наделил каждый из них свойством неразрушимости, присущим веем сотворенным предметам. Следовательно, материя будет существовать до тех пор, пока на это есть воля творца, а природа, при всей ее власти над материей, не может ни уничтожить, ни прибавить хотя бы малейшую частицу к тому количеству ее, которое было сотворено.
Материя не бесконечна, ибо она занимает место в пространство, а известно, что всякое место ограничено. Материя занимает место в пространстве, поскольку вся ее масса или части ее массы могут перемещаться; поскольку она способна воспринимать [сообщаемое ей] движение. В самом деле, тела, основу которых она всегда составляет, способны воспринимать движение и либо сохранять его, если другое тело не лишит их этого движения, либо передавать его полностью или частично другим телам.
Сущность материи — служить основой вещества; это вещество, являющееся физическим телом, чрезвычайно делимо, по крайней мере до основных молекул [molecules essentielles]. Кроме того, материя, по существу, пассивна, инертна, лишена собственного движения и активности5, но она может воспринимать, передавать и производить движения, если подвергнется изменениям со стороны каких-либо случайных причин. Материя, несомненно, имеет протяженность и, как {358} бы велико ни было ее количество, она не бесконечна по своей природе, так как занимает место в пространстве.
Существуют, как мы уже сказали, различные виды сотворенной материи. Это утверждение вытекает из наблюдения, свидетельствующего о том, что в своих действиях природа образует всевозможные соединения различной степени сложности, что связано с необходимостью использования различных элементов. Разумеется, иногда трудно бывает установить, является ли тот или иной рассматриваемый нами вид материи простым или сложным, но мы не должны сомневаться в том, что всякое сложное вещество, каково бы оно ни было, является результатом соединения различных элементов. Существуют различного рода элементы и, следовательно, различные виды материи.
Материя составляет основу всех тел, всех их частей, будучи единственной их субстанцией, и так как существуют различные виды материи, в зависимости от больших или меньших различий способа их сочетания или соединения в одном теле, в зависимости от особого, присущего каждому из них состояния сочетания или соединения, в зависимости, наконец, от их отношений между собой и с окружающей средой, то тела, образуемые этими видами материи, должны обладать особыми свойствами и иногда давать начало своеобразным явлениям.
Среди различных существующих видов материи есть, без сомнения, такие, основные молекулы которых иногда, действительно, чрезвычайно сжимаемы или гибки, между тем как у других эти частицы обладают почти абсолютной твердостью. Возможно также, что существуют виды материи, характеризующиеся промежуточными свойствами. Если тот или иной вид материи, обладающей очень большой сжимаемостью, подвергнется под влиянием какой-нибудь причины сильному сжатию и будет оставаться в теле в этом состоянии благодаря своим комбинационным связям [liens de combinaison], которые выявляются только в момент их нарушения, то этот вид материи приобретает способность расширения и излучения, придающую ему случайную активность, хотя по своей природе, он, как всякая материя, лишен этой способности и действительно пассивен! И вот, по мере {359} того как материя проявляет эту свою активность, сила и скорость ее излучающей экспансии постепенно уменьшаются, и она переходит в свойственное ей состояние покоя. Однако этого объяснения, приложимого ко многим другим, хорошо известным видам материи, которым ошибочно приписывали активность, считая последнюю их естественным свойством, вполне достаточно для обоснования нашего отказа от признания этой активности. Сказанное вполне применимо и к теплороду, так как известные нам его свойства проявляются лишь временно и случайно, и он утрачивает их по мере того как его частицы восстанавливают свои естественные размеры.
Материя, как уже было сказано выше, чрезвычайно делима, но, по-видимому, пределом этой делимости являются основные молекулы, которые обладают свойством непроницаемости. Иначе и не могло бы быть, ибо материя неразрушима и неизменна, как и все сотворенное. Итак, разница между основными молекулами [molecules essentielles] материи и составными молекулами [molecules integrantes] сложных соединений заключается в том, что первые неизменны, между тем как вторые способны претерпевать изменения и даже могут быть разрушены.
Вообще говоря, мы знаем материю только в виде тел, которые, по существу, из нее и состоят. Возможно, что мы никогда не наблюдали ее как таковую, разве только некоторые из известных упругих флюидов состоят из различных чистых видов материи. Возможно также, что из твердых тел кремний6 или горный хрусталь представляют собой материю в ее чистом виде.
Укажем еще, что материя, какова бы она ни была, обладает лишь качествами, свойствами, но движение не присуще ни одному ее виду, так что всякое явление, наблюдаемое или доступное наблюдению, в силу необходимости обусловлено либо изменениями состояния этой материи, либо отношениями между различными видами ее, из которых по крайней мере один находится в движении.
Поэтому всегда будет ошибкой приписывать какой-нибудь материи самостоятельную способность жить, чувствовать, мыслить или, наконец, действовать.
| {360} |

О природе
Природа или порядок вещей, который ее образует, является вторым и вместе с тем последним из сотворенных предметов, доступных нашему познанию, ибо все остальные наблюдаемые нами предметы представляют собой результат деятельности природы. Так как мы сами составляем часть огромного ряда ее созданий, нас должно сильно интересовать изучение причины возникновения всех их. Итак, природа является самым важным понятием, которое человек может охватить своей мыслью. Природа — это сила, вечно деятельная, но повсюду и во всем ограниченная; она способна создать величайшие вещи, но в каждом отдельном случае всегда поступает одинаковым образом, никогда не внося изменений в те деяния, которые она осуществляет. Это сила сотворенная, неизменная и из всех вещей, имевших начало,— единственная, существование которой не имеет предела до тех пор, пока это угодно ее верховному творцу. Наконец, это порядок вещей, существующий во всех частях физической вселенной.
Что касается того важного предмета, к рассмотрению которого мы переходим, то мы не будем говорить здесь о природе в том узком значении, которое придается этому выражению, когда речь идет об определении или указании того, что принято называть природой какого-нибудь тела или предмета, но о природе в самом широком и, одновременно, беспредельном и абсолютном смысле. Мы будем говорить об этом столь часто употребляемом выражении, которое не сходит с уст, {361} которое мы встречаем почти в каждой строчке в сочинениях натуралистов, физиков и моралистов, о выражении, употребляемом так: широко, причем в него не вкладывают того содержания, которое можно и действительно должно с ним связывать.
«Теперь следует показать, что существуют особые могущественные начала, которые не являются ни разумом [intelligences], ни индивидуальными существами, но которые действуют только в силу необходимости и не могут сделать ничего кроме того, что они действительно делают» («Введение» в «Histoire naturelle des animaux sans vetrebres», ч. VI, стр. 232). Посмотрим, не является ли то, что мы называем природой, одним из этих особых действенных начал, не является ли природа первым и самым могущественным из них, тем: началом, которое повлекло за собой появление всех остальных, наконец, тем, которое произвело вообще все существующие тела и одно обусловило все то, что мы можем наблюдать. Мы исследуем далее, чем может быть это своеобразное действенное начало, способное создавать столько различных существ, большинство которых изумляет ш восхищает нас!
Кто осмелился бы подумать, что слепое, не имеющее ни намерения, ни цели могущественное начало, производящее только то, что оно способно произвести, и ограниченное в своих действиях строго-очерченной областью, может быть силой, которая создала столько вещей!7 Тем не менее мы намерены доказать здесь очевидность этого факта. Для достижения этой цели нам представляется достаточным выдвинуть положения, приведенные в последующем изложении, и, без сомнения, нас поймут, если захотят их исследовать и глубоко вникнуть в них. Прежде всего поставим следующий вопрос, имеющий для человека наибольшую важность из числа всех тех вопросов, которые могут его занимать, и посмотрим, располагаем ли мы какими-либо надежными средствами для его решения:
Создало ли разумное и неограниченное могущественное начало, которому действительно обязано своим существованием все, что есть, следовательно и физические тела,— создало ли оно эти тела непосредственно, без участия посредствующих сил, или же оно установило {362} порядок вещей, составляющий особое и зависимое действенное начало, способное, однако, обусловить последовательно существование всех физических тел, каковы бы они ни были?
Если высшее могущество, о котором идет речь, предоставило физический мир наблюдению и обсуждению человека, последний может и должен исследовать этот важный вопрос, и мы покажем, что результат этого исследования может иметь для него огромное значение.
Конечно, верховный творец всех вещей мог поступить как ему было угодно; его могущество безгранично, в этом не приходится сомневаться. Он мог, следовательно, создавая физические тела, употребить первый из названных способов творения, а также, если на то была его воля, воспользоваться вторым из них. Нам не пристало ни предрешать, что он должен был сделать, ни высказывать определенное суждение относительно того, что он сделал. Мы должны лишь изучать те его творения, которые нам надо наблюдать, и те факты, которые могут нам раскрыть, какова была его воля в этом отношении.
Несомненно, что при исследовании вопроса о происхождении всех тел, доступных нашему наблюдению, нас больше должна была привлечь мысль, заставляющая приписать первичное возникновение этих тел разумному и неограниченному началу, которое их сотворило непосредственно, либо всех сразу, либо в разное время, такими, какие они есть, каждое в своем роде. Этот взгляд был для нас удобен, так как избавлял нас от необходимости изучать и исследовать все, что связано с этим важным вопросом, и именно потому он получил всеобщее признание. Однако он верен только в одном отношении: действительно, все существует согласно высшей воле, но что касается физических тел, то, высказывая такой взгляд, мы тем самым предрешаем вопрос о способе выполнения этой высшей воли, не выяснив предварительно того, чему учат в этом отношении наблюдаемые факты. Но наблюдаемые и точно установленные факты имеют большее положительное значение, чем наши умозаключения, а эти факты доставляют нам надежные средства для решения вопроса, каким из двух указанных выше способов угодно было пользоваться высшей силе, чтобы дать бытие всем физическим телам. {363}
Действительно, мы до некоторой степени имели основание настаивать на первом предположении относительно происхождения физических тел, так как, несмотря на то, что эти тела, как живые, так и неживые, подвержены последовательным процессам изменения, разрушения и возобновления,— они кажутся всегда одинаковыми.
«В самом деле, все тела, которые мы наблюдаем, обладают вообще, каждое в своем роде, бытием более или менее преходящим, но все эти тела находятся или появляются перед нашими глазами во все времена одинаковыми или почти одинаковыми, и мы видим каждое из них с одними и теми же качествами или способностями и с той же возможностью или необходимостью претерпевать изменения!
Как можно после этого предполагать, возразят нам, что эти тела образовались, так сказать, неодновременно, постепенно и притом одни в зависимости от других, словом, предполагать, что каждое из них имело особое происхождение, принцип которого может быть определен? Почему не считать, что все тела столь же древни, как и природа, что все они имеют такое же происхождение, как она сама и все то, что имело некое начало?
Так, действительно, думали и так думают еще сейчас многие, притом весьма просвещенные люди. Они приписывают видам как неорганических, так и живых тел бытие, почти столь же древнее, как и бытие природы, считая, что, несмотря на изменения и преходящее существование индивидуумов, тела остаются такими же при каждом своем возобновлении и т. д.» («Введение» в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», стр. 233).
«Все эти соображения казались, да еще и сейчас кажутся людям, о которых я упоминал, достаточным основанием: для того, чтобы думать, что природа не является причиной-производителем различных известных нам тел и что эти вновь и вновь появляющиеся тела, кажущиеся всегда одинаковыми и обладающие одинаковыми качествами или способностями, должны быть столь же древними, как природа, что они обязаны своим существованием той же причине, что и сама природа.
Если это так, то эти тела ничем не обязаны природе; они не являются ее созданиями, она ни в чем не властна над ними, она не {364} производит над ними никаких действий, следовательно, она не является действенным началом; законы ей не нужны, а название, которое принято ей давать,— не более как лишенное смысла слово, если оно выражает только факт существования тел, но не особое начало, непосредственно на них воздействующее» («Введение» в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», стр. 234—235).
Вот неизбежные выводы из того взгляда, который приписывает существование каждого вида физических тел отдельному акту творения, придает им общее с природой происхождение и предполагает, что они столь же древни и так же неизменны, как и сама природа.
Без сомнения, могущественный творец всего сущего мог пожелать, чтобы это было так, но, если бы такова была его воля,— чем тогда является природа, которую он сотворил? Что же она такое, если не особое действенное начало, если она не совершает никаких действий, не производит ничего, если она не создает тела? Для чего ей служат законы, если она бессильна и бездеятельна? Этот вопрос неизбежно остался бы без ответа, т. е. не был бы решен, если бы было основание его ставить и если бы природа не была сама по себе непосредственной причиной, обусловливающей существование всех физических тел.
Но именно это и подтверждает нам наблюдение. Если мы будем изучать все, что изо дня в день происходит вокруг нас, и все то, что имеет к нам отношение, если мы будем собирать и внимательно исследовать факты, доступные нашему наблюдению, мы найдем повсюду доказательства могущества природы, и тогда приведенное выше и представляющееся нам правдоподобным мнение относительно первичного создания видов и их постоянства мало-помалу утратит свою кажущуюся обоснованность.
В самом деле, вследствие ничтожно малой продолжительности нашего индивидуального существования мы никогда не замечаем изменений в условиях положения и места обитания наблюдаемых нами видов; поэтому, хотя мы и можем проследить поколения сменяющих друг друга особей, нам кажется, что виды остаются неизменными. Если мы переменим место наблюдения, то встретим виды, близкие к первым, но все же несколько отличающиеся от них и действительно {365} находящиеся в иных условиях. Но и эти виды покажутся нам неизменными, и, наблюдая сменяющих друг друга особей, мы не обнаружим и у этих видов никаких различий, разве только случайные. И вот, не замечая изменений среди ныне живущих видов, где бы мы их ни наблюдали, мы приписываем им абсолютное постоянство, между тем как они обладают лишь относительным, или условным, постоянством. В самом деле: ныне живущие виды остаются неизменными до тех пор, пока остаются неизменными условия их положения, места обитания и т. д.
Так как мы не отдаем себе отчета в том, что действительно происходит повсюду с течением времени, ибо сами не имеем возможности ни наблюдать, ни устанавливать эти явления, нам кажется, что все вокруг нас обладает абсолютным постоянством, между тем как на самом деле все вокруг нас беспрестанно изменяется. Нам кажется, что поверхность земного шара сохраняет одно и то же состояние, что границы морей не меняются, что эти огромные водные массы остаются в одних и тех же областях земли, что горы тоже сохраняют свою высоту и форму, что реки и потоки не меняют ни русла, ни бассейна, что климат не подвергается никаким изменениям, и т. д. и т. п. Мы судим обо всем на основании того, что мы имеем возможность наблюдать, поэтому все представляется нам постоянным, ибо те небольшие изменения, которые мы сами в состоянии заметить, кажутся несущественными.
Но, по мере того как расширяется область наших наблюдений, по мере того как мы знакомимся с памятниками, находящимися на поверхности земли, и изучаем множество мелких фактов, с которыми встречаемся на каждом шагу, мы вынуждены признать, что нигде нет полной неподвижности и что повсюду царит непрерывная активность, изменяющаяся в зависимости от времени и места; что все без исключения тела проницаемы и проникнуты другими [телами]; что повсюду неустанно действуют различного рода факторы, которые беспрерывно изменяют, преобразовывают и разрушают существующие тела; наконец, что нет ничего, что было бы полностью защищено от этих постоянно проявляющих свое действие влияний. В самом деле, мы видим, {366} что самые твердые горные породы мало-помалу распадаются, что в результате чередующегося действия солнца, морозов, дождей и т. п. их частицы незаметно отделяются друг от друга, что ведет к изменениям формы и массы этих тел; что горы разрушаются и непрерывно-понижаются; что дождевые воды размывают и точат их и уносят в более низкие места все отделившиеся от них части; что большие и малые реки и потоки уносят все, что уступает напору их вод; что под: землей в различных местах развиваются всякого рода упругие флюиды, которые нередко дают сильные вспышки и либо образуют углубления в почве и поднимают ее, что сопровождается землетрясениями, образованием трещин, а все вокруг смешивается и опрокидывается, либо, найдя для себя выход на поверхность, а иногда создав его сами, производят страшные и опустошительные извержения, сопутствуемые сбросами и обвалами, которые разрушают все, что они встречают на своем пути; из накопившихся же при этом наслоений вырастают-громадные горы.
Даже на примере наших жилищ мы можем обнаружить постоянные, хотя и едва заметные, результаты действия упомянутых факторов. В самом деле, мы достаточно знакомы с теми разрушениями, которым эти факторы могут с течением времени подвергнуть их. Уместно напомнить здесь об явлениях, которые происходят на наших глазах и могут служить хорошим подтверждением сказанного. Кто не знает, что, сколько бы ни было потрачено труда на поддержание чистоты в жилище, все же приходится постоянно бороться с пылью, которая ложится повсюду. Откуда же берется эта пыль, если не из чрезвычайно малых частиц, беспрестанно отделяющихся под влиянием указанных выше факторов от всех частей жилища, от всех находящихся в нем предметов и образующих те мельчайшие частички пыли, которыми всегда бывает наполнен воздух? Можно с уверенностью сказать, что любое здание, предоставленное действию этих факторов, рано или поздно будет ими разрушено.
Итак, совершенно неоспоримо и очевидно, что нигде во всем физическом мире нет абсолютного покоя, нет полного отсутствия движения, нет массы, которая была бы действительно неразрушима, {367} неизменна и обладала бы не тем относительным, как мы это наблюдаем у всех без исключения тел, но совершенным и беспредельным постоянством.
Таким образом, мы наблюдаем во всех телах, в зависимости от их природы и от условий их положения, то медленные, то быстрые, но вполне реальные изменения, причем одни из этих тел постепенно уничтожаются, не будучи в состоянии восстановить свои потери, и в конце концов окончательно разрушаются, между тем как другие, также претерпевающие беспрерывные изменения, но способные восстанавливать свои потери спустя определенный промежуток времени, в свою очередь кончают полным разрушением.
Нет надобности указывать, что если общее действенное начало, состоящее из упомянутых выше факторов, приводит таким путем к разрушению отдельных физических тел, то это же самое начало другим путем, рассмотренным в прежних моих работах, вечно возобновляет их, с теми или иными в каждом отдельном случае изменениями. Я уклонился бы от моей темы, если бы снова стал приводить здесь доказательства этой истины.
Можем ли мы после этого краткого изложения общеизвестных фактов отрицать существование общего действенного начала, всегда-активного, всегда вызывающего при благоприятных обстоятельствах явные изменения, результатом которых бывает в одних случаях—образование, в других — разрушение тел? Разве мы не видим, как почти на наших глазах одни из этих тел образуются, а другие-разрушаются!
Что касается действенного начала, о котором здесь идет речь, то-тщательные наблюдения заставляют нас признать один очень важный факт, который дает ответ на вопрос, поставленный в начале этой главы и который необходимо принять во внимание. Факт этот следующий: «Наши наблюдения действительно не ограничиваются только тем, что убеждают нас в существовании вечно действующего могущественного начала, которое изменяет, образует, разрушает и непрерывно восстанавливает различные тела; они, помимо того, показывают нам, что это начало ограничено [в своих действиях], что оно {368} всецело зависимо и не могло бы произвести ничего иного, кроме того, что производит, ибо оно всегда подчиняется законам различных порядков, управляющих всеми его действиями, законами, которые оно не может ни изменить, ни нарушить и которые не позволяют ему применять различные средства при одних и тех же обстоятельствах» («Введение», в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», стр. 236).
Конечно, если факты, подтверждающие зависимость этого могущественного начала, действительно обоснованы, то открытие их чрезвычайно важно, так как они определяют сущность того начала, о котором здесь идет речь, а познание последнего, так же как и законов, которым оно подчинено в каждом отдельном случае, имеет для нас первостепенное значение, что я надеюсь показать в дальнейшем.
Если я в какой-либо мере способствовал развитию естественных наук, охватив исследованиями общий план [природы], все части которого взаимосвязаны, если я принес какую-нибудь пользу одной из этих наук, главным образом тем, что установил наиболее естественный порядок среди беспозвоночных животных, и показал, что этот порядок воспроизводит порядок последовательного образования их, то все же полагаю, что во всем этом наиболее полезным для моих ближних было то, что я собрал основные наблюдения, подтверждающие реальность и выясняющие сущность того могущественного начала, о котором здесь идет речь. Продолжим теперь рассмотрение этого действенного начала, попытаемся показать, что оно представляет собой на самом деле и какие преимущества дает нам его познание.
Великое действенное начало, служащее предметом нашего исследования, охватывает весь физический мир и в этом смысле является всеобщим. Ему подвластна только материя и, хотя оно не может создать ни одной частицы этой последней, оно непрерывно изменяет ее всеми способами и придает ей всевозможные формы. Таким образом, это общее могущественное начало беспрестанно воздействует на все предметы, как доступные, так и недоступные нашему наблюдению. Именно оно непосредственно обусловило существование {369} растений, животных и всех других тел, находящихся на нашей планете.
Итак, могущественное начало, которое так трудно распознать, несмотря на то, что влияние его проявляется повсюду, отнюдь не является измышлением разума [etre de raison], в чем мы не можем сомневаться, так как наблюдаем его действия, можем проследить его проявления, видим, что оно совершает все во времени, во всем подчинено законам и что нам уже известны многие из законов, которые им управляют. Это активное начало, действующее всегда одинаково при одинаковых обстоятельствах и вынужденное с изменением обстоятельств изменять свои действия8, словом, то активное начало, которое производит столько вещей, и притом столь удивительных, и есть то, что мы называем природой.
И вот этому слепому началу, во всем ограниченному и подвластному [законам], которое, как бы могущественно оно ни было, создает только то, что оно может создавать, которое существует лишь по воле верховного творца всех вещей,— этому началу, повторяю, мы приписываем намерение, цель, направленность в его действиях!
Можно ли привести большее доказательство нашего абсолютного незнания в области всего, что касается природы, ее законов, тех законов, которые для нас так важно изучить, ибо знание их является единственным источником правильного суждения о вещах и верных представлений обо всем том, что этими законами обусловлено или им подчинено! Как назвать наше равнодушие к матери-природе, о существовании которой мы знали еще с незапамятных времен, поскольку для обозначения ее создали особое слово? И мы довольствуемся этим словом, оно нам заменяет все; мы вовсе не стремимся узнать или исследовать, что оно собственно выражает, как если бы все действия, выполняемые природой, ограничивались созданием физических тел, не влияя на продолжительность их существования, на их состояние в период существования, ни на все то, что их касается или связано с ними.
Необходимо, наконец, уточнить, насколько это возможно, смысл этого выражения, которым большинство людей пользуется, одни — {370} в силу привычки, не вкладывая в него никакого определенного содержания, другие — придавая ему абсолютно неверный смысл.
С представлением о некоем активном начале, естественно, связывается представление о разуме, управляющем его действиями, почему этому началу и приписывают намерение, цель и волю. Без сомнения, это справедливо в отношении высшего могущественного начала, но ведь есть также начала подчиненные и ограниченные, которые действуют лишь по необходимости и выполняют только то, что могут,— начала, пользующиеся более или менее сложными средствами и отнюдь не являющиеся разумным началом [intelligences].
Эти подчиненные начала представляют собой, в сущности, не что иное, как причины, которые действуют или могут действовать. Одни из этих начал располагают очень сложными средствами и приводят к весьма различным результатам, тогда как другие, более простые, всегда дают одинаковые или сходные результаты; поэтому я полагаю, что последним надо дать общеупотребительное название причин, а первые обозначить выражением порядок вещей; именно они и носят более общий характер, чем это обычно принято думать9.
Так, например, всякий порядок вещей, в который движение, имеющее истощимый или неистощимый источник, вносит жизнь, является подлинным действенным началом, деяния которого влекут за собой те или иные факты или явления.
Жизнь в теле, порядок и состояние вещей которого позволяют ей проявиться в нем, как я уже говорил, несомненно, представляет собой подлинное действенное начало, порождающее многочисленные явления; между тем это начало не имеет ни цели, ни намерения, и, будучи само лишь совокупностью действующих причин, но не особой сущностью, производящим лишь то, что оно может производить. Я первый установил эту истину еще в то время, когда жизнь рассматривали как некое начало, архей, своего рода особую сущность. (См. Bartez. «Nouvelle mechanique»)10.
Я добавлю, что природа наделила определенные тела порядком вещей, который, в сочетании с источником активности, также {371} полученным ими от природы, внес в них жизнь; последняя в свою очередь установила у некоторых животных различные отчетливо выраженные виды порядка вещей, известные под названием систем органов, со своей стороны, вызвавшие образование многих других систем органов, каждая из которых обусловила соответствующий порядок тех или иных явлений. Отсюда следует, что, хотя системы органов в теле животного подчинены, благодаря их связи с другими органами, влиянию и общему назначению этих последних, все они являются и отдельными действенными началами, обусловливающими свойственные им явления.
Теперь следует показать, что к природе применимо все то, что применимо к понятию жизни. Природа, так же как и жизнь, представляет собой порядок вещей, всецело зависимый и подчиненный в своих проявлениях, однако она бесконечно отличается от жизни тем, что, будучи обязана своим существованием высшей воле, обладает неисчерпаемыми силами и средствами для своих действий, между тем как жизнь, установленная одной лишь природой, неизбежно истощает свои силы и средства. Так как справедливость этих положений вряд ли может быть оспариваема, нам легко будет обнаружить два рода довольно распространенных заблуждений, в которые впадают многие люди относительно смысла слова природа, столь часто употребляемого ими в их выступлениях и трудах.
Из числа различных заблуждений, связанных с рассматриваемым здесь вопросом, я приведу только дна главных, а именно — заблуждение, заставляющее большинство людей думать, что природа и ее верховный творец — одно и то же11, и второе, заключающееся в том, что многие считают синонимами слова природа и вселенная, т. е. физический мир.
Я попытаюсь показать, что оба эти взгляда совершенно ошибочны, что соображения, на которые они опираются, неприемлемы и могут быть опровергнуты, что я и намерен сделать, начав с первого из упомянутых взглядов.
«Думали, что природа и есть сам бог. Таково мнение большинства людей и, только исходя из этого воззрения, соглашаются {372} признать, что животные, растения и т. д. представляют собой создания природы.
Странная вещь! Не отличают часы от часовщика, произведение от его творца! Разумеется, этот взгляд непоследователен и никогда не был глубоко продуман. Могущество, создавшее природу, конечно, беспредельно, оно не может быть ограничено или подчинено в проявлении своей воли и не подвластно никакому закону. Только оно одно способно изменять природу и ее законы, только оно одно может даже уничтожить их и, хотя у нас нет положительных знаний об этом великом предмете, наши представления об этом безграничном могуществе во всяком случае, наиболее близки к истине из всех тех, которые человек должен был создать себе о божестве, когда он смог возвыситься до этой идеи.
Если бы природа была разумным началом, она могла бы желать, могла бы изменять свои законы или, вернее, вовсе не имела бы законов. Наконец, если бы природа была самим богом, ее воля была бы свободной, ее действия не были бы вынужденными. Однако это не так: напротив, природа повсюду подчинена постоянным законам, над которыми не имеет никакой власти; таким образом, несмотря на то, что средства природы бесконечно разнообразны и неисчерпаемы, она всегда действует одинаково при сходных обстоятельствах и не могла бы действовать иначе.
Без сомнения, все законы, которым природа подчинена в своих действиях,— не что иное, как выражение установившей их высшей воли, но, тем не менее, природа является особым порядком вещей, который не способен иметь желания, который действует только в силу необходимости и выполняет только то, что он может выполнять.
Многие признают существование мировой души, якобы направляющей все движения и все изменения, происходящие в частях вселенной, к определенной цели, которая должна быть достигнута.
Не является ли эта мысль, воспроизводящая воззрения древних, которые не ограничивались признанием мировой души, но приписывали отдельную душу каждому виду тел, не является ли эта идея, повторяю, по существу сходной с той, которая заставляет в настоящее {373} время утверждать, что природа — то же, что бог? Я доказал выше, что мы имеем здесь смешение несовместимых понятий и что, поскольку природа отнюдь не является ни [особым] существом, ни разумным началом, но порядком вещей, повсюду подчиненным, абсолютно недопустимо сравнивать ее в каком бы то ни было отношении с верховным существом, могущество которого не может быть ограничено никакими законами.
Было бы подлинным заблуждением приписывать природе цель, какую-либо преднамеренность в ее действиях. Тем не менее это заблуждение — одно из наиболее распространенных среди натуралистов. Замечу только: если нам кажется, что результаты действий природы отвечают заранее поставленным целям, то это происходит лишь потому, что неисчерпаемое разнообразие обстоятельств, в которых находятся тела, подчиненное повсюду постоянным законам, первоначально сотворенным верховным творцом для цели, которую он себе поставил, устанавливает соответствие между законами, управляющими всякого рода изменениями, обусловленными этими обстоятельствами и результатами этих изменений. Это происходит и потому, что законы последних [низших] порядков зависимы и, с своей стороны, подчинены законам первых или высших порядков.
Именно в отношении живых тел и главным образом животных пытались приписывать природе преднамеренность в ее действиях. Между тем здесь, как и везде, эта преднамеренность только кажущаяся, но не реальная. В самом деле, в каждой отдельной организации этих тел порядок вещей, подготовленный причинами, которые его постепенно установили, привел только путем постепенного, управляемого обстоятельствами, развития частей, к тому, что нам кажется заранее поставленной целью и что на самом деле является не чем иным, как необходимостью. Климат, положение, место обитания, средства к существованию, забота о самосохранении, одним словом — особые обстоятельства, в которых пребывает каждая порода, обусловили привычки данной породы; последние видоизменили и приспособили органы индивидуумов. Отсюда получилось, что наблюдаемая нами гармония между организацией и {374} привычками животных кажется заранее поставленной целью, тогда как и действительности это лишь неизбежный конечный результат*.
Природа, не будучи разумным началом, не будучи даже существом, но лишь порядком вещей, образующим действенное начало, всецело подчиненное законам, природа, повторяю, не есть и сам бог. Она — только высшее проявление его всемогущей воли и из всех сотворенных вещей она самая великая и самая замечательная.
Итак, божественная воля повсюду выражается в выполнении законов природы, ибо эти законы исходят от нее. Тем не менее, эта воля не может быть этим ограничена, ибо верховное могущество, которое ее порождает, беспредельно. Между тем не менее верно и то, что среди явлений физического и духовного порядка нам никогда не удается наблюдать ни одного, которое в действительности не было бы обусловлено упомянутыми выше законами» («Введение» в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», стр. 244—247).
Перейдем ко второму заблуждению, о котором мы уже упоминали, когда шла речь о смешении понятий, обычно имеющем место при рассмотрении понятия природы, заблуждению, которое состоит в том, что многие люди считают синонимами слова природа и вселенная, или физический мир, и попытаемся его опровергнуть.
«Эти два слова: природа и вселенная, которые так часто употребляют и смешивают, эти слова, с которыми обычно связывают лишь смутные понятия, а все попытки дать точное определение каждого из них представляются некоторым безумной затеей,— необходимо, как мне кажется, строго разграничить по вкладываемому в них смыслу, так как они касаются совершенно различных предметов. Это разграничение настолько важно, что без него мы будем всегда ошибаться {375} в умозаключениях относительно всего, что наблюдаем» («Histoire naturelle des animaux sans vertebres», т. I, 239).
Для меня определение вселенной может быть только следующим, и для того, чтобы доказать его обоснованность, достаточно рассмотреть, что в сущности представляет собой материя. Вот это определение.
Вселенная есть пассивная и не обладающая собственной активностью совокупность всех существующих материальных тел.
«Таким образом, в этом определении речь идет исключительно о мире, или физической вселенной. Имея возможность обсуждать только то, что доступно нашему наблюдению, мы можем приобрести какие-либо познания исключительно о тех частях вселенной, которые мы видим, притом как о самих этих частях, так и о том, что к ним относится.
Этим ограничивается все, что мы можем с полным основанием утверждать относительно вселенной. Пытаться объяснить ее возникновение, определить все предметы, входящие в ее состав, конечно, было бы безумием. У нас нет для этого средств, мы знаем об этом слишком мало; мы знаем только, что ее существование — реальность.
Но так как материя является основой всех частей вселенной, я могу доказать, что вселенная сама по себе пассивна и лишена собственной активности и что то, что мы должны понимать под словом природа, совершенно чуждо ей» («Histoire naturelle des animaux sans vertebres», т. I, стр. 239—240).
Неоспоримо и признано философами всех времен, что материя инертна, неспособна обладать никаким собственным движением, никакой активностью и может только воспринимать и передавать движения, никогда не производя их сама. Итак, материя по существу своему пассивна12.
Эта истина, вполне очевидная по отношению к материи, кажется не всегда приложимой ко всем вообще телам, несмотря на то, что последние состоят исключительно из нее, ибо среди всех этих тел, представляющих собой не что иное, как скопление частичек материи, и в особенности среди флюидов многие кажутся обладающими {376} подлинной собственной активностью. Но легко показать, что, если флюиды кажутся наделенными активностью, то они ею обязаны либо причинам, вне их лежащим, либо случайному состоянию, отдаляющему их от того состояния, которое им вообще свойственно,— состояния, к которому они возвращаются или стремятся вернуться, как только для этого им представится возможность. Я уже убедился в реальности этих фактов по отношению к теплороду и некоторым другим флюидам, обладающим активностью при некоторых обстоятельствах, хотя временное состояние, придающее им эту активность, кажется нам длительным лишь потому, что причины, возобновляющие или поддерживающие его, тоже кажутся длительными. Даже притяжение, существование которого является вполне установленным фактом, отнюдь не противоречит утверждению о пассивности материи, присущей всем вообще телам. Этот факт заставляет только предположить, что притяжение обусловлено причиной, имеющей настолько общий характер, что мы лишены возможности ее распознать.
Таким образом, вникнув в этот важный вопрос, я считаю возможным утверждать, что совокупность различных видов материи и тел, составляющих вселенную, или физический мир, не является могущественным действенным началом и не может им быть, что она лишена собственной активности и, следовательно, не может сообщить ее ни одной из своих частей, поскольку источник всякой активности ей совершенно чужд. Столь же обоснованным кажется мне утверждение, что все части физической вселенной обладают не большей активностью, чем их совокупность, что все они на самом деле пассивны, хотя некоторые из них при известных обстоятельствах наделены способностью действовать, и что все эти части составляют единое необъятное царство природы.
Что касается целого, о котором я говорил, т. е. физической вселенной, образующей столь обширную область для [действий] природы, то я не сомневаюсь в том, что она неизменна и неразрушима, хотя ее части непрерывно подвергаются преобразованиям и изменениям, и я полагаю, что физический мир будет существовать {377} таким, какой он есть, до тех пор, пока на то будет воля его верховного творца.
Теперь я покажу, что природа отнюдь не принадлежит к той же категории, что и физическая вселенная, и что, если материя является основой всех частей физической вселенной, то она вовсе не входит в состав частей природы. И действительно, природа не является ни телом, ни существом, ни совокупностью существ или собранием пассивных предметов, но, напротив, составляет особый порядок вещей, образующий могущественное начало, всегда активное, однако зависимое во всех своих действиях.
Именно природа обусловливает существование не материи, но всех тел, хотя необходимой основой всех их является материя. И так как природе подвластна только материя и так как ее власть в этом отношении ограничивается только возможностью видоизменять ее различным образом, непрерывно превращать, преобразовывать ее отдельные массы, ее скопления, ее сочетания, различные ее соединения, то можно быть уверенным в том, что только природа делает тела такими, какие они есть, и что именно она наделяет одних из них свойствами, других — способностями, которые мы у них наблюдаем.
Что же такое, спросим еще раз, природа, если она не является разумным началом? В чем состоит этот порядок вещей, заключающий в себе такое могущество и устанавливающий сам другие виды порядка? И если этот порядок во всех своих частях нематериален, то каким путем можем мы познать его, раз все наши положительные знания первоначально происходят из ощущений? В последующем изложении я надеюсь дать ответ на все эти вопросы.
Природа — это порядок вещей, состоящий из предметов, чуждых материи и доступных нашему определению путем наблюдения тел, порядок, который в целом составляет действенное начало, нерушимое {378} в своей сущности, зависимое во всех своих действиях и непрерывно воздействующее на все части физической вселенной.
Если сопоставить это определение с тем, которое я дал понятию вселенной, являющейся не чем иным, как совокупностью всех физических и пассивных предметов, т. е. совокупностью всех существующих тел и всех видов материи, мы поймем, что оба эти порядка вещей крайне различны, строго разграничены и их не следует смешивать.
Несмотря на то, что мы никогда не отдаем себе в этом отчета, мы, под влиянием особого внутреннего чувства, никогда их не смешиваем, ибо, осознав этот незыблемый порядок вечно действующих причин, мы до некоторой степени олицетворили его, обозначив словом природа, и с этих пор мы в силу привычки пользуемся этим выражением, не задумываясь над теми точно установленными представлениями, которые должны были бы >с ним связывать.
Мы увидим сейчас, что предметы нефизические, совокупность которых составляет природу, отнюдь не являются существами и, следовательно, не являются ни телами, ни видами материи, но что, несмотря на это, они стали доступны нашему познанию путем наблюдения тел, что именно этим путем они оказались в пределах нашего понимания и что это даже единственные предметы, чуждые телам и видам материи, о которых мы можем приобрести положительные знания. Исследуем же эти своеобразные предметы и рассмотрим великое действенное начало, обусловленное их совокупностью.
Если данное мною определение природы обосновано, то из него следует, что природа — не что иное, как совокупность метафизических категорий, следовательно,— предметов, не имеющих ничего общего с частями вселенной; что источник, откуда эти предметы берут начало, непознаваем для нас и что существование их следует приписать особому творческому акту, воле всемогущего творца всех вещей; наконец, что эта совокупность образует порядок {379} вещей, неизменно действенный, обладающий средствами, делающими возможным осуществление и упорядочение всех его проявлений.
Таким образом, природу составляют:
«1. Движение, известное нам только как изменение перемещающегося тела и не присущее ни одному виду материи, ни одному телу, как таковому, но источник которого неисчерпаем, а само оно распространено во всех частях тела.
2. Законы всех порядков, постоянные и неизменные, которые управляют всеми движениями, всеми изменениями, претерпеваемыми телами, и которые вносят во вселенную, всегда изменчивую в своих частях и всегда неизменную в своем целом, нерушимые порядок и гармонию».
Подчиненное действенное начало, являющееся результатом того порядка активных начал, о котором я упоминал, всегда имеет в своем распоряжении:
«1) Пространство, о котором мы себе составили представление только на основании рассмотрения местоположения тел, как действительного, так и возможного для них; пространство, которое, как известно, неподвижно, повсюду проницаемо и беспредельно, за исключением тех его частей, которые заняты телами, и тех, которые получаются в результате измерений тел, а также мест, которые эти тела последовательно могут занимать при перемощении.
2. Время, или длительность, представляющее не что иное, как имеющую предел или не имеющую его непрерывность движения, либо существования вещей, и к измерению которой мы пришли, с одной стороны, посредством рассмотрения последовательности перемещений тела, происходящих под влиянием единообразной силы, когда мы делим на части пройденный им путь, что дает нам представление о конечных и относительных отрезках времени, и, с другой стороны, посредством сравнения продолжительности существования разных тел, сопоставляя эту длительность с конечными и уже известными отрезками времени».
Таким образом, мы можем теперь убедиться, что порядок вещей, составляющий природу, и что средства, которые последняя всегда {380} имеет в своем распоряжении, представляют собой категории, существенно отличающиеся от совокупности материальных и пассивных предметов, из которых слагается физическая вселенная. Ибо, что касается природы, то ни движение, ни законы всякого рода, порождающие ее действия и управляющие ими, ни время и пространство, которыми она беспредельно располагает, не являются свойствами, присущими материи как таковой. Известно, что материя есть основа всех физических тел, совокупность которых составляет вселенную.
Доказательством того, что природа отнюдь не является верховным действенным началом, но лишь началом подчиненным, хотя и великим, служит то, что время — необходимое условие всех ее деяний и что без него она не может осуществить ничего, абсолютно ничего; напротив, о всемогущем божественном начале мы должны были составить себе понятие, как о начале, для которого нет ничего невозможного. Оно творит предметы согласно своей воле и дает им бытие, причем для образования их ему вовсе не нужно время. Для природы это, конечно, неосуществимо. Поэтому мы можем постичь средства, которыми располагает природа, но наш слабый ум никогда не сумеет понять безграничную силу, которая произвела все существующее и, следовательно, сотворила и самую природу.
При помощи наблюдения над телами мы могли познать, что, в сущности, составляет природа, и получить о ней представление; точно так же мы могли получить понятие и о вселенной, или о мире физическом, рассматривая существенные его части. Отсюда следует, что определение, данное мною этим двум порядкам вещей, будучи доведено до предельной своей простоты, дает самое точное и самое верное представление о каждом из них. Природа — это активность, это законы и средства безграничные, хотя и повсюду зависимые; вселенная — это совокупность огромного числа пассивных, бездеятельных по самой своей сущности предметов, которой и ограничивается область господства природы.
За исключением самой высокой мысли человека, а именно той. которая позволила ему подняться до познания верховного существа, может ли быть для него что-нибудь более значительное, {381} чем рассматриваемый мною предмет, который ему совершенно необходимо изучать со всех точек зрения! Познание природы не должно ограничиваться лишь удовлетворением любознательности, и я мог бы доказать, что из всего того, чем может заниматься человек, оно больше всего заслуживает внимания и что почти все зло, которое преследует человека в этом мире, является результатом его пренебрежения к природе. Только путем познания природы и последовательного изучения тех ее законов, которые имеют отношение к его физическому существу, человек может извлечь из своих наблюдений единственно реальные преимущества, столь полезные ему как для самосохранения и благополучия, так и для взаимоотношений с себе подобными.
Но что касается отношений между природой и вселенной, или частями физического мира, то это, без сомнения, вопрос, возбуждающий нашу любознательность, правда, любознательность, имеющую поистине философскую основу,— вопрос, вполне заслуживающий глубоких размышлений человека, который один только и может постичь его. Займемся же рассмотрением этого вопроса, чтобы получить о нем, если это окажется возможным, правильное представление; при этом уделим особенное внимание его сторонам, имеющим непосредственное отношение к нам самим, выясним огромные преимущества, извлекаемые из изучения этого вопроса и применения знаний, которые это изучение нам дает, чтобы надлежащим образом и с пользой для себя управлять всеми своими поступками.
«Человеку наблюдающему и мыслящему картина вселенной, в которую природа внесла жизнь, без сомнения, представляется весьма внушительной: она способна привести в волнение, поразить его воображение, возвысить его дух, побудив его подняться до познания высоких идей. Все, что он видит, ему кажется проникнутым движением, то действительно происходящим, то сдерживаемым находящимися в равновесии силами. Повсюду он замечает различного рода взаимодействия тел, перемещения, движения, всевозможные превращения и изменения, наконец,— разрушение и образование новых тел, в свою очередь разделяющих участь других, им подобных, {382} но переставших уже существовать; он видит непрерывное воспроизведение, подчиненное, однако, влиянию обстоятельств, обусловливающих изменения его результатов, одним словом,— он видит поколения, непрерывно и быстро сменяющие друг друга и в некотором роде, как принято говорить, «устремляющиеся в бездну времен».
Наблюдатель, о котором я говорю, вскоре перестает сомневаться в том, что область господства природы охватывает все вообще тела. Он постигает, что эта область включает в себя не только тела, составляющие обитаемый нами земной шар, т. е. что природа не ограничивается созданием, изменением, увеличением числа, разрушением и непрерывным возобновлением животных, растений и неорганических тел на нашей планете. Было бы, без сомнения, заблуждением думать, что все сказанное относится только к тому, что мы видим, ибо существующее повсюду движение и его действующие силы, вероятно, нигде не находятся в состоянии постоянного и полного равновесия. Следовательно, область, о которой идет речь, охватывает все части вселенной, каковы бы они ни были, и известные или неизвестные нам небесные тела в свою очередь неизбежно подвластны влиянию сил природы. Мы имеем даже полное основание думать, что, как бы медленно ни протекали изменения, производимые природой в этих огромных телах вселенной, все они, тем не менее, подчинены им, так что ни одно физическое тело не обладает абсолютным постоянством.
Итак, всегда деятельная, всегда бесстрастная природа, возобновляя и изменяя тела всех видов, не предохраняя ни одно из них от разрушения, раскрывает перед нами величественную и необозримую картину и указывает на заключающееся в ней особое начало, которое действует, только подчиняясь необходимости.
Такова совокупность вещей, составляющая природу, в существовании которой мы убеждаемся путем наблюдения; совокупность, которая не могла возникнуть сама собой и не властна ни над одной из своих частей; совокупность, слагающаяся из вечно деятельных и управляемых законами причин, или сил, и из средств, необходимых {383} для осуществления их действий; наконец, совокупность, порождающая могущественное начало, зависимое во всех своих действиях и, тем не менее, чудесное во всех своих проявлениях.
Познание природы доказывает существование ее творца и питает самую возвышенную мысль человека, так сильно отличающую его от других существ, обладающих менее развитым умом,— существ, которые никогда не могли бы подняться до столь возвышенной мысли. Если добавить к этой истине следующую, а именно, что наши положительные знания не охватывают всего того, что вообще может существовать, то мы поймем, что они дадут нам средства, позволяющие опровергнуть ложные умозаключения, которые порождают безнравственность.
Продолжим наши рассуждения о природе, позволяющие установить правильный взгляд на нее.
Так как природа является тем могущественным началом, которое производит, возобновляет, изменяет, перемещает, наконец, слагает и разлагает различные тела, составляющие часть вселенной, то понятно, что всякое изменение, всякое образование, всякое перемещение совершается только в соответствии с ее законами, и хотя обстоятельства могут иногда изменять результаты ее действий и действия законов, которые при этом должны быть применены, все же эти изменения управляются законами природы. Таким образом, известные неправильности в ее действиях, известные уродства, как бы противоречащие ее обычному пути, потрясения, претерпеваемые физическими телами, наконец, гибельные столь часто последствия человеческих страстей, все это — не что иное, как результаты ее собственных законов и обстоятельств, имевших при этом место. Да и, помимо того, разве неизвестно, что слово «случай» свидетельствует только о нашем незнании причин [того или иного явления]!
Ко всему этому я добавлю, что [кажущиеся] нарушения порядка в природе вовсе не являются нарушениями, но представляют собой лишь факты, связанные с общим порядком вещей, одни — мало нами изученные, другие — касающиеся тех отдельных объектов, {384} интересы сохранения которых несовместимы с этим общим порядком» («Введение» в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», стр. 242—243; 247—249)14. Рассмотрение этих последних фактов показывает, что мы называем нарушением все, что вредит или может вредить нам, самонадеянно полагая, что наше благополучие есть единственная цель, ради которой была создана природа.
Человек, находясь на поверхности обитаемой им земли и наблюдая, что в любом ее месте он окружен множеством различных тел, из которых многие непрерывно и непосредственно связаны с его физическим существом, и что все эти тела представляют собой создания природы, подчиненные в своих разнообразных изменениях ее законам, не может усомниться в том, что его собственное тело, подобно всем другим телам, также составляет часть вселенной, ибо оно столь же материально, как и они, и подчинено власти природы и ее законам, управляющим живыми телами, в частности — законам, относящимся к животным.
Наконец, человек не может не признать, что все способности, которыми он обладает,— не что иное, как явный результат деятельности его органов (следовательно, представляют собой явления физические), и что они разделяют судьбу этих органов. Может ли человек после всего этого относиться безразлично к познанию природы и тех ее законов, которые имеют отношение к его физическому существу, к познанию множества разнообразных факторов, непрерывно влияющих на его органы, на целостность или ослабление их функций, а также на постоянно испытываемые различные изменения его состояния?
Как понять, что человек, стоящий по своим умственным способностям неизмеримо выше всех других существ того царства, к которому он принадлежит, и, без сомнения, более, чем они, способный {385} сознавать свои подлинные интересы, как понять, повторяю, что он, несмотря на это, настолько пренебрегает тем могущественным началом, от которого он всецело зависит во всем, что связано с его физическим существом, что никогда не дает себе труда уделять ему внимание! Вместо того чтобы посвятить себя неустанному изучению природы и тех ее законов, которые при любых обстоятельствах имеют отношение к нему самому и к его интересам, чтобы не противостоять им своими действиями, он предпочитает оставаться невежественным в этой области, сохраняет привитые ему предрассудки, предается неразумным желаниям, подпадает под власть склонностей и страстей, идущих вразрез с его более важными интересами и даже с его самосохранением. Всегда увлекаемый страстями, никем не руководимый, всегда чему-либо подвластный, то раб, то даже жертва, человек, в сущности, очень жалок!
Человек плохо знает то, что ему необходимо было бы знать о природе своей организации, о деятельности своих органов, их взаимной зависимости, о природе тех явлений, которые они могут произвести, и, наконец, об источнике способностей, которыми он обладает, так же как и о средствах для их постепенного совершенствования. Еще менее ему известно, чем он должен руководствоваться в своих отношениях с себе подобными и в какой мере подчинены законам природы как его собственные действия, так и действия других индивидуумов его вида. Кроме того, слишком часто вводимый в заблуждение ложным знанием, которое, представляя в неверном свете множество рассматриваемых им предметов, заставляет его слепо доверять основанным на этом ложном знании суждениям как относительно своих собственных поступков, так и поступков других людей, он обманывается в своих чаяниях и начинает сомневаться в том, не приносят ли ему умственные способности больше вреда, чем пользы. Наконец, приписывая все свои несчастья враждебной судьбе — року, тогда как на самом деле они проистекают только из его ложных расчетов и незнания законов природы, с которыми он всегда вступает в противоречие, он упорно пренебрегает тем могущественным началом, от которого во всем зависит, и вследствие {386} этого подвергается бедствиям, являющимся неизбежным результатом его беспечности и его непоследовательности.
Человек должен знать, что все без исключения тела, как неорганические, так и те, которые наделены жизнью, во всем подчинены законам природы; что, следовательно, и явления, производимые этими телами или некоторыми их частями, также подчиняются тем же законам, иными словами, что вое, доступное его наблюдению, всецело находится в той же зависимости. Тогда он поймет важность познания и непрерывного изучения того могущественного и абсолютного начала, от которого зависят его долголетие, благополучие, его склонности, мысли и действия.
Люди, вы, имеющие перед всеми остальными живыми существами столь великие преимущества в способностях и средствах, которыми вы располагаете, но которых природа поместила, как и всех их, в этот безграничный, увлекающий вас поток, всмотритесь же в движение этого потока, изучайте многочисленные подводные камни, находящиеся в его глубинах, и научитесь их распознавать, если не хотите стать жертвой ложных направлений, которые, вследствие вашего незнания этих подводных камней, вы можете придать своим действиям, ставя их в противоречие с властвующим над вами порядком вещей15.
Укажем теперь важнейшие предметы, долженствующие привлечь внимание человека при изучении тех законов природы, знание которых для него особенно важно, так как одни из этих законов имеют отношение к его физическому существу, а другие — к его спокойствию и счастью.
Если человек, различая мысленно физическое от того, что принято называть духовным, подразумевает под этим различие между органами и явлениями, обусловленными функциями этих органов, и применяет это различие преимущественно к тем органам и функциям, которые дают ему представления, побуждают его сравнивать, судить и мыслить, то он поймет, что как физическое, так и духовное всецело относится к области природы. Он найдет, что и органы и их функции действительно управляются ее законами, увидит, что и те {387} и другие одинаково способны к развитию, что они могут достигать той или иной высоты, большей или меньшей степени совершенства, наконец, могут претерпевать более или менее значительные нарушения своей целостности, причем всегда сохраняется полное соответствие между физическим и духовным. Эти соображения, неизменно подтверждаемые фактами, показывают человеку, насколько для него важно упорядочить путем наблюдения законов природы все, что касается его физической природы или того, что связано с ней — с одной стороны, и все то, что относится к актам его мышления — с другой.
Что касается его физической природы, то человек должен уделять свое внимание двоякого рода соображениям, причем знание законов природы ему абсолютно необходимо как в одном, так и в другом случае.
Соображения первого рода заставляют человека изучать свою собственную организацию, законы, управляющие различными ее проявлениями, а также законы, которым подчинены функции разных его органов, далее — причины, которые могут нарушить гармонию этих органов и повлиять на их способности. Он старается внести здесь исправления, не вступая при этом в противоречие с законами природы.
Помимо желательности более широкого сравнения с организацией других животных, что обогатило бы его новыми знаниями, я не мог бы ему ничего предложить в этом важном вопросе, поскольку ничего им здесь не было упущено.
Соображения второго рода должны заставить человека изучать различные внешние факторы, оказывающие на его тело многообразные, нередко весьма значительные воздействия, часто вредящие его здоровью, причиняющие болезни и наносящие ущерб его самосохранению. Несмотря на важность этого вопроса, человека можно упрекнуть в том, что он до сих пор им пренебрегал. В связи с этим я мог бы представить много соображений, но ограничусь указанием на те стороны этого изучения, которыми ему необходимо наконец заняться. {388}
В самом деле, человек постоянно [как бы] погружен в атмосферу, у ее основания, и выдерживает ее вес и давление со всех сторон; помимо того, его всегда окружают различные деятельные флюиды, движущиеся, невидимо для него, в толще этой атмосферы, причем одни из них воздействуют на него извне, между тем как другие проникают более или менее быстро внутрь его тела. Таким образом, человек от времени до времени подвергается разнообразным, иногда чрезвычайно сильным воздействиям со стороны множества окружающих его факторов, которые, в свою очередь, претерпевают подчас весьма значительные изменения в своем движении, перемещении, плотности и силе действия.
Результаты этих различных воздействий, испытываемых также и животными, проявляются у человека в следующем: они то ослабляют активность его жизненных движений и функций его органов, видоизменяют вырабатываемые или выделяемые последними продукты, иногда совершенно приостанавливают образование некоторых из них и, наконец, подготавливают почву для различных болезней или даже вызывают их; то, напротив, повышают жизненную энергию, увеличивают интенсивность действия плотных частей, одним словом, производят действия, прямо противоположные первым, однако при известных обстоятельствах и это, в свою очередь, может оказаться очень вредным.
Упомянутые перемещения и движения флюидов окружающей среды почти всегда связаны с изменениями, происходящими в атмосфере, но так как последние сами вызываются различными причинами, из которых главные, доступные нашему наблюдению, подчинены определенному порядку в своих крайних проявлениях и поддаются определению в своей повторяемости, то путем надлежащего планомерного изучения мы имеем возможность предсказать время, когда вынуждены будем подвергнуться влиянию по крайней мере самых важных из этих воздействий.
Здесь я рассматриваю только воздействия, непосредственно влияющие на тело человека и обусловленные значительными изменениями в атмосфере, а также изменениями различных содержащихся {389} в ней флюидов. Человек должен всесторонне изучать эти воздействия, так как только тогда он сумеет принять меры предосторожности, чтобы не сделаться их жертвой, но он не должен ограничиваться только тем, чтобы обезопасить себя от их вредных влияний. Известно, что резкие изменения в атмосфере слишком часто губят и разрушают то, что представляет для него самую большую ценность. Кто не знает, что ливни, град, грозы, ураганы и бури разоряют его жилище, уничтожают имущество, причиняют неисчислимые убытки, а в некоторых случаях даже подвергают опасности и самую его жизнь?
Между тем человек остается равнодушным к причинам столь опасных для него явлений и, хотя он не может сомневаться в том, что эти причины управляются законами и подчинены определенному порядку, он не прилагает никаких усилий, не предпринимает никаких исследований, чтобы заранее установить, когда именно ему грозит опасность подвергнуться всем этим воздействиям!
Выше мною было указано, что соображения двоякого рода должны привлечь внимание человека к его физической природе, а именно: необходимость познания всего того, что имеет отношение к его собственной организации, а также познания внешних причин, которые могут нарушить гармонию в ней. Человеку чрезвычайно важно знать законы природы, относящиеся ко всему тому, что связано с этими двумя предметами. Теперь я перейду к вопросу, еще менее изученному и более тонкому,— вопросу, который, если рассматривать человека как существо общественное, так же интересен, как и предыдущие.
Я имею в виду важность изучения законов природы в связи с тем, что принято называть духовной стороной человека и что является источником его поступков.
Я не намерен дать здесь глубокий и всесторонний анализ этой обширной темы. Моя задача и тем более мои возможности не позволяют мне сделать это, но, будучи убежден в необходимости раскрыть основы, т. е. установить главные исходные пункты, которые одни только могут дать средства для плодотворного развития этих {390} вопросов, я решил изложить здесь свое мнение об этом важном предмете.
Человек получил от природы склонности, которые, в зависимости от окружающих обстоятельств, развиваются сильнее или слабее. Я рассмотрел эти склонности в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres» (т. I, стр. 200), к которой и отсылаю читателей.
У одних людей, под влиянием нужды, тяжелого и зависимого положения, почти все склонности как бы уничтожаются; у других, находящихся в лучших условиях, та или иная склонность может развиться и даже превратиться в страсть; наконец, у третьих занимаемое ими положение в обществе еще более благоприятствует развитию многих склонностей, хотя почти всегда одна из них становится господствующей и, если она превращается в страсть, то ослабляет или, по-видимому, подавляет все остальные. Развитие природных склонностей обнаруживается особенно отчетливо у людей, занимающих высокое общественное положение.
Несомненно, что в этих достигших сильного развития склонностях следует искать причину, оказывающую наибольшее влияние на направление поступков человека. Но это направление зависит также в большей или меньшей степени от суждений данного индивидуума, от того, насколько эти суждения правильны, т. е. насколько они опираются на приобретенные знания и опыт.
Вот, по-моему, наиболее пригодные исходные точки для раскрытия подлинного источника поступков человека, столь несхожих между собой, столь многообразных, противоречивых и подчас даже странных.
Непрерывное стремление человека к благополучию или к улучшению условий своего существования заставляет его беспрестанно искать нового положения и всегда возлагать надежды на будущее. Это стремление вызывает у непросвещенных людей растущую склонность к суеверию, жажду чудес, равнодушие к серьезным мыслям и даже к самой истине, пристрастие к приятным иллюзиям, наконец, внушает им ложные страхи и обманчивые надежды. {391}
Такой строй мыслей и чувств, свойственный огромному большинству людей, привел к тому, что наиболее ловкие индивидуумы получили возможность злоупотреблять доверием остальных и подчинять их себе. Вследствие такого положения вещей господствующему меньшинству легко удалось превратить все установления, созданные первоначально в интересах сохранения общества, в самодержавную власть. Таким образом, невежество и чрезвычайно узкий кругозор большинства — вот главные причины морального зла, угнетающего человека во многих цивилизованных странах16.
Рассмотрим теперь, каким путем человек может избавиться от иллюзий, которые приносят ему больше вреда, чем пользы.
Если бы человек научился отличать истины, доступные его познанию, от иллюзий, которые он себе создает, т. е. от тех своих взглядов, которые не имеют под собой почвы, иными словами, если бы он научился отличать положительное, например, факты, от того, что является результатом его умозаключений, пусть даже по поводу самих фактов или сделанных на их основе выводов; если бы он, помимо того, понял, что представления могут быть приобретены им только путем наблюдения, путем выводов из наблюдаемых фактов; наконец, если бы он признал, что всякое представление, не выведенное из наблюдения или не являющееся следствием фактов, послуживших предметом наблюдения, не должно иметь для него никакого значения, то он был бы избавлен от многих обольщений и заблуждений, которые часто имеют для него столь пагубные последствия.
Самой насущной необходимостью для человека, наиболее заслуживающей его внимания, является необходимость понять, насколько важно для него ясно мысленно начертать границы тех положительных знаний, которые он может приобрести, и составить правильное представление о них, чтобы ни при каких обстоятельствах не поддаваться всегда бесплодному искушению выйти за их пределы и тем самым быть одураченным теми, кто хотел бы ввести его в заблуждение. Культивирование области реального, о которой здесь {392} идет речь, покажет ему, что знания, которые он может получить, бывают двух родов, а именно: 1) факты, установленные путем наблюдения, всегда являющиеся для него неоспоримыми истинами; 2) выводы, сделанные на основе фактов, послуживших предметом наблюдения, в свою очередь, могущие быть такими же положительными истинами, хотя чаще всего эти выводы оказываются ошибочными, так как они зависят от суждений. Однако при помощи изучения и размышления человек может сделать эти выводы более правильными и тогда, пользуясь ими, он приобретает возможность познать многие истины. Итак, для человека не существует иных доступных его пониманию истин, иных достоверных знаний, кроме тех, которые он может почерпнуть из наблюдаемых фактов, и кроме тех выводов, которые он может сделать из этих фактов, при условии, если в его распоряжении имеются все элементы, служащие основой для этих выводов. Вне этого, вне области реального, единственное, чем он может располагать,— это его иллюзии, и он действительно с легкостью создает себе множество отрадных иллюзий, которыми упивается. Однако все они могут принести ему скорее вред, чем пользу.
Тем не менее, хотя человеку приходится ограничивать свои знания изучением доступных ему физических предметов, он не должен сомневаться в возможности существования иных предметов, составляющих истины, познание которых для него недостижимо, ибо человек, не будучи в состоянии установить при помощи своего разума направление воли верховного творца всех вещей, могущество которого беспредельно, конечно, не может знать, какова воля бога, что ему угодно было совершить, и в этом вопросе он не может ничего ни утверждать, ни отрицать. А раз ему не дано познать ни одной из этих истин, то заменять их собственными предположениями было бы явным безумием. Будучи глубоко убежден в обоснованности приведенных мною положений и желая облегчить человеку определение круга полезных ему знаний, большая часть которых имеет Для него чрезвычайно важное значение, я предлагаю следующий обзор источников всех тех истин, к познанию которых он может прийти.
| {393} |
1. Физический мир, наблюдаемые части которого, обладая всегда активностью, неизменным порядком и гармонией, возвысили мысль человека до познания верховного творца всего существующего.
2. Природа, т. е. тот нерушимый порядок вещей, который распространяет и сохраняет активность в частях физического мира и который при помощи соответствующих законов управляет всеми наблюдаемыми в нем движениями и изменениями, безраздельно властвует над всеми телами и всеми явлениями, которые эти тела способны осуществлять.
3. Законы всех порядков, управляющие всеми движениями, всеми изменениями, наблюдаемыми в телах.
4. Конечные части пространства, измеряемые местом, занимаемым телами, и расстоянием, отделяющим их друг от друга, а также расстоянием, которое они проходят при своем перемещении.
5. Определенные отрезки времени, измеряемые перемещениями тел при равномерном движении или продолжительностью существования некоторых из этих тел.
6. Движение, которое распространено повсюду, имеет неистощимый источник, познается путем наблюдения тел и вызывает у одних тел перемещения, у других — движения их частей и различного рода изменения.
7. Материя, из которой слагаются все части вселенной, или физического мира, а также тела, которые всегда из нее состоят и совокупность которых составляет область, подвластную исключительно природе.
8. Наружная форма, свойства и внутреннее строение неживых тел и организация тех тел, которые наделены жизнью.
9. Общие и частные свойства тел, а также результаты тех отношений, которые существуют или могут существовать между ними. {394}
10. Строение тел, независимо от способа сочетания или соединения их молекул, образующих массы; явления, относящиеся к соединению основных начал в каждой сложной составной молекуле, наконец — видовая индивидуальность.
11. [Процессы] изменения, разложения, соединения, обновления и воспроизведения, наблюдаемые у многих тел и, по всей вероятности, имеющие место, то одни, то другие, у всех вообще тел.
12. Количества, выражающиеся числами или размерами, применительно к телам, к определенной длительности их существования, или к изменению их положения в ограниченном пространстве, если речь идет о телах, способных перемещаться, наконец,— в применении к исчислениям, касающимся этих тел, или к отвлеченным величинам.
13. Явления, относящиеся к организации живых тел в целом или к функциям специальных органов; наиболее важные из этих явлений, наблюдаемые у некоторых животных и особенно у человека, могут достигать развития, предел которого не поддается определению; они составляют у каждого индивидуума его внутреннее чувство, его склонности, его способность приобретать представления и производить над ними различного рода операции; наконец, всевозможные причины, вызывающие действия живых тел или возбуждающие их.
14. Особые совокупности разнообразных тел, различимые по тем отношениям, которые их объединяют, совокупности, устанавливающие среди наблюдаемых тел особые различия, например, принадлежность к определенному царству, классу и т. д.; искусственные подразделения, применяемые как в естественной истории, так и в астрономических и физических науках.
15. Наконец, результаты склонностей, влечений и потребностей человека, результаты, которые определяют нравы и обычаи, изменяющиеся в зависимости от времени, климата и уровня цивилизации; взгляды, верования, различные установления, наиболее выдающиеся деяния. Отсюда его история, воспроизведенная с большей или меньшей степенью точности, памятники его трудов и дел, {395} произведения, созданные его воображением, философия, наука и т. д.
Вот точные границы области реального, доступной человеку, области, заключающей в себе различные источники, из которых он черпает все свои представления, даже относящиеся к сфере его воображения; области, которая одна только и дает ому реальные знания и всегда может обеспечить его бесчисленным множеством других знаний; наконец,— области, где он может найти те единственные истины, которые ему дано открыть.
Эта область, заключая в своих границах только те части вселенной, которые доступны познанию человека, а также природу, оживляющую предметы, составляющие это великое целое, и управляющую ими, без сомнения, необъятно велика, и поэтому человек никогда не сможет исчерпать ее. Быть может, она и весьма ограничена по сравнению с тем, что вообще существует, но человеку не дозволено выйти за ее пределы и познать что-либо, что не является ее произведением. Вот истины, имеющие первостепенное значение, истины, знать которые необходимо человеку, потому что только они помешают ему отклониться от правильного пути. Между тем именно эти истины ускользнули от внимания философов всех времен.
Все знания, которыми человек может обеспечить себя, разрабатывая обширную область реального путем наблюдения фактов, которые она раскрывает перед ним, и путем рассмотрения выводов, которые он может извлечь из этих фактов, конечно, приносят ему пользу прямо, либо косвенно. Ни одна из истин, которые он способен открыть в этой области, не только не может причинить ему вреда, но всегда окажется для него полезной. Только заблуждения для него опасны. Поэтому, хотя он может прийти к открытию многих истин благодаря выводам, получаемым из наблюдения фактов, но пользоваться этими выводами, представляющими собой не что иное, как плод его суждений, он должен крайне осмотрительно, тем более осмотрительно, чем менее совершенно его знание природы.
И вот, если сотворенная материя относится исключительно к {396} области господства природы и если, вследствие неисчерпаемой активности, которая составляет неотъемлемую часть этого порядка вещей, всякое тело, независимо от его сложения, формы или особенностей и от того, куда его следовало бы отнести, действительно должно быть признано созданием природы; если, далее, тела вообще обязаны именно этому порядку вещей и движением масс, и возбуждением частей, и изменением состояния, и разрушением, возобновлением и всеми воздействиями, производимыми ими друг на друга, а также всеми явлениями, которые отсюда вытекают, и наконец,— явлениями, производимыми некоторыми телами, причем все эти явления управляются законами природы; если, наконец, тело человека, как и все остальные тела, всецело подвластно природе, а все то, что относится к этому телу и все, что от него происходит, также подчинено ей, в частности — тем ее законам, которые управляют его развитием, изменением состояния, явлениями его организации, его внутренним чувством, его склонностями, направлением его мыслей,— то сколь важно должно быть для человека изучение или познание природы, от которой он в такой степени зависит!
В самом деле, какая другая наука могла бы принести ему более непосредственную пользу, чем естественная история,— наука, предметом которой является познание природы, ее законов, действий, ее созданий; наука, занимающаяся не только доступными нашему восприятию телами, к какому бы царству они ни принадлежали и в каком бы положении они ни были, но, кроме того, и движениями, наблюдаемыми у многих из них, возбуждениями, которые испытывают их части, результатами существующих между ними отношений, медленными или быстрыми изменениями, претерпеваемыми ими, явлениями, протекающими как вне, так и внутри их и в свою очередь, вызываемыми теми же взаимоотношениями, наконец,— законами, управляющими этими движениями, возбуждениями и изменениями, одним словом,— всеми этими явлениями при всех обстоятельствах?
Если все это составляет предмет естественной истории, то человек должен признать, что эта наука действительно самая возвышенная {397} и самая важная из всех наук, которыми он может заниматься, ибо по своей физической природе он, подобно всем остальным телам, всецело зависит от воздействий, порождаемых его взаимоотношениями со множеством этих тел, а также от действий, возникающих в результате всевозможных движений в его частях, от изменений, которые при этом происходят, и от законов, управляющих как явлениями его организации, так и всем тем, что он испытывает под влиянием множества различных обстоятельств. Отсюда следует, что изучение и знание всего этого представляет величайшее значение, для того чтобы его действия не противоречили тому порядку и той силе вещей, которым он всецело подвластен.
Пусть же человек, стоящий по своим способностям неизмеримо выше всех существ, обитающих, подобно ему, на земном шаре, не пренебрегает изучением законов природы, в том числе законов, управляющих деятельностью его ума, внутреннего чувства, а также склонностей, которыми последнее его наделяет. Наблюдаемые им факты должны ясно показать, что явления, представляющиеся ему столь необыкновенными и чудесными,— не что иное, как чисто органические явления, неизменно связанные с состоянием его органов и неизбежно подчиненные силам и законам природы. Поэтому знание всех законов, обусловливающих его склонности, вызывающих развитие тех или иных из них и оказывающих, в зависимости от обстоятельств его положения, столь сильное влияние на все его поступки, стало для него абсолютной необходимостью при том уровне цивилизации, которого он достиг.
Моралисты тщетно пытаются найти источник поступков человека в том громадном разнообразии обстоятельств, в которых он оказывается, находясь в обществе себе подобных, особенно если цивилизация в его стране достигла высокого уровня развития. Не изучив в достаточной мере ни природы, ни ее законов, управляющих поступками человека, служившими предметом их исследований, ни изменений, вызываемых особыми у каждого индивидуума обстоятельствами, они очень часто считали эти поступки необъяснимыми и не сумели обосновать такие принципы, которыми можно было бы {398} руководствоваться, чтобы все поступки отвечали подлинным интересам тех, кто их совершает.
Для полного развития этой темы, для понимания связи причин, постоянно управляющих действиями человека и делающих их столь разнообразными соответственно особым обстоятельствам, в которых находятся индивидуумы, я снова отсылаю читателей к м?оей «Histoire naturelle des animaux sans vertebres» (т. I, стр. 200), где я описал природные склонности человека, являющиеся обычно источником его поступков, и рассмотрел ту причину, которая эти склонности порождает.
Здесь я прибавлю только, что, по моему мнению, величайшей услугой, которую можно оказать человеку как члену общества, было бы предложить ему три правила, выраженные в форме принципов. Первое — чтобы помочь ему приобрести правильный образ мыслей, научив отличать то, что является не чем иным, как предрассудком или предубеждением, от того, что является или может для него быть положительным знанием; второе — чтобы направить его взаимоотношения с себе подобными соответственно его подлинным интересам; третье — чтобы с пользой для него ограничить его привязанности, которые могут быть внушены внутренним чувством и возникающим под влиянием последнего личным интересом. Правила, о которых идет речь и которые я ему предлагаю, сводятся к трем следующим принципам:
Первый принцип. Всякое знание, не являющееся непосредственным результатом наблюдения или выводов, полученных из наблюдений, не имеет прочного основания и всегда оказывается призрачным.
Второй принцип. В отношениях, существующих как между индивидуумами, так и между различными общественными группами, образуемыми этими индивидуумами, или между народами и их правительствами, согласованность взаимных интересов является основой добра, противоречие этих интересов — основой зла.
Третий принцип. Что касается влечений и привязанностей человека как члена общества, то естественная его привязанность {399} к семье, привязанность ко всему, что его окружало в прошлом или связано с его молодостью, и всевозможные другие его привязанности — все это никогда не должно находиться в противоречии с общественными интересами, т. е. с интересами народа, частью которого данный индивидуум является.
Быть может, я сильно ошибаюсь, полагая, что было бы трудно заменить эти три принципа другими — более полезными, более обоснованными и более нравственными, чем те, которые я предложил в качестве основ для мышления, суждения, чувствований и поступков цивилизованного человека. Я даже глубоко убежден, что чем больше человек удалится в своих мыслях, чувствованиях и поступках от трех указанных принципов, тем тяжелее станет его обычно и без того печальное положение как члена общества, потому что его поступки, противоречащие этим принципам, неизбежно связаны с угнетением, вероломством, всевозможными притеснениями и несправедливостями, влекущими за собой многочисленные социальные бедствия и иногда порождающие бесчисленные смуты.
К указанным причинам зла необходимо, как мне кажется, присоединить несколько других, имеющих еще более важное значение, а именно:
1. Полное незнание принципов, порядка и природы вещей. Я уже упоминал об этом и показал, что у очень многих людей это незнание влечет за собой почти безграничное легковерие, которым умеют пользоваться те, кто вследствие своего положения заинтересован в том, чтобы его поддерживать, извлекать из него выгоды и держать в зависимости преобладающее большинство [людей].
2. Ложное знание, являющееся результатом полузнаний и ошибочных выводов из неглубоких и неправильных суждений. Оно свойственно весьма многим людям, которые считают, что они могут рассуждать о том или ином предмете без предварительного основательного изучения его и даже не выяснив, отвечает ли их подход указанным мною выше принципам или природе вещей. Это ложное знание на долгое время задерживает развитие положительных знаний человека и создает почти непреодолимые трудности для открытия {400} истин, постоянно подменяя последние кажущимися правдоподобными заблуждениями. Именно вследствие этого ложного знания философия науки все более и более утрачивает столь необходимую ей простоту; ее внутренняя связь с законами природы мало-помалу исчезает, и теории этих наук, загроможденные несметным количеством деталей, в которые они непрерывно углубляются, насыщенные затемняющими их ошибочными воззрениями, становятся все менее и менее удовлетворительными. Таким образом, совершенно очевидно, что ложное знание, влияние которого, к несчастью, слишком велико, влечет за собой множество заблуждений всякого рода и бесплодных исследований, тормозящих изучение природы и препятствующих познанию самых полезных истин, и тем самым лишает человека, живущего в обществе ему подобных, тех знаний, приобретение которых могло бы значительно уменьшить испытываемые им злоключения.
3. Злоупотребление властью, свойственное вообще всем тем, кто является ее носителем, злоупотребление, которое почти невозможно устранить, ибо все люди обладают одинаковыми склонностями и с трудом могут освободиться от тех из них, которые побуждают их все приносить в жертву своим страстям всякий раз, когда для этого предоставляется возможность. Мне кажется, что именно эта причина больше всего способствовала упрочению тяготеющего над человечеством зла, так как общественные установления, создание которых первоначально имело своей целью только общее благо, чаще всего служат лишь для укрепления благополучия небольшого числа людей, во вред и в ущерб большинству, в интересах которого они некогда были созданы.
Действительно, всеми признано теперь, что во всякой цивилизованной стране необходимы законы для сохранения установленного порядка и что эти законы вызвали создание особых учреждений, облеченных властью и средствами для выполнения их и наблюдения за их проведением в жизнь; всеми признано, повторяю, что единственным назначением установлений, о которых идет речь, должно было быть благо общества в целом. Но если то или иное общественное {401} установление, как бы полезно оно ни было в принципе, не выполняет этого назначения, если результатом его чаще всего является произвол, то чему можно приписать это, как не только что указанной мною причине? Если бы не эта вечно действующая причина, если бы не склонности, данные человеку природой, среди которых бесспорно наибольшее значение имеет склонность господствовать и руководствоваться исключительно своими личными интересами, отдавая им предпочтение перед всеми другими, то различные органы власти, установленные человеком в интересах обеспечения и охраны общего блага, не упустили бы из вида ту цель, ради которой они были созданы; сама эта цель не была бы предана забвению, но была бы повсюду признана и, как следствие этого, безопасность и благополучие членов общества, так же как и обусловленный этим порядок, никогда не пострадали бы.
Только неустанное стремление найти истины, к познанию которых человек, как член общества, может надеяться прийти, позволит ему улучшить свое положение и обеспечить ему возможность использовать те преимущества, на которые он имеет право рассчитывать при данном уровне цивилизации. Многие из этих истин уже найдены. Просвещение, несмотря на бесчисленные препятствия, которые непрерывно создают ему невежество и особенно ложное знание, мало-помалу распространяется и изо дня в день делает заметные успехи. Рано или поздно наступит время, когда будут разрушены заблуждения, и вечная и незыблемая истина пробьется сквозь окружающую тьму, рассеет иллюзии, поколеблет авторитеты и восторжествует над невежеством и варварством. Мы видим уже, как общественный разум, обогашенный опытом, постепенно освобождается от заблуждений и как принципы здоровой философии, признанные и освященные столькими знаменитыми авторами, проникают в самые отдаленные страны, оказывают могущественное влияние на судьбы народов и подготавливают единственный путь, который может с течением времени освободить человечество от многих угнетающих его бедствий, по крайней мере поскольку это допускает порядок вещей, установленный верховным творцом всего существующего. {402}
Среди истин, которые человеку удалось постичь, одна из наиболее важных — это, без сомнения, та, которая дала ему возможность понять, что первой и главной целью всякого общественного установления должно быть, как мы это видели выше, благо всех членов общества, а не одной только его части. Несмотря на это, интересы меньшинства противоречат интересам большинства, и интересы личности обычно берут перевес над всеми остальными. Но есть еще одна истина, которую человеку не менее важно знать и которую он, пожалуй, должен поставить выше всех остальных открытых им, если принять во внимание то исключительное значение, которое она может иметь для него. Эта истина, будучи однажды признанной, убедит его в необходимости ограничить круг своих мыслей теми предметами, которые доставляет ему природа, и никогда не выходить за пределы этого круга, если он не хочет впасть в заблуждение и подвергнуться всем его последствиям. Конечно, нетрудно доказать, что вне круга этих предметов, подтверждающих бесконечное могущество того начала, которому они обязаны своим бытием, и составляющих единственное содержание того, что я назвал областью реального, вне этого круга, повторяю, человек не в состоянии приобрести никаких прочных знаний и может лишь создавать иллюзии, которые, как бы приятны они ни были, почти всегда приносят ему вред. Наконец, делать основой общественных или личных интересен предметы, находящиеся вне этой области реального, было бы равносильно тому, что причинить этим интересам серьезный ущерб.
Мы сказали выше, что среди истин, к познанию которых человек смог прийти путем наблюдения, необходимо различать истины двоякого рода, а именно: факты, полученные из наблюдения, всегда являющиеся положительными истинами, поскольку они установлены, и выводы из этих фактов, которые также могут быть рассматриваемы как истины, если в суждения, послужившие их источником, вошли все необходимые для этого элементы и если ход построения их был правильным; в противном случае они будут совершенно ложными17. {403}
Теперь мы покажем, что число истин, знание которых нам необходимо, значительно возрастает, по мере того как цивилизация углубляется и продолжает развиваться.
Рассматривая всякое человеческое общество на данной ступени цивилизации, мы убеждаемся, что совокупность истин, знание которых необходимо для счастья отдельных индивидуумов, должно быть пропорционально количеству образовавшихся потребностей. В те времена и в тех местах, где царила крайняя простота потребностей и удовольствий, для общего благополучия достаточно было весьма небольшого числа хорошо известных истин, но там, где развитие цивилизации значительно увеличило эти потребности и удовольствия, возникла необходимость в знании значительно большего числа истин, чтобы на основе их предотвратить в общественной жизни обман и всякого рода злоупотребления. Если при данном уровне цивилизации число истин, знание которых необходимо, оказывается ниже потребности в них и если эти истины недостаточно распространены; если, далее, все то, что рассматривается общественным мнением как положительное знание, в сущности, является не чем иным, как заблуждением или ложным знанием, то отдельным индивидуумам все труднее будет достигнуть счастья. Тогда начинают раздаваться голоса, утверждающие, что знания скорее вредны, чем полезны человеку, между тем как на самом деле вредны для него только заблуждения и ложные знания.
Один знаменитый мыслитель, размышляя о многочисленных проявлениях зла, угнетающего человечество, пришел к выводу, что счастье возможно только при весьма ограниченном состоянии ума и что знания скорее вредны, чем полезны человеку. Это мнение, как мне кажется, представляет собой явное заблуждение, хотя и может показаться до известной степени правильным.
Невежество — вот, без сомнения, первый и главный источник почти всех наших несчастий, особенно с тех пор, как мы стали жить общественной жизнью. Кроме того, крайнее неравенство умственных способностей, степени правильности суждений и запаса приобретенных знаний, неравенство, отмечаемое у отдельных индивидуумов {404} любого народа, непрерывно способствует возникновению зла, о котором мы упоминали. Правда, некоторые истины могут показаться опасными, но сами по себе они вовсе не опасны и могут причинить ущерб только тем, кому положение позволяет извлекать выгоды из незнания их другими [людьми].
Таким образом, что касается мнения, будто знания скорее вредны, чем полезны человеку, то кажущаяся обоснованность его объясняется лишь тем, что просвещение еще недостаточно широко распространено и слишком часто смешивают ложные знания с истинными, по крайней мере в тех вопросах, которые имеют наиболее важное значение для человека.
Из всего, что было сказано нами, следует, что если вое то, что мы называем знанием, не всегда является истинным знанием, а также если это знание может быть достоянием только небольшого числа индивидуумов, составляющих лишь ничтожную часть многочисленного населения данной страны, то нет ничего удивительного в том, что его польза для нас невелика. Руссо сомневался в ценности наших знаний, но он осудил и отверг их слишком категорически. Этот по справедливости знаменитый автор часто обращается в своих сочинениях к природе, и мы видим, что он действительно понимал важность ее изучения и то, насколько неудобно и даже опасно вступать в противоречие с ее законами. Проникнутый более горячим чувством к природе, чем кто-либо из известных мне людей, он вследствие условий своей жизни лишен был возможности проследить ее пути, глубоко осознать ее законы, в достаточной мере изучить ее. Вот что, без сомнения, обусловило единственную слабую сторону его «Эмиля», однако конечные цели, к которым он всегда стремился, указывая противоречивые и иногда даже неправильные пути для их достижения, безупречны, справедливы и вполне заслуживают нашего внимания18.
Разделяя взгляды этого знаменитого человека, одного из самых глубоких наших моралистов, я осмеливаюсь утверждать, что из всех знаний наиболее полезно для нас знание природы, ее законов, словом, — всех ее деяний при всякого рода обстоятельствах. Можно даже утверждать, что каждый индивидуум человеческого рода {405} обеспечит свой жизненный путь большим или меньшим счастьем в зависимости от того, в какой мере все его поступки будут соответствовать законам природы или отклоняться от них, а также от того, в какой мере он сумеет извлечь преимущества из всего того, с чем связан, или из того, что может использовать. Вот, полагаю, наиболее важные истины, которые должны, больше, чем все другие, задержать наше внимание.
Из приведенных здесь положений и сопровождающих их рассуждений я делаю следующие выводы:
1. Для человека самым полезным из всех знаний является знание природы, рассматриваемой всесторонне.
2. Следовательно, из всего того, что он изучает, наиболее важны для него те науки, целью которых является полное приобретение именно этого знания; однако изучение природы не должно ограничиваться искусством различать и классифицировать ее создания, но должно вести к познанию самой природы, всех проявлений ее могущества, законов, проявляющихся во всем, что природа творит, и управляющих всеми изменениями, которые она производит, к познанию того непреложного пути, которым она следует во всех своих деяниях.
3. Среди вопросов, составляющих эту обширную область знаний, наибольшее его внимание должно привлечь и побудить к исследованиям все, что связано с изучением законов природы, управляющих фактами и явлениями организации человека, его внутренним чувством, его склонностями, а также законов, которым подчиняются воздействующие на него внешние факторы и факторы, причиняющие ущерб его непосредственным интересам.
4. Знания, которые человек может приобрести путем такого рода изучения, дадут ему возможность согласовать все свои поступки с законами природы и избегнуть всякого рода зла; наконец, позволят ему извлечь из них наибольшие преимущества. (Извлечение из «Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle». Paris, Deterville)19.
| {406} |

О предметах, несомненно созданных [природой]
За исключением двух упомянутых нами в первом разделе сотворенных предметов [материи и природы], все то, что мы можем наблюдать, как и все то, что находится за пределами нашего наблюдения, относится к предметам, созданным [природой]. Природа, это могущественное действенное начало, разделила материю, подвластную исключительно ей одной, образовав из нее различного рода скопления, сочетания масс, всевозможные смеси, бесконечно разнообразные соединения и т. д. и т. п., что с течением времени постепенно привело к образованию всех существующих тел. Совокупность всех этих произведенных тел составляет то, что мы называем физической вселенной, и эта физическая вселенная, в том состоянии, в котором мы ее видим, является исключительно плодом деятельности природы. Все части этого творчества природы обладают лишь временным бытием, весьма отличаясь этим от вечного бытия предметов, сотворенных [верховным творцом]. Но, если подумать о том, что это ограниченное бытие сочетается со способностью к бесконечным возобновлениям и изменениям, производимым природой при помощи разнообразных средств, мы получим представление о том удивительном плане, которому природа следовала и постоянно следует во всем, что она выполняет.
Достаточно окинуть беглым взглядом огромное множество созданий природы, представить себе беспредельное многообразие всех {407} этих тел, столь различных по размерам, форме, качествам, признакам и даже по тем явлениям, которые многие из них производят, чтобы понять в некотором роде бесконечное, хотя и ограниченное могущество природы. Без сомнения, рассмотрение всего того, что это могущественное начало способно произвести, позволит нам составить более правильное суждение о природе, чем только попытки перечислить средства, которыми она располагает. Что касается этих средств, то мы должны изложить все наиболее правдоподобное, что удалось заметить, пытаясь при этом найти эти средства только среди физических явлений, единственных, которыми пользуется природа и которые доступны нашему познанию. В этом отношении прежде всего укажем, что природа могла создать все существующие тела лишь постепенно и поэтому вынуждена была следовать постоянному порядку, позволившему ей образовать различные произведения. Следовательно, все то, что она могла осуществить первоначально в отношении каждой категории объектов, резко отличается от того, что она произвела на последнем этапе, и, только заполняя последовательно все ступени лестницы снизу доверху, природа сумела создать среди последних своих произведений такие, которые кажутся нам столь замечательными. Мы еще вернемся к рассмотрению этого порядка и докажем его реальность и необходимость. Но предварительно, для внесения ясности в эти вопросы, мы должны привести следующие положения:
Все существующие тела распадаются на две резко отличающиеся одна от другой группы. Одни из них, действительно, не способны жить и не нуждаются ни в какой внутренней организации. Эти тела получили название тел неорганических; другие, напротив, по самому своему существу обладают организацией, раскрывают перед нами удивительное явление жизни, и их называют живыми телами. Чтобы понять, каким образом природа могла произвести эти различные тела,— ибо как те, так и другие бесспорно являются ее созданиями,— необходимо ознакомиться с характерными особенностями, позволяющими отличить их друг от друга. Рассмотрением этих особенностей мы и займемся в двух следующих главах.
| {406} |

О неорганических телах
В неорганических телах не может иметь место явление жизни, потому что они не обладают никакой внутренней организацией, но именно эти тела доставляют все те вещества, из которых состоят живые тела. Следовательно, природа могла создать последние только после того, как уже существовали неорганические тела. Эти неорганические тела представляют собой соединения или простые скопления молекул, то основных [molecules essentielles], то составных [molecules integrantes]. Иногда они имеют доступную определению форму, например у твердых тел, иногда вовсе лишены какой-либо особой формы, например у тел, которые состоят из жидких или газообразных флюидов.
Неорганические тела, независимо от их природы, состава и размеров, существенно отличаются от тел, обладающих жизнью, следующими признаками:
1. Видовая индивидуальность присуща только составной молекуле [molecule integrante], определяющей их особый вид; массы и объемы, которые эти молекулы могут образовывать путем соединения или скопления, не ограничены постоянными пределами, а их изменения не влекут за собой никаких изменений вида.
2. Они не имеют одинакового для всех способа происхождения: одни образуются путем наложения (аппозиции) последовательно отлагающихся снаружи частиц, другие — путем частичного разложения {409} или изменения определенных тел или же путем тех или иных сочетаний различных видов материи, находящихся в соприкосновении между собой.
3. У них совершенно отсутствует клеточная ткань, являющаяся основой внутренней организации; им присуща только структура, некое состояние скопления или соединения молекул.
4. У них совершенно отсутствуют какие бы то ни было потребности, удовлетворение которых связано с самосохранением.
5. Они совершенно лишены способностей и имеют только свойства.
6. Они не имеют определенного предела продолжительности существования индивидуумов: как начало, так и конец последнего неопределенны и зависят от непредвиденных или случайных обстоятельств.
7. Им не свойственно какое-либо развитие; они не способны сами образовывать собственное вещество; движения, происходящие в частях [тела] некоторых из них, зависят от случайных причин, но никогда не являются результатом возбуждения.
8. Они вовсе не испытывают неизбежных потерь и не способны самостоятельно восстанавливать нарушений, которые могут быть вызваны в них случайными причинами; они не претерпевают постепенных и последовательных изменений своего состояния; их внешний вид не позволяет обнаружить никаких признаков молодости или старости; наконец, не обладая жизнью, они не подвержены смерти.
Таковы существенные признаки неорганических тел, тех тел, которые не обладают внутренней организацией, видовая индивидуальность которых выражается только в их составной молекуле, следовательно,— тел, в которых не может существовать жизнь. Тем не менее, если среди них окажутся студенистые тела, не вполне однородные по составу, то природа располагает возможностью непосредственно внести в них организацию, возбудить в них жизненные движения и дать им видовую индивидуальность. Эти тела выходят тогда из категории неорганических и превращаются в тела {410} живые. Именно начиная с этих тел природа приступила к созданию как растительного, так и животного царств.
Все неорганические тела представляют собой создания природы. Ни одно из них не обладает абсолютным постоянством в отношении длительности существования, ибо последняя всецело зависит от того или иного их положения и от тех обстоятельств, в которых они находятся. Одни из этих тел природа произвела непосредственно, другие обязаны своим происхождением созданным ею живым телам, будучи результатом последовательных изменений этих последних. Чтобы произвести неорганические тела первого рода, природе достаточно было разделить материю и образовать из нее всякого рода скопления путем смешения разных ее видов или не прибегая к нему. Можно думать, что к числу тел, непосредственно созданных природой, относятся не только доступные нашему наблюдению, то более, то менее простые флюиды, как жидкие, так и упругие, но и те огромные, более или менее твердые массы, которые образуют многочисленные видимые нами в пространстве небесные тела, движущиеся, как можно думать, с той или иной скоростью. Что касается вторых, т. е. тел, которые не были созданы природой непосредственно, то все они образовались в результате разрушения живых тел и их вовсе не было бы, если бы природой не были созданы организованные тела. В самом деле, живые тела, обладающие способностью строить свое собственное вещество, вызвали образование множества бесконечно разнообразных соединений, которые без них никогда не могли бы возникнуть. Таким образом, все, что происходит от живых тел, как в продолжение их жизни, так и после их смерти, служит, вместе с неорганическими телами другого происхождения, тем материалом, из которого образуются тела, составляющие минеральное царство. Из этих подвергшихся последовательным изменениям и всевозможным преобразованиям и сделавшихся неузнаваемыми веществ и произошли различные известные нам минералы.
Во «Введении» в Histoire naturelle des animaux sans vertebras» (т. I, стр. 46) мы уже указывали, что неорганические тела не связаны между собой происхождением; что их долговечность, объем и {411} размер не постоянны, что сохранение их существования не обусловлено никакой потребностью с их стороны и могло бы быть беспредельным, если бы в результате движения, распространенного повсюду в природе, и воздействия этих тел друг на друга (сообразно различным условиям их положения, состава и сродства) они не были бы в большей или меньшей мере подвержены всякого рода изменениям. Мы отметили также, что, несмотря на гораздо меньшее число видов, чем у живых тел, именно эти тела составляют главную массу обитаемой нами планеты, а быть может, и других небесных тел.
Среди огромных масс неорганических тел, движущихся в пространстве, нас должен больше всего интересовать земной шар, так как мы живем на его поверхности и так как он доставляет нам наибольшие возможности для наблюдения различных его частей.
Земля, форма которой скорее приближается к сфероиду, чем к шару, окружена флюидной и газовой оболочкой, которая участвует как в суточном, так и в годовом ее обращении. В этой оболочке, которую называют земной атмосферой, и происходят различные известные нам атмосферные явления. Хотя мы не можем ознакомиться с тем, что находится внутри земного шара, и вынуждены ограничиваться изучением его наружной коры, однако у нас есть основание предполагать, что по мере приближения к центру, вещества, составляющие это огромное разнородное тело, делаются все более твердыми и плотными. Что же касается состояния наружной коры земного шара, то можно думать, что оно в значительной мере определяется влиянием вод.
Это влияние, естественно, слагается из:
1) влияния морских вод, занимающих очень большие пространства на земном шаре и составляющих большую часть его наружной коры;
2) влияния дождевых вод, являющихся источником для больших и малых рек и ручьев.
Если подумать о громадном пространстве, занимаемом морями на поверхности земного шара, и особенно о глубине их ложа, то {412} нельзя не признать, что их ложе обязано своим сохранением особой могущественной причине, без которой законы тяготения давно разрушили бы его.
Без сомнения, воды в жидком состоянии, даже воды морей, легче, чем тела, входящие в состав землистых и каменистых пород, из которых состоят острова и континенты. На протяжении многих веков реки непрерывно приносят в море землистые и каменистые частицы, которые им удается отторгнуть от твердых масс, с которыми они приходят в соприкосновение. В результате этого ложе морей должно было бы быть почти совершенно заполнено наносами. Но и без упомянутой причины разница в весе жидких вод и землистых или каменистых пород должна была бы заставить эти воды образовать вокруг земли сплошную жидкую оболочку. Однако этого нет. Ложе морей повсюду остается постоянным; кроме того, наблюдения свидетельствуют о том, что оно постепенно перемещается. Какой же причиной можно объяснить оба эти удивительных факта?
Что касается первого из них, а именно сохранения бассейна морей, то нам представляется очевидным, что этого не было бы, если бы морские воды всегда находились в состоянии покоя. Напротив, известно, что моря находятся в состоянии постоянного движения и что их масса движется не только под влиянием различных течений, но испытывает еще особые непрерывные колебания. Действительно, причина, находящаяся вне земного шара, заставляет экваториальные воды океана образовывать, при каждом прохождении через меридиан спутника земли, довольно значительный вал, своего рода выпуклость, и в то же время другой вал образуется в морях, расположенных диаметрально противоположно, по меридиану другого полушария, соответствующему меридиану данного места. Наблюдение подтвердило образование этих двух валов на обширных пространствах морей и океанов в результате поднятия морских вод, под влиянием луны, при каждом ее прохождении через соответствующий меридиан обоих полушарий. Таким образом, в каждой данной точке океана через каждые двенадцать часов образуется вал, однако точное время образования этих валов претерпевает довольно правильные {413} сдвиги, а именно: оно запаздывает ежедневно приблизительно на три четверти часа. Понятно, эти поднятия должны были бы повлечь за собой образование действительных впадин в самом вале или под ним, если бы этому не препятствовала текучесть вод с ее законами, тотчас же заставляющая все близлежащие воды заполнить образующиеся впадины. Отсюда следует, что в продолжение шести часов прибрежные воды удаляются, образуя валы, если берег почти вертикальный, или набегают на него, если он пологий. В продолжение следующих шести часов воды возвращаются обратно, заканчивая образование первого вала. По прошествии двенадцати часов они снова в продолжение шести часов удаляются от берегов для образования второго вала и употребляют шесть часов на обратный путь. Эти всем известные явления и образуют то, что называют приливом и отливом морей. Таким образом, в продолжении двадцати четырех часов морские воды выполняют четыре непрерывных движения: два движения, когда воды отступают от берегов, и два, когда они возвращаются к ним. Вот те своего рода колебания, которым постоянно подвержены моря нашей планеты и которые рассмотрены более подробно в моей «Hydrogeologie»20. В результате этих колебаний моря сохраняют свое ложе, отбрасывая на берега почти все, что в них вносят реки. Если бы эти отложения происходили равномерно у всех берегов, глубина морей сохранилась бы, но постепенно уменьшилось бы занимаемое ими на поверхности земли пространство. Однако в действительности этого не происходит.
Мы уже сказали, что моря перемещаются, и думаем, что мы имели основание утверждать это, опираясь на различные наблюдения, подтверждающие наше мнение. Действительно, по наблюдениям моряков, моря, особенно расположенные между тропиками, перемещаются с востока на запад. Следствием этого движения, по-видимому, является наступание морских вод на берега и отбрасывание всех наносов, приносимых в море реками, к противоположным берегам.
Экваториальные моря, перемещаясь с востока на запад, встречают препятствие своему движению со стороны материков. При {414} этом их воды, разрушая мало-помалу задерживающие их твердые массы, разделяются на два течения: одно направляется к северу, другое к югу. Оба эти течения в свою очередь оказывают влияние на форму берегов. Воды, направляющиеся к Америке, уже значительно выточили ее контур у центра и теперь им остается преодолеть только препятствия со стороны Панамского перешейка, чтобы разделить этот материк на две части. Кроме того, они отделили Новую Голландию от Азиатского материка, образовав в промежутке между ними известные нам архипелаги. Подробности этих наблюдений можно найти в моей «Hydrogeologie».
Отсюда следует, что, с одной стороны, моря, удаляясь, обнажают части суши, а с другой — в большей или меньшей степени размывают берега в зависимости от того, насколько составляющие эти берега породы поддаются их действию. Таким путем моря наступают, правда очень неравномерно, на сушу, никогда не встречая полного отпора. Бесконечная медленность этих процессов делает их совершенно недоступными для наблюдения человека вследствие ничтожно малой продолжительности его жизни. Тем не менее человек может убедиться в их существовании, если обратится к древним памятникам, позволяющим установить, в каких частях суши море отступало и где оно надвинулось на нее. К физическим причинам перемещения морей следует добавить еще другие обстоятельства, также подтверждающие этот факт. Я имею в виду наличие огромных банок морских раковин, погребенных в почве материков и больших островов, а также присутствие мощных залежей каменной соли на больших глубинах, при этом на значительном расстоянии от морей.
Если бы хотели объяснить залегание этих перемещающихся образований всеобщей катастрофой, якобы происшедшей на земном шаре, возможность которой нами, кажется, достаточно уже была опровергнута, то можно привести в качестве нового доказательства существование окаменевших мадрепоровых полипов, из которых почти целиком состоят некоторые пласты, встречающиеся на материках. {415}
Приведенные мною факты, относящиеся к наружной коре земного шара, а также попытки их объяснения, принадлежат к области особой науки, которая носит название геологии. Я назвал ту же науку гидрогеологией, так как подлинный предмет ее охватывает как воды, находящиеся в жидком состоянии, так и твердые вещества,— землистые или каменистые, причем первые влияют на образование и состояние вторых.
Если бы в этой науке мы ограничились одним изучением природы и состояния отдельных формаций, то не только остались бы в неведении относительно главных причин, которым они обязаны своим происхождением, но легко могли бы впасть в заблуждение, так как способ образования различных формаций совершенно не зависит от порядка этого образования, — и мы легко могли бы принять более новые формации за древние. Если, с одной стороны, неуместно называть первичной формацией, или первичной породой, ту или иную часть земной коры, основываясь только на том, что нам не известно ничего аналогичного, то столь же неуместно было бы назвать вторичными, третичными и т. д. те или иные слои, предварительно не установив способа их образования.
Действительно, известковые отложения, образовавшиеся в результате постепенного осаждения приносимых водами свободных частиц, могут не содержать никаких органических остатков и все же представлять собой более новую формацию, нежели более глубокие известковые пласты, заключающие большое количество таких органических остатков.
Итак, природа, разделив и видоизменив сотворенную материю, образовав из нее различного рода скопления, то смешивая, то не смешивая при этом различные ее виды и пользуясь для всего этого то простым соединением молекул, то их сцеплением или скоплением, создала значительную часть известных нам неорганических тел; прочая же часть их произошла исключительно из остатков живых тел, в основном — после смерти их индивидуумов. Таким образом, эти два рода неорганических тел надо рассматривать как произведения природы, одни — созданные ею непосредственно, другие — {416} образовавшиеся косвенным путем. Во всяком случае, надо думать, что из всех созданных ею тел неорганические тела преобладают.
Существует еще другой ряд тел, гораздо более замечательных, чем рассмотренные нами. Все они подчинены порядку постепенного образования, свойственному исключительно им. Это те тела, которые мы называем живыми. Они дают нам гораздо более полное представление о могуществе природы, чем тела, о которых речь была выше, но и они, в свою очередь, являются ее созданиями. Рассмотрим теперь главные особенности этих тел.
| {417} |

О живых телах
Живые тела составляют особую категорию весьма своеобразных тел, не имеющих ничего общего ни с какими другими телами. Все эти тела состоят, с одной стороны, из плотных частей, способных вмещать флюиды, а с другой — из содержащихся внутри их собственных флюидов [fluides propres], хотя по своему составу и по составу своих частей они могут отличаться друг от друга. Все они, если рассматривать их в целом, обладают [особой] видовой индивидуальностью и состоят из разнородных частей. За исключением живых тел, произведенных природой непосредственно, всем им свойственен один и тот же способ происхождения, все они имеют определенные пределы существования, у всех есть потребности, удовлетворение которых необходимо для их самосохранения, и все существуют только благодаря особому внутреннему явлению, называемому жизнью, и организации, позволяющей этому явлению осуществиться.
Мы сказали, что всем живым телам присущ один и тот же способ происхождения, и имели основание утверждать это, потому что, кроме тех из них, которые были созданы природой непосредственно, все живые тела происходят одни от других; изменяясь под влиянием обстоятельств, они делаются удивительно разнообразными при размножении. Посмотрим теперь, каким образом природа сумела непосредственно произвести первые живые тела, которых в дальнейшем {418} оказалось достаточно для того, чтобы она могла постепенно образовать из них все остальные.
Создавая неорганические тела и образуя для этого разные скопления различных видов материи, то путем простого объединения, то путем оцепления или соединения их молекул, природа могла произвести среди тел, возникших в результате этих ее действий, и такие, которые способны были воспринять первые черты организации и движения, составляющие жизнь. По-видимому, она действительно так и поступила, образовав среди неорганических тел очень мелкие студенистые тела весьма небольшой плотности. Тонкие флюиды, содержащиеся в окружающей среде, проникая в эти тела, вызвали незначительное увеличение промежутков между их сцеплепными молекулами, что превратило эти скопления студенистого вещества в клеточные скопления. Вскоре после этого в стенках образовавшихся в них маленьких клеточек получились отверстия, они стали сообщаться друг с другом, и флюиды проникли внутрь их. Именно таким путем эти маленькие студенистые тельца были превращены в тела, состоящие из клеточной ткани; в них уже можно было отличить вмещающие части и содержащиеся в последних флюиды, и они приобрели первые черты организации21. При таком положении вещей тонкие флюиды из окружающей среды, находящиеся в непрерывном движении и беспрестанно устремляющиеся как бы толчками внутрь этих маленьких тел и таким же путем выходящие оттуда, вызвали последовательные движения содержащихся внутри них жидкостей, а также частичное выделение и замещение последних новыми, поступающими из окружающей среды. С этих пор тела, о которых здесь идет речь, получили способность испарять и поглощать, т. е. они уже стали обладать жизнью. Мы видим, следовательно, что организация представляет собой порядок соотношений внутренних частей тела, который всегда благоприятствует органическим движениям, т. е. последовательным перемещениям собственных флюидов в теле, действию этих флюидов на вмещающие их части, а также более или менее сильному воздействию последних на эти флюиды. {419}
Я уже показал в различных моих работах — и, как мне кажется, я был первым, кто это сделал,— что жизнь отнюдь не является ни особой сущностью, ни частным свойством какого-либо вида материи, ни, тем более, свойством, присущим какой-либо части тела. Я выяснил, что жизнь представляет собой не что иное, как физическое явление, зависящее от двух главных причин: 1) от состояния и порядка вещей, существующих в частях тела, в котором она наблюдается; 2) от причины, вызывающей или возбуждающей последовательные движения во внутренних частях этого тела. Итак, жизнь существует в теле до тех пор, пока не будут разрушены состояние частей и порядок вещей, необходимые для выполнения жизненных движений, и пока продолжает действовать причина, вызывающая эти движения.
Вот понятие, которое мы должны составить себе о живом теле вообще, т. е. о теле, действительно организованном и обладающем способностью жить, и прежде всего о тех телах, которые были непосредственно созданы природой, ибо после того, как они возникли, они последовательно вызывали образование всех других тел. Посмотрим теперь, чему нас учит наблюдение над воспроизведением этих тел.
Половое размножение, бесспорно, происходит при помощи физических средств и подчиняется физическим законам, тем не менее те своеобразные явления, которые при этом имеют место, а также механизм, который при этом действует, представляются нам не объяснимой тайной. В самом деле, как бы внимательно мы ни исследовали различные известные нам способы размножения, порядок происходящих при этом явлений и условия, которых они требуют в каждом отдельном случае,— пройдет, вероятно, еще немало времени, прежде чем мы сумеем понять тот механизм, которым пользуется природа для осуществления всех этих явлений. Тем не менее мы глубоко убеждены, что достижение этих познаний не выходит за пределы наших возможностей.
Будучи вынужденными довольствоваться теми несовершенными и ограниченными средствами, которыми мы располагаем в этой {420} области, как и в области изучения явлений умственной деятельности, попытаемся изложить здесь наши соображения относительно воспроизведения живых тел.
Природа еще не имела возможности создать у тел с наиболее простой организацией специальные органы для выполнения отдельных функций, поэтому оплодотворение не могло бы у них осуществляться, и они действительно в нем не нуждаются. У этих тел отсутствует зародыш, и воспроизведение происходит у них путем деления на части, дальнейшее развитие которых сводится к простому увеличению размеров; в результате возникают новые тела, совершенно подобные тому телу, от которого они произошли. В простейшей своей форме этот способ размножения при помощи деления заключается в делении тела на две почти равные части и наблюдается он только у наиболее несовершенных существ, наделенных жизнью; далее к этому способу размножения присоединяется размножение при помощи отделения обособленных частей, так называемое почкование. Таким образом, наиболее простые по своей организации тела размножаются: одни — путем деления, другие — путем почкования. Среди этих последних вначале появились тела, размножающиеся при помощи наружного почкования, а затем уже те, которые размножаются путем внутреннего почкования. Мы полагаем, что внутреннее почкование и явилось средством, приведшим природу к образованию зародышей, которые, для того чтобы обладать жизнью, предварительно нуждаются в оплодотворении. Эти зародыши, обыкновенно заключенные в одну или несколько оболочек, которые они вынуждены разорвать, для того чтобы родиться или выйти наружу, не являются уже, подобно почкам, простыми частями тела, образовавшимися в результате его деления и способными образовывать новые тела путем простого разрастания, без освобождения от каких-либо покровов.
Мы уже установили, что для того чтобы обладать жизнью, зародыш нуждается в воздействии оплодотворения. Теперь мы укажем, что по нашему мнению, оплодотворение не вносит в эародыш ни одной новой части, что все свои части последний получает от {421} того тела, в котором он образовался, и что оплодотворение лишь придает этим частям известное расположение, делающее их способными выполнять жизненные движения22.
Нетрудно понять, что для осуществления оплодотворения природа должна была создать органы оплодотворения, что и наблюдается в действительности. Влияние оплодотворения обыкновенно бывает направлено только на одного подготовленного зародыша, но иногда оно распространяется на несколько одновременно образовавшихся зародышей, включенных друг в друга. Наблюдения Реомюра над размножением травяных тлей показали, что оплодотворение одной самки оказалось достаточным для шести последовательных поколений23. Однако на более высоких ступенях организации влияние оплодотворения не простирается столь далеко. Что касается млекопитающих, то известен всего один пример, когда однократное оплодотворение оказалось достаточным для двух воспроизведений («Bulletin des sciences par la Societe philomatique», июль 1819)24.
Гипотеза о предсуществовании первозданных зародышей совершенно необоснованна, так как она противоречит всему тому, что нам известно относительно пути природы25.
Гермафродитизм — явление весьма обычное у растений и чрезвычайно редкое в животном царстве,— по-видимому, представляет первичную форму, созданную природой, и можно думать, что разделение полов — не что иное, как недоразвитие одного пола, приобревшее характер постоянства, недоразвитие, которое повлекло за собой особые, в зависимости от сохраняемого пола, изменения в развитии особи.
Рассмотрим теперь общие признаки, характеризующие живые тела и отличающие их от тел неорганических.
Всем живым телам, вследствие доступных определению физических причин, вообще присущи:
1. Видовая индивидуальность, выражающаяся в характере сочетания, расположения и состояния различных составных молекул, из которых слагается их тело, но никогда ни в одной из этих молекул, взятых в отдельности. {422}
2. Тело, составленное из двоякого рода существенных частей, а именно: плотных частей, из которых все или почти все способны содержать флюиды, и из содержащихся в них свободных флюидов. Первые обыкновенно состоят из податливой клеточной ткани, способной претерпевать различного рода изменения под влиянием движения содержащихся в них флюидов и служащей для образования различных специальных органов.
3. Внутренние, так называемые жизненные движения, вызываемые только причинами, возбуждающими или стимулирующими их движения, которые могут быть ускорены, замедлены или даже остановлены, но которые необходимы для развития этих тел.
4. Порядок и состояние вещей, которые, до тех пор пока они сохраняются в частях [тела], делают возможными жизненные движения, причем выполнение их и составляет явление жизни; они же вызывают в теле ряд вынужденных изменений.
5. Потери и восстановления, однако полностью не уравновешивающие друг друга, в результате чего во всяком наделенном жизнью тело происходит последовательный ряд изменений состояния, а это влечет за собой для каждого индивидуума переход от молодости к старости и в дальнейшем — его разрушение в тот момент, когда явление жизни не может больше осуществляться в нем.
6. Потребности, удовлетворение которых необходимо для самосохранения и которые заставляют живые тела усваивать служащие для их питания посторонние вещества, изменяемые ими и превращаемые в вещество собственного тела.
7. Развитие, которому подлежат в течение известного времени все части живого тела и которые выражаются в их росте, продолжающемся до определенного для каждого из них предела. Оно же обусловливает различия во внешнем облике, в объеме и состоянии тела, только что образовавшегося, и того же тела, достигшего полного развития.
8. Один и тот же способ происхождения, ибо, за исключением тех тел, которые природа произвела непосредственно, все живые {423} тела происходят одни от других, при этом не путем последовательного развития из предсуществующих зародышей, но в результате обособления и последующего отделения некоторой части их тела или некоторой доли их вещества, которая, будучи подготовлена в соответствии с системой организации индивидуума, определяет присущий ему способ размножения.
9. Способности: одни — присущие всем им и свойственные только живым телам, и, кроме того,— другие, присущие лишь некоторым из них.
10. Наконец,— известный предел продолжительности существования индивидуумов. С течением жизни части изменяются к худшему и это изменение, достигнув определенной точки, препятствует дальнейшему осуществлению тех явлений, которые эту жизнь составляют. И вот тогда достаточно малейшей причины, вызывающей нарушения, чтобы остановить жизненные движения. Этот момент их прекращения без возможности возобновления называют смертью индивидуума.
Вот десять существенных признаков живых тел, признаков, общих для всех их. Ничего похожего мы не встречаем у неорганических тел («Histoire naturelle des animaux sans vertebres», т. I, стр. 60-62)26.
Природа, создав непосредственно тем путем, о котором была речь выше, первые живые тела, т. е. тела наиболее хрупкие, наиболее простые по своей организации, в дальнейшем наделила их способностью воспроизводить другие, подобные им тела, а жизнь, которой эти тела обладают, способствовала непрерывному усложнению их организации. Если присоединить ко всем этим причинам влияние изменения обстоятельств, мы получим всю совокупность причин, обусловивших с течением времени возникновение различных пород живых тел.
Все эти тела следовало бы отнести к одной и той же категории, если бы химический состав плотных частей, способных содержать флюиды тех тел, которые были созданы природой первыми, был одного только рода, в действительности же это было иначе. {424}
В самом деле, среди живых тел, непосредственно созданных природой, одни, вследствие химического состава их плотных частей, оказались совершенно лишенными раздражимости, между тем как у других плотные части, способные содержать флюиды, по крайней мере некоторые из них, действительно обладают раздражимостью, которая проявляется при действии всякой возбуждающей причины. Первые явились исходной формой для всех существующих растений, вторые — для всех животных.
Растения, без сомнения, представляют собой организованные тела, наделенные способностью жить; всем им действительно присущи общие признаки живых тел и все они обладают способностями, свойственными всем вообще живым телам. Но так как растения произошли от исходной формы, организованной гораздо ниже, чем та, от которой ведут свое происхождение животные, то природа не могла создать ни у одного из них ничего, что можно было бы сравнить с тем, что она создала у животных. Она наделила их способностями более низкого порядка по сравнению с животными, поэтому, кроме способностей, свойственных всем вообще живым телам, растения не обладают ни одной способностью, которая была бы присуща только какой-нибудь одной их разновидности. В результате этого более низкого уровня их способностей все вообще растения, лишены возбудимости и, следовательно, не способны двигаться. Таким образом, всякие движения, наблюдаемые у всего растения или в некоторых его частях происходят под влиянием причин, лежащих вне их и имеющих случайный и временный характер.
Я показал в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres» (т. I, стр. 88), что явления, известные относительно растений, называемых мимозами, не имеют ничего общего с явлениями раздражимости, наблюдаемыми у животных, и что они зависят от физических причин, весьма отличающихся от тех, которые обусловливают упомянутое выше явление у животных.
Рассмотрим сначала, что представляют собой растения и каковы {425} их существенные признаки. После этого выясним, какое место они должны занимать в общем порядке образования живых тел.
Растения представляют собой живые тела, не обливающие раздражимостью. Существенные признаки их следующие:
1. Они не способны ни производить в любой момент внезапных и повторных сокращений ни одной из своих плотных частей, ни выполнять при помощи этих частей внезапных или мгновенных движений, повторяемых столько раз подряд, сколько раз их вызывает возбуждающая причина.
2. Они не способны ни производить действий, ни самостоятельно перемещаться, т. е. покидать место, на котором каждое из них находится, или где оно неподвижно укреплено.
3. Только их флюиды способны выполнять жизненные движения; их плотные составные части, будучи лишены раздражимости, не в состоянии путем подлинных реакций способствовать выполнению этих движений, которые могут вызываться лишь действием внешних возбуждающих причин.
4. У них совершенно отсутствуют специальные внутренние органы, но, благодаря движению флюидов, у них образуется множество напоминающих сосуды трубок, большей частью параллельных друг другу, боковые стенки которых обычно пронизаны отверстиями. Это отсутствие внутренних органов является причиной того, что у всех растений организация только более или менее видоизменена, но не подверглась настоящему усложнению, и что части этих тел легко превращаются одни в другие27.
5. У них совершенно отсутствует пищеварение; они лишь перерабатывают соки, служащие им для питания и для образования различного рода веществ; таким образом, они имеют только поглощающую (наружную) поверхность и поглощают в качестве пищи жидкие вещества или такие, частицы которых обладают малым сцеплением между собой.
6. Их флюиды не подвергаются настоящей циркуляции, но их соки перемещаются, по-видимому, по двум главным направлениям — восходящему и нисходящему, что позволяет предположить {426} существование двоякого рода соков: одного, образующегося в результате поглощения [веществ] корнями, а другого — листьями.
7. Рост происходит у растений по двум направлениям: восходящему и нисходящему, начиная от некоторой промежуточной точки, или жизненного узла, расположенного у основания шейки корня и обладающего большей живучестью, чем остальные точки тела.
8. Их наземные части стремятся расти по направлению, перпендикулярному плоскости горизонта, а не поверхности почвы, которая их поддерживает.
9. Большинство их образует сложные существа, состоящие из отдельных индивидуумов, собранных на общем живом теле, на котором ежегодно развиваются последовательные поколения этих индивидуумов.
Если, противопоставить, как я это намерен сделать, приведенному краткому обзору реальных фактов, характеризующих растения, обзор существенных признаков животных, станет ясно, что природа провела между этими двумя родами живых тел резкую разграничительную черту, которая мешает им соединиться в какой-либо точке образуемых ими рядов. Однако принято высказывать об этих двух родах существ совсем иное мнение. Отсюда очевидно, что почти вся работа еще впереди, если мы хотим дать как о тех, так и о других то правильное представление, которое необходимо иметь о них.
Мы указали в «Введении» в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», что растения и животные резко отграничены друг от друга и что ряд, составленный первыми, нигде не образует постепенных переходов и не смыкается с рядом, составленным вторыми, несмотря на то, что у одного из концов оба ряда действительно приближаются друг к другу.
Было бы явным заблуждением предполагать возможность настолько постепенного перехода между всеми созданиями природы, чтобы можно было провести непрерывную линию, ведущую от неорганических тел к растениям и от последних к животным, как если бы эти тела были последовательными звеньями одной цепи. {427}
В действительности это далеко не так: эти тела не образуют единого, пусть даже прерывистого ряда.
В самом деле, мы уже показали, что неорганические тела по самой своей природе отделены от живых тел очень значительным промежутком. Далее мы выяснили, что среди живых тел животные не составляют непосредственного продолжения растений, иными словами,— что природа не должна была предварительно создать растения, чтобы после них образовать животных. Напротив, наблюдение подтверждает, что к созданию и установлению этих двух главных ветвей, на которые распадаются существующие живые тела, ветвей, составляющих для нас два совершенно особых царства организованных тел, природа приступила одновременно. Различие исходных форм, которыми природа пользовалась, создавая каждую из этих ветвей, обусловило те огромные различия, которые между ними наблюдаются.
Будучи вынуждена, как в том, так и в другом случае, начать с образования существ, наиболее простых по устройству частей, наиболее нестойких по составу и обладающих самыми незначительными размерами [тела], природа в дальнейшем, следуя своему постоянному стремлению, постепенно видоизменяла эти существа и последовательно усложняла их строение28. И вот таким путем мало-помалу возникли все вообще существующие живые тела. Следовательно, различие исходных форм повлекло за собой те большие расхождения, которые наблюдаются между обоими царствами живых тел.
Существовали ли вначале одна, две, быть может даже три исходные формы растений — в зависимости от того, начала ли природа создание растений одной, двумя или тремя ветвями,— во всяком случае, эта исходная растительная форма, вследствие ее химического состава, была совершенно лишена раздражимости. Это первичное растение нам неизвестно и вряд ли когда-нибудь будет известно, но мы можем предположить, что оно занимало место среди биссусов29, низших грибов и, быть может, лишайников или где-нибудь по соседству с этими семействами. {428}
Нетрудно понять, что после этого природа постепенно создала мхи, папоротники, пальмовые, лилейные и все то множество семейств, которое было описано ботаниками. Мы знаем также, что истинный порядок последовательного образования растений достаточно хорошо понят современными ботаниками, которые помещают на первом месте тайнобрачные или безбрачные растения, после них — односемядольные и заканчивают ряд бесчисленными двусемядольными, среди которых многие, по-видимому, являются многосемядольными.
Хотя этот порядок распределения, как можно думать, достаточно близок к естественному, однако остается желать еще многого, как в отношении подлинного места, которое следует отвести большей части установленных семейств, главным образом среди двусемядольных, так и в отношении общего характера этого распределения30.
В самом деле, порядок, в котором природа создавала различные растения, обусловленная им необходимая последовательность видов не представляет собой единого простого ряда, но, по-видимому, ряд весьма разветвленный. Однако следует иметь в виду, что, как бы разветвлен этот ряд ни был, все его части, а следовательно, и его разветвления располагаются в порядке возрастающей сложности, что является неизбежным результатом постоянного стремления природы к постепенному усложнению либо самих отклонений, либо особенностей внутренней организации31. Из этого закона природы следует, что ошибочен взгляд, будто разветвления общего ряда ее созданий, как среди растений, так и среди животных, могут быть представлены различными кругами, сетями или [точками] — как на географической карте, так как подобное расположение противоречило бы порядку нарастающего усложнения [организации живых тел], проявляющегося во всем32. Неоспоримая очевидность этого порядка позволяет нам утверждать, что природа, при всем ее могуществе, не в состоянии непосредственно произвести ни одного растения, будь то какое-либо растение из аноновых, тюльпанное дерево или магнолия33. {429}
Наконец, оба царства живых тел так обширны, обладают таким разнообразием семейств, родов и особенно видов, которые они включают, что, как бы велико ни было число известных нам видов растений, мы, вероятно, еще очень далеки от знания всех существующих в действительности видов. То же, без сомнения, можно сказать и о животных, общее число которых несомненно превышает число существующих растений.
Постепенное непрерывное движение вперед, присущее всему, что делает природа, настолько ясно выражено, что оно обнаруживается не только в видоизменениях тел или в усложнении их организации, но и в многообразии видов. В самом деле, общее количество известных нам видов тел, составляющих минеральное царство, или даже общее количество видов всех неорганических тел гораздо меньше количества изученных нами видов растений, а общее количество последних, как мы уже говорили, значительно меньше числа известных нам видов животных.
Так как растения не имеют иных способностей, кроме тех, которые присущи всем живым телам, следовательно, не обладают ни одной способностью, свойственной какому-либо из них в частности, то различия внутренней организации, характеризующие семейства, сводятся к различиям строения напоминающих сосуды трубок, ячеистой ткани сердцевины и прочих частей, составляющих эту организацию; единственные специальные органы, которыми обладают некоторые растения, например органы, служащие для полового размножения, всегда развиваются на наружных частях [их тела]. Таким образом, единственная разница между растениями заключается в способах их существования и в характере произрастания, а так как растения лишены способности производить действия, у них не может быть никаких привычек.
Большинство растений имеет общее живое тело, которое по виду можно принять за самостоятельный индивидуум; это общее тело порождает настоящих [новых] индивидуумов, продолжающих жить й последовательно развиваться на нем. Эти индивидуумы, остающиеся соединенными с общим телом, обычно появляются в виде почек, {430} они развивают листья и цветы, производят семена, т. е. тельца, способные отделяться и содержащие зародыши новых особей, предназначенных для самостоятельного существования; тем не менее эти отдельные индивидуумы подготовляют образование новых почек, а также длинных волокон, которые они присоединяют к общему телу, увеличивая тем самым его размеры в длину и в толщину. Подобный пример общего живого тела, которое дает начало отдельным индивидуумам, мы находим и в животном царстве, где эта своеобразная форма существования встречается исключительно среди полипов. Скажем теперь несколько слов о животных.
Здесь снова речь идет о подлинных созданиях природы, о тех, среди которых находятся наиболее своеобразные, наиболее заслуживающие внимания, наиболее замечательные существа, достигшие грани чудесного, если иметь в виду явления, которые природа смогла произвести в ходе ее последовательных созиданий, одним словом, здесь речь идет о животных, т. е. о существах, составляющих ту из двух категорий живых тел, которая включает наиболее совершенные из этих тел и изучение которой представляет для нас наибольший интерес, поскольку, по своей физической природе, мы сами к ней принадлежим.
Природа, которая во всем, что она делает, всегда переходит от более простого к более сложному, и здесь, подобно тому как это имело место у растений, начала с создания животного тела, самого хрупкого и самого простого по устройству частей. Это тело и явилось той исходной формой, от которой последовательно и постепенно образовались все остальные существа, составившие в своей совокупности животное царство. Эта исходная форма, по-видимому воплощенная в монаде-малютке или в близких к ней существах, несомненно обладала такими особенностями, которые позволили природе создать в дальнейшем огромный ряд удивительных живых тел, составляющих животное царство. Химический состав частей тела, послужившего исходной формой, о которой мы только что говорили, {431} обусловил способность этого тела проявлять при каждом возбуждении явление раздражимости. Этого было достаточно, чтобы природа могла создать огромный ряд животных, обладающих раздражимостью, присущей либо всему их телу, либо отдельным его частям, и наделить многих из них способностью выполнять еще более замечательные явления.
Итак, животное тело, представляющее первичную исходную форму, о которой здесь идет речь, будучи по существу своему раздражимо, именно этой выдающейся особенностью значительно отличается от той исходной формы, которая послужила для образования всех растений. Вследствие этого все вообще животные по своим качествам должны были приобрести весьма большое превосходство над растениями и, действительно, они стоят гораздо выше последних.
Попытаемся теперь определить и уточнить главные признаки этих существ, столь заслуживающих удивления и изучения с нашей стороны благодаря тем способностям, которыми они обладают, тех существ, многие из которых приближаются к нам по своей организации.
Животные представляют собой живые тела, обладающие раздражимостью. Существенные признаки их следующие:
1. Они обладают частями [тела], способными мгновенно сокращаться и производить внезапные и повторные движения.
2. Они являются единственными живыми телами, обладающими способностью производить действия, а большинство их — способностью перемещаться.
3. Все движения их частей, как внутренних, так и наружных, представляют собой результат вызывающих их возбуждений и могут повторяться столько раз подряд, сколько раз они будут вызваны возбуждающей их причиной.
4. Между выполняемыми ими движениями и причиной, которая их вызывает, не удается обнаружить никакого уловимого соотношения.
5. Как плотные их части, во всяком случае — большая часть их, так и их флюиды участвуют в жизненных движениях.
6. Они питаются посторонними, сложными по составу веществами {432} и большинство их обладает способностью переваривать эти вещества.
7. Они обнаруживают огромные различия в степени сложности организации и в присущих им способностях, начиная с существ, имеющих наиболее простую организацию, и кончая такими, которые обладают наиболее сложной организацией, наибольшим числом специальных внутренних органов; поэтому части их тела не могут превращаться одни в другие.
8. Одни из них обладают только раздражимостью, вследствие чего они двигаются только под влиянием внешних возбуждений; другие обладают раздражимостью и способностью чувствовать, что позволяет им двигаться под влиянием возбуждений, вызываемых их внутренним чувством; наконец, третьи обладают раздражимостью, чувствительностью и умом, что делает их способными двигаться под влиянием [актов] воли, хотя чаще всего они действуют без заранее обдуманного намерения.
9. При развитии тела они не обнаруживают стремления принимать направление, перпендикулярное плоскости горизонта, а в расположении каналов, содержащих их флюиды, не наблюдается преобладания параллельности.
Вот девять существенных признаков, свойственных всем вообще животным и резко отличающих их от всякого растения. Все эти девять признаков противоположны признакам, характеризующим растения («Histoire naturelle des animaux sans vertebres», т. I, стр. 99—100).
Что касается чрезвычайно своеобразного явления, свойственного только животным, а именно — способности двигаться под влиянием возбуждения, то мы отсылаем к тому, что было сказано нами по этому вопросу во «Введении» к «Histoire naturelle des animaux sans vertebres». Здесь мы ограничимся изложением следующих основных положений:
1. Ни один вид материи и ни одна частица ее как таковые не обладают способностью двигаться, жить, чувствовать, мыслить или иметь представления; если наблюдаются тела, наделенные либо {433} всеми этими способностями, либо какой-нибудь одной из них, то способности эти следует рассматривать как физические явления, произведенные природой не путем использования какого-либо вида материи, которому была бы свойственна та или иная способность, но при помощи порядка и состояния вещей, установленных ею для каждой организации и для каждой особой системы органов.
2. Всякая способность животного есть явление органическое и представляет собой результат деятельности системы или аппарата органов, которые ее производят, следовательно, она по необходимости зависит от них.
3. Чем более высокого порядка способность, тем сложнее система органов, которая ее производит, к тем более сложной организации она принадлежит, и тем труднее также понять ее механизм. Тем не менее эта способность представляет собой не что иное, как явление, свойственное организации, и тем самым — явление чисто физическое.
4. Всякая система органов, присущая не всем животным, дает начало способности, свойственной лишь животным, обладающим данной системой, и когда эта специальная система перестает существовать, то перестает существовать и та способность, которую она производила; если данная система претерпевает изменения, то соответственным образом изменяется и порожденная ею способность.
5. Всякая специальная система органов, подобно самой организации, подчинена условиям, необходимым для осуществления ее функций, и среди этих условий одним из наиболее существенных является принадлежность данной системы к организации той степени сложности, в которой данная система наблюдается.
6. Раздражимость податливых частей, будучи свойством, общим для всех животных, хотя и в различной, в зависимости от их природы, степени, отнюдь не является результатом деятельности какой-либо специальной системы органов этих частей, но представляет собой результат химического состояния веществ этих живых тел и того порядка вещей в теле животного, который делает возможным существование в нем жизни. {434}
7. Все, что было приобретено под влиянием обстоятельств организацией индивидуума, передается путем размножения тому индивидууму, который от него происходит, причем последний не должен приобретать все это тем же путем; эта причина, в сочетании со стремлением природы к осуществлению все большего и большего усложнения организации, неизбежно влечет за собой огромное разнообразие, наблюдаемое в созданных природой живых телах34.
8. Так как природа совершает все свои действия только постепенно, то она, конечно, не могла произвести всех животных за один раз. Сначала она создала только наиболее простых из них и, переходя к более сложным, последовательно установила у них различные системы специальных органов, умножила число последних, постепенно увеличила их энергию и, сосредоточив их у наиболее совершенных животных, создала всех известных нам животных, с той их организацией и теми их способностями, которые мы у них наблюдаем. Итак, либо природа вовсе ничего не создала, либо она действовала именно таким путем.
Отлично сознавая всю обоснованность этих принципов, я руководствовался ими во всем, что мне удалось изложить о животных.
Что касается вопроса о средствах, которыми располагает природа для создания своих произведений, и особенно о совокупности причин, давшей ей возможность привести всех животных в то состояние, в котором мы ах видим в настоящее время, то мы полагаем, что решение этого вопроса может быть выражено следующим положением:
Природа — это вечно деятельное, могущественное начало, повсюду подчиненное законам, действующее лишь постепенно и последовательно во всем, что оно выполняет в отношении организованных тел, непрерывно стремящееся к усложнению организации и к оснащению ее другими частями, начиная при этом всегда с самого простого и кончая предельно сложным,— природа, повторяю, могла, исходя из послужившей ей для этой цели первичной формы животного, произвести всех остальных известных нам животных35. Однако, если мы ограничимся только этими выводами, мы упустим из виду {435} самую важную из причин всех деяний природы, причину, которая одна лишь может объяснить все то, что природа способна создать. Действительно, нельзя обойти здесь молчанием причину, могущество которой безгранично и превышает даже могущество самой природы, ибо причина эта управляет всеми действиями последней и ей подвластны вое части ее царства. Этой причиной является не что иное, как власть обстоятельств, их способность видоизменять все действия природы и вынуждать последнюю непрерывно изменять те законы, которые она применила бы, не будь этих обстоятельств,— власть обстоятельств, которая вообще определяет все особенности каждого из ее созданий, так что именно этой причине следует приписывать необычайное их разнообразие. В самом деле, неоспоримая истина, повсюду подтверждаемая наблюдением, гласит, что все то, что совершает природа, всегда подчинено власти обстоятельств, требуемой ими необходимости. Эту главную определяющую причину следует присоединить к тем средствам, которые мы приписали природе, и тогда нам будет ясна вся совокупность причин, обусловивших существование всех тел, доступных нашему наблюдению36. Из того, что было сказано нами, вытекают два интересных и в одинаковой мере обоснованных вывода, а именно:
1) что при помощи этих средств природа выполняет в отношении тел вес то, что [действительно] произведено в них;
2) что обстоятельства определяют фактически то, чем каждое тело может быть.
Так как природа при создании живых тел, т. е. растений и животных, переходила от более простого к более сложному, то у крайних точек лестницы, образуемых ее созданиями, как в том, так и в другом случае должны оказаться существа, наиболее несходные между собой. Это действительно и наблюдается в обоих упомянутых царствах, и хотя в каждом из них ряд, составляющий эту лестницу, более или менее разветвлен, но так как для всех действий природы характерна постепенность, а нарастающее усложнение наблюдается как в стволе, так и в ответвлениях данного ряда,— упомянутое несходство существует всегда37. {436}
Особенно сильно бросается в глаза это несходство в животном царстве, где оно достигает крайних пределов. В самом деле, если природа приступила к созданию животного царства, начав с монады-малютки или с какого-нибудь близкого к ней существа, то, сравнивая это крошечное хрупкое животное с животным наиболее совершенным во всех отношениях, мы убедимся, что природе удалось установить предельное несходство между ними, и придем к выводу, что порядок, которому следовала природа при создании животных, по всей вероятности, очень близок к порядку, указанному нами. Чтобы получить о нем ясное представление, достаточно привести прилагаемый здесь чрезвычайно краткий обзор. Итак, на основании всего, что мы изложили об этом предмете в наших сочинениях, мы считаем себя вправе сделать следующие выводы38:
1. Первыми и наиболее древними, а также наиболее простыми и наиболее несовершенными во всех отношениях животными являются инфузории.
2. Почти вслед за инфузориями идут полипы, которые непосредственно от них происходят: однако они не образуют простого ряда, но, по-видимому, подразделяются на три отдельные ветви, совершенно самостоятельные с самого их возникновения.
3. Лучистые — своеобразные животные, для которых характерно лучевое расположение частей, составляют одну из упомянутых ветвей и, вероятно, заканчивают ее.
4. Черви, следующие за лучистыми, образуют вторую из этих ветвей, и с них начинается обширный и интересный ряд членистых животных.
5. Оболочники образуют третью из ветвей, происшедших от полипов, и составляют ряд животных нечленистых в любой их части.
6. Насекомые, минуя разрыв, который, по-видимому, заполняют эпизои, составляют один из наиболее обширных и интересных классов среди членистых животных.
7. Палкообразные, весьма близкие в некоторых отношениях к насекомым, однако значительно отличающиеся от последних, относятся еще к членистым животным; по-видимому, они образовались {437} одновременно с самыми несовершенными насекомыми, хотя большинство их имеет более высоко развитую организацию, чем эти последние.
8. Ракообразные, имеющие еще более совершенную организацию, также относятся к членистым животным и происходят от ветви, отделившейся от паукообразных. Сами ракообразные образуют боковую ветвь (низшие ракообразные — Entomostraca Мюллера), которая, по моему мнению, ведет к усоногим.
9. Кольчецы, имеющие характерное червеобразное тело, принадлежат еще к членистым животным, но, тем менее, вероятно, находятся вне ряда или составляют особую ветвь, точное происхождение которой неизвестно.
10. Усоногие, столь замечательные своей своеобразной формой, заканчивают ряд членистых животных и, по-видимому, происходят непосредственно от некоторых ракообразных, хотя существенно отличаются от последних и не связаны ни с каким другим классом животных.
11. Конхиферы [Conchiferae]39 — класс очень красивых нечленистых животных, непосредственно следующих за оболочниками, но превосходящих их совершенством организации. Все животные этого класса снабжены раковиной.
12. Наконец моллюски, составляющие один из самых интересных классов животного царства, идут почти без разрыва после конхифер, но вообще отличаются от них; ими заканчивается ряд нечленистых животных. Моллюски завершают наш большой раздел беспозвоночных животных и по сложности организации являются наиболее совершенными из всех их.
13. Рыбы идут после разрыва, отделяющего их от беспозвоночных животных, которых они превосходят по сложности организации. Именно рыбами начинается замечательный раздел позвоночных животных, наиболее несовершенными представителями которого они являются. В их своеобразной форме, приспособленной к обитаемой среде, едва намечены первые наброски того общего плана организации, который составляет особенность животных, имеющих скелет.
14. Рептилии, которые образуют продолжение позвоночных животных и которых следует поместить непосредственно после рыб, составляют {438} разветвленный ряд, одна из ветвей которого, как можно думать, ведет, через черепах и утконосов, к обширному классу птиц, тогда как другая ветвь, по-видимому, направляется от ящериц к млекопитающим.
15. Птицы — этот класс очень красивых позвоночных животных, характеризующихся особой формой тела и оперением — вероятно, ведут свое происхождение от аптенодитов и пингвинов и образуют сильно разветвленный и отличающийся большим разнообразием ряд, одна из ветвей которого заканчивается хищными птицами.
16. Наконец, млекопитающие — последний и наиболее интересный класс позвоночных животных — включают наиболее совершенных из этих животных и ведут, через четвероруких и даже самого человека, к высшему пределу того, что природа могла осуществить в животном царстве.
Что касается порядка, в котором природа создавала различных животных, то порядок, указанный мною, по всей вероятности, очень близок к ее собственному. В самом деле, понятно, что природе достаточно было установить жизнь в монаде-малютке, чтобы в дальнейшем постепенно образовать всех остальных животных, вплоть до человека. Однако без предварительного создания исходной, первичной формы, с которой она начала, природа не могла бы непосредственно образовать ни одного из упомянутых выше животных, так что, сравнивая крайние точки этого огромного ряда, мы находим между ними такое большое несходство, какое трудно было бы даже вообразить. Следовательно, человек являет собой наивысший предел этого огромного ряда созданий природы, будучи существом, наиболее замечательным во всех отношениях40.
Так как нам чрезвычайно интересно опознать это существо, столь же своеобразное, сколько удивительное, посмотрим теперь, что человек представляет собой в действительности, какие положительные знания о нем дает нам наблюдение, и вынесем беспристрастное суждение о нем, лишив его всех иллюзий, которые ему внушены самолюбием, и всего того, к чему привело его, путем воображения, тщеславие.
| {439} |

Человек, это подлинное произведение природы, этот абсолютный предел всего наиболее совершенного, что она могла создать на нашей планете, представляет собой живое тело, составляющее часть животного царства и принадлежащее к классу млекопитающих. Он близок к четвероруким, от которых, однако, отличается особенностями как своего роста, внешнего облика и положения, так и своей внутренней организации,— особенностями, обусловленными усвоенными им привычками и тем превосходством, которое обеспечило ему господство над всеми существами земного шара и дало возможность размножиться, распространиться повсюду и воспрепятствовать увеличению численности других видов животных, которые могли бы оспаривать его власть.
Человек обязан указанным выше превосходством, с одной стороны, своим умственным способностям, которые стоят на гораздо большей высоте, чем у других существ, обладающих этими способностями, и с другой стороны — положению тела, форме и характеру употребления конечностей; ноги служат ему для перемещения и для опоры, он не пользуется ими для схватывания предметов; руки, напротив, не служат ему для перемещения, и по своей форме обеспечивают ему выполнение всего того, что может способствовать его проворству и индустрии. Превосходство, о котором здесь идет речь, зависит также от более совершенного сочетания его чувств. Правда, {440} то или иное специальное чувство может быть развито у некоторых животных сильнее, чем у человека, но ни у одного существа сочетание всех чувств не достигает такого совершенства, как у человека42.
Мы сказали, что человек относится к классу млекопитающих, исходя из того, что его организация в основных своих чертах не отличается от организации этих животных, если не считать особенностей, присущих его виду; подобно другим созданиям природы, человек как вид распадается на несколько разновидностей, которым дали название рас и из которых каждая населяет отдельную область земного шара. По всей вероятности, наиболее древней и вместе с тем наиболее совершенной из них является кавказская раса43.
Таким образом, привычка, обусловленная новым и совершенна особым положением тела, позволила человеку сделать из передних конечностей чрезвычайно важное орудие, благодаря чему он приобрел очень большую ловкость и научился изготовлять различного рода оружие, с успехом пользоваться им для защиты и нападения и сумел подчинить себе таким путем животных, которые не только не уступали ему, но даже превосходили его ростом и силой44. Он имел, следовательно, возможность беспредельно увеличивать число индивидуумов своего вида, повсюду распространяться, занимать все места, пригодные для обитания; ему удалось ограничить численность как близких к нему видов животных, так и наиболее сильных и наиболее диких из них, оттеснить их в пустыни или вообще в места, непригодные для его собственного существования, и тем самым остановить развитие и совершенствование способностей этих животных.
По мере того как человек распространялся почти повсюду, получал возможность значительно размножиться и входил в сношения с себе подобными, его потребности постепенно возрастали и делались более многообразными. Те из животных, которые также обладали умом, хотя и в значительно меньшей степени, имели по сравнению с ним гораздо меньшее число потребностей, а вследствие этого и число их представлений также было весьма ограниченным; для общения между собой им было вполне достаточно лишь немногих знаков. Совсем иначе обстояло дело у человека: по мере того как беспредельно {441} возрастало число и разнообразие его потребностей, возникала необходимость соответственно увеличить число представлений и сделать их более разнообразными. Человек вынужден был изобрести более сложный способ для передачи мыслей себе подобным. Простые знаки оказались для этого недостаточными. Ему понадобилось не только изменять голос, но и научиться произносить членораздельные звуки. В зависимости от уровня умственного развития каждого народа эта членораздельные звуки, предназначенные для передачи понятий, приобрели большую или меньшую сложность. Способность образовывать членораздельные звуки, условно выражающие те или иные понятия, составила, следовательно, способность речи, которую только человек сумел сделать своим достоянием. Формы условного выражения членораздельными звуками обыденных понятий породили различные языки. Что касается условных знаков, отличающих отдельные языки друг от друга, то можно сказать, что все они имеют своим источником те или иные особые обстоятельства, в которых находился тот или иной народ, а также приобретенные благодаря этим обстоятельствам привычки выражать понятия, которыми они пользуются. Поэтому совершенно очевидно, что нельзя считать один язык более естественным для человека, чем другие, т. е. ясно, что не было никакого праязыка и что все языки, сложившиеся в результате употребления у различных народов и изменявшиеся в течение времени, не только стали отличаться один от другого, но и привели к созданию огромного множества разных наречий, известных только в тех местностях, где они употребляются.
Таким образом, увеличение и расширение приемов, которые человек сумел изобрести для передачи своих мыслей индивидуумам своего вида, чрезвычайно содействовали развитию его ума, и он приобрел, благодаря этой совокупности средств, столь большое превосходство над животными, даже над теми из них, которые после него являются наиболее совершенными, что установил значительное расстояние между своим и их видами45.
В настоящее время мы имеем право сказать, что «человек является существом, наделенным умом и умеющим передавать свои {442} мысли себе подобным при помощи речи,— существом наиболее удивительным и достойным восхищения из всех существ, живущих на нашей планете. Властелин земли, на которой он обитает, властелин даже среди индивидуумов своего вида, их друг — при одних обстоятельствах, враг — при других, он представляет по своим свойствам и по развитию своих способностей самые удивительные крайности, самые резкие контрасты. Действительно, это, до некоторой степени непостижимое создание одновременно является носителем как самых лучших качеств, так и самых дурных, ибо человек показывает такие образцы доброты, благожелательности, великодушия, подобных которым невозможно найти ни у одного другого существа, и наряду с этим он обнаруживает примеры черствости, злости, жестокости и даже варварства, с которыми не могли бы соперничать самые свирепые животные. Что касается его склонностей, то в одних случаях, руководствуясь рассудком и высокоразвитым умом, он обнаруживает самые благородные из них: непоколебимую любовь к истине, к положительным знаниям всякого рода, к добру во всех его проявлениях, к справедливости, чести и т. д., но под влиянием эгоизма* его {443} наклонности приобретают грубый и низменный характер, у него развивается постоянное стремление к обману и насилию, злорадство от сознания причиненных им неприятностей, огорчений и даже жестокостей. Наконец, что касается умственных способностей человека, то в каждой цивилизованной стране между отдельными индивидуумами человеческого рода замечается большое неравенство, начиная от самых грубых или самых необразованных людей, понятия и знания которых очень скудны, ум и суждения чрезвычайно ограничены, людей, которые стоят едва ли не ниже животных, и кончая людьми, наиболее развитыми в умственном отношении, обладающими наибольшим запасом понятий и различных знаний, словом, теми людьми, суждения которых всегда обоснованы, а возвышенный и глубокий гений достигает предельного совершенства! Между этими двумя крайними тачками мы, естественно, найдем индивидуумов, занимающих промежуточные ступени развития умственных способностей. Я уже упоминал в моих работах, что существование такой лестницы, громадной протяженности, из последовательных ступеней, образуемой индивидуумами, составляющими человеческий род, и обнаруживающей явно выраженное различие в отношении числа приобретенных представлений, разнообразия знаний и правильности суждений отдельных индивидуумов, — является фактом реальным и неоспоримым.
Из всего, что было изложено мною о человеке и в чем можно убедиться, обратившись к изучению его поступков и истории, следует, что человек — самое удивительное из всех существ, населяющих землю. Можно было бы даже прибавить, что из всех существ, доступных его наблюдению, он меньше всего знает самого себя и что он не придет к истинному познанию самого себя до тех пор, пока сама природа не будет им лучше изучена.
Что, действительно, верно, так это то, что в отношении своего физического существа человек полностью подчинен законам природы47; что под влиянием обусловленных его физической природой склонностей он всегда поступает в соответствии с этими законами и подчиняется им, так что при одинаковых обстоятельствах его {444} поступки всегда одинаковы; что он относится к числу живых тел и, следовательно, всегда подвластен законам, управляющим этими телами; наконец, что по своей организации он близок к животным, и что, рассматривая его организацию в совокупности ее частей, можно сказать, что природа достигла здесь наивысшего совершенства, которым она могла наделить организацию животного, ибо организация человека действительно является самой совершенной из всех существующих видов организации, а ее наиболее важные специальные органы вместе с тем являются и наиболее сложными, словом,— что эта организация обеспечивает наиболее широкое развитие самых выдающихся способностей.
Кроме того, я ясно отличаю у человека два совершенно различных источника его действий, а именно: 1) ум, который наделяет его способностью мыслить, часто влечет за собой волю к действию и акты которого при здоровом состоянии ума всегда находятся в полном его распоряжении, и 2) инстинкт, который часто влечет его к совершению бессознательных действий, следовательно, акты инстинкта вовсе не подчинены воле человека, хотя он может видоизменять, а иногда до некоторой степени подавлять их».
Мы еще вернемся к изучению каждого из этих двух источников действий, но предварительно заметим, что все те способности, которыми они наделяют человека, тесно связаны с его организацией и представляют собой не что иное, как результат функций тех его специальных органов, которые их обусловливают; при этом целостность этих способностей неизменно определяется целостностью соответствующих органов.
Вот характеризующие человека главные общие черты, которые необходимо всегда принимать во внимание при изучении его истории. Что касается современного состояния человека в любой цивилизованной стране и причин, которые, по-видимому, привели его в это состояние, то следует добавить, что чем дальше человек уходит от природы, тем больше нарушаются его спокойствие, здоровье, свобода и счастье. Общество, которое в некоторых отношениях предоставляет ему столько преимуществ, в бесчисленных случаях приносит ему {445} значительный вред: оно все более и более удаляет его от простой жизни, до бесконечности увеличивает число его потребностей, развивает его склонности, давая им возможность порождать все новые и новые склонности; возбуждает в нем то одну, то другую страсть, иногда даже несколько одновременно, смотря по условиям его положения; наконец, увеличивая число его интересов, а в то же время и препятствия к их удовлетворению, оно вызывает в нем беспрерывные терзания духа, которые, как мы это сейчас увидим, оказывают огромное влияние на его судьбу.
«В самом деле, если мы рассмотрим, каковы были для человека последствия того порядка вещей, который установило общество, то увидим следующее:
1. Общество, которое первоначально могло быть простым соглашением некоторого числа индивидуумов в целях взаимной защиты от посторонних посягательств, должно было привести к развитию цивилизации, так как после того как это общество сложилось и расширилось, стало необходимым возникновение [института] собственности, а следовательно,— законов и правительства.
2. Цивилизация, развившись в той или иной стране, мало-помалу привела к огромному неравенству в положении, средствах и умственном уровне людей, населяющих эту страну.
3. Это огромное неравенство дало людям, обладавшим большим количеством средств, большую возможность получать власть над другими людьми и подчинять их себе. Достигшие власти люди постепенно увеличивали эту власть, все более и более усовершенствовали искусство сохранять ее и научились держать порабощенное большинство в состоянии покорности, искусно внушая ему сковывающие его предрассудки и поддерживая преклонение перед авторитетом.
4. Подобное состояние угнетения, ограничивая благополучие индивидуумов, составляющих указанное большинство, в то время, когда, с возрастанием их собственных интересов и нужд, потребности в жизненных благах увеличились, побуждало большинство из них оставлять свои уединенные жилища, покидать сельские {446} местности и скопляться в огромных количествах в больших городах.
5. Там одни из них, скученные обычно в нездоровых местах, вынужденные дышать отравленным воздухом, плохо и неправильно питаться, предавались всевозможным порокам всякий раз, когда к этому представлялся случай, тогда как другие, либо занятые различными видами промышленности, либо, утопая в роскоши и праздности, постоянно удалялись в своем образе жизни от того, что требует природа для сохранения здоровья. Таким образом, индивидуумы всех состояний и положений, составляющие громадные скопления, стали жертвой всего того зла, которое является следствием различных пороков, распространившихся в их среде; волнуемые и мучимые разными страстями, они, не замечая того, теряли здоровье, всевозможными способами отравляли свою кровь, в их организации возникали всякие расстройства, появились зачатки различных эндемических заболеваний, которые передавались из поколения в поколение.
Сколько еще фактов я обхожу здесь молчанием, фактов, которые внесли бы еще много своеобразных черт в картину цивилизации человека! Я скажу лишь, что, какое бы влияние цивилизация ни оказывала на человека, какие бы улучшения она ни вводила, все они всегда будут достоянием ничтожного меньшинства; человек неизменно останется таким, каким создала его природа, с теми же склонностями, теми же страстями, столь же способным к обману или угнетению себе подобных, вечно терзающим самого себя. Таким образом, лишь в известном положении, среднем между нищетой и богатством или знатностью, можно встретить людей, наслаждающихся утехами мирной и счастливой жизни» (Извлечение из «Nonveau dictionnaire d'histoire naturelle». Paris, Deterville)48.
Организация животных, обладающих способностью чувствовать, а еще более — животных, наделенных умом, и главным образом человека, слагается из разных специальных органов и из различных систем этих органов, большей или меньшей сложности, из которых {447} каждая выполняет специальные функции, служащие как для сохранения жизни индивидуума и для его воспроизведения, так и для проявления присущих ему способностей, а также для выполнения всех действий, обеспечивающих удовлетворение его потребностей.
Рассматривая все эти различные органы, я понял, что можно установить между ними различие, которое представляется мне тем более важным, что только таким путем удается освободиться от широко распространенных заблуждений относительно сущности явлений, обусловливаемых некоторыми из этих органов. Побуждаемый потребностью добиваться истины во всем и особенно в том, что непосредственно касается нас самих, я пришел к выводу, что среди различных органов или систем органов одни имеют более грубое [grassier] строение, их легко распознать и определить их форму, связь с другими органами, отдельные их части, содержащиеся в них жидкости, природу их подлинных функций, несмотря на то, что механизм этих функций не всегда еще нами понят. Главные из этих столь различных органов — это органы, служащие для перемещения индивидуума, для разных его движений или движений отдельных частей тела, далее — органы, обусловливающие переваривание пищи, улучшение хилуса, очищение основных флюидов, органы, выполняющие главные процессы секреции и экскреции, наконец, органы воспроизведения, чувств, голоса и т. д. Вот наиболее известные части организации живых существ. Совокупность этих частей я называю ясно различимым организмом [organisme distinct], так как познание его доступно уму рядового человека и все, что в этом отношении может дать анатомия, почти не оставляет желать ничего большего. Я не буду останавливаться здесь на рассмотрении этих органов.
Прочие же органы или системы органов, как общие, так и специальные, хотя видимы или заметны в целом, в действительности ясно не различимы [indistincts], так как, обладая, более тонким строением, чем первые, они то исключительно малы, то, при достаточных размерах, вещество их настолько нежно, а тонкость подразделений их частей так велика, что определить их природу, их строение, все их мельчайшие части, наконец, их действительные функции — для нас {448} почти невозможно; анатомия в этом отношении почти ничего не дает нам. Тонкие флюиды, содержащиеся в этих частях [органах] и совершающие в них различного рода движения, совершенно недоступны нашим чувствам и нашим средствам исследования, и мы имели бы основание вовсе отрицать их существование, если бы нам не было достоверно известно, что в любом органическом акте плотные части сами по себе ничего не могли бы произвести и что все явления, составляющие данный акт,— не что иное, как результат взаимодействия между теми или иными плотными частями и находящимися в движении флюидами. Если в упомянутом выше ясно различимом организме грубые, если можно так выразиться, органы, входящие в его состав, как и содержащиеся в них жидкие флюиды, легко доступны наблюдению и если их специальные функции сопровождаются явлениями, причину и механизм действия которых мы не всегда можем объяснить, то, во всяком случае, все эти явления представляются нам доступными пониманию и согласными с физическими законами. Мы не можем, однако, сказать то же относительно органов ясно не различимого организма, о котором речь идет теперь. И действительно, помимо того, что нами еще не изучено и не определено ни строение этих органов в целом, ни устройство отдельных их частей, ни природа содержащихся в них флюидов и т. д., сами функции этих органов обусловливают столь необычные для нас явления, что, если бы мы не знали, что не все физические средства, которыми природа пользуется в своих действиях, нам известны, мы могли бы предположить, что эти явления вовсе не имеют к ней отношения, могли бы приписать их действию особой причины, отнюдь не подвластной ей [природе], и допустить, что именно они являются доказательством существования этой особой причины, которую без них невозможно было бы познать путем наблюдения50.
Этим-то нежным органам, о которых я говорил, почти не поддающимся определению ни в отношении всего, что их касается, ни в отношении содержащихся в них тонких флюидов, от которых зависит выполнение их функции, словом — этой совокупности частей я дал название неразличимого организма, в отличие от того, который {449} составляет первое из приведенных выше подразделений. Наконец, этим же частям организации и их функциям, выполняемым согласно законам природы, обязаны своим происхождением органические явления, обусловливающие чувство и инстинкт у животных, обладающих способностью чувствовать; инстинкт, склонности, чувствительность, представления и ограниченный круг умственных актов у животных, в той или иной степени обладающих умом; наконец, способность чувствовать, инстинкт, склонности, переходящие иногда в страсти, и вся необъятная область умственных способностей у человека.
Явления, о которых здесь идет речь, кажутся нам чудесными потому, что мы не знаем ни их источника, ни законов их образования, но, тем не менее, все они представляют собой явления чисто органические, следовательно — вполне подчиненные физическим законам51. Они тесно связаны с состоянием органа или органов, в которых они происходят, сохраняя свою целостность и достигнутое ими совершенство до тех пор, пока их сохраняют сами эти органы, подвергаясь изменениям в соответствии с теми изменениями, которые претерпевают сами органы и, наконец, окончательно исчезая, когда последние полностью разрушаются. Следовательно, они не являются чем-то чуждым организации, природе и ее законам; они не подтверждают также существования какой-то особой причины, не подвластной природе, и вместе с тем именно эти явления, сообразно их числу, значению и степени достигнутого совершенства, служат источником то привычек, то разнообразных действий тех существ, у которых они наблюдаются.
На основании всего, что было изложено выше, я считаю, что мы достаточно четко определили, что собственно мы называем неразличимым организмом. Понятно, что это определение должно охватывать нервную систему в целом, а также все те особые системы, которые к ней относятся. В этой общей [нервной] системе, как и во всех других, для выполнения функций и для осуществления явлений, всегда имеется взаимодействие между плотными частями, способными содержать флюиды, и одним или несколькими находящимися внутри их флюидами. Плотные части представлены в рассматриваемом {450} случае нервами, а внутри последних движутся содержащиеся в них флюиды. Согласно этому, можно было бы допустить, что нервы должны представлять собой полые трубки, так как это облегчало бы движение заключающихся в них флюидов. Однако в действительности, они, по-видимому, внутри сплошь заполнены очень нежной мозговой мякотью, окруженной оболочкой из особого вещества, весьма отличного от вещества мякоти. Нужно, следовательно, чтобы тонкий флюид, содержащийся внутри нервов, обладал чрезвычайной тонкостью и чтобы, помимо того, промежутки между частицами мякоти представляли собой полости, достаточные для того, чтобы он мог двигаться в них с присущей ему исключительной скоростью. Если бы мы не встречали примера подобной скорости движений у электрической материи, мы вряд ли могли бы поверить в необычайную скорость движений нервного флюида. Отсюда можно заключить, что флюид, содержащийся в нервах животных, обладающих способностью чувствовать, а также животных, наделенных, помимо того, умом, не исключая и человека, совершенно аналогичен электрической материи. Его даже можно было бы считать электрическим флюидом, слегка измененным под влиянием пребывания в теле животного. Это мнение отчасти подтверждается тем, что у некоторых животных, например, у электрического ската, электрического угря и других, в теле существует особое вместилище, представляющее собой электродвигательный аппарат, которым они пользуются для защиты. Итак, для осуществления явлений, протекающих с такой же скоростью, как различные чувствования, возникла необходимость в органе с бесконечным числом разветвлений, достигающих всех точек тела животного, а также в удивительном флюиде, равном по своей тонкости и по скорости своего движения электрическому флюиду, т. е. во флюиде, обладающем скоростью распространения молнии52. Таким образом, чувствование, в какой бы форме или в каком бы видоизменении оно ни проявлялось, располагает особо приспособленным органом и своеобразным флюидом, движущимся в частях этого органа, т. е. всем необходимым для выполнения характерных для него замечательных явлений. {451}
Рассмотрим теперь эти явления, их природу, свойства, число и те видоизменения, которые они обусловливают. До сих пор мы, в сущности, ничего не знали об этих явлениях или же наши знания о низ; были смутны и отрывочны, потому что мы не изучали их источника. И в языке нашем, бедном и убогом в этом отношении, нет слов для обозначения различных видов этих явлений. Одно и то же слово [чувствование — sentiment] употребляется и для выражения то одного, то другого из этих явлений, и одновременно для определенных их видоизменений53. Поэтому, чтобы внести ясность в этот вопрос, следует предварительно сделать краткий анализ всех этих явлений и дать точное определение каждого из них.
Явления, относящиеся к неразличимому организму, естественно делятся на две категории, имеющие каждая первостепенное значение и настолько отличные друг от друга, что их никогда и не смешивали. Они являются результатом функций совершенно обособленных систем органов, хотя очаги каждой из них расположены на небольшом расстоянии один от другого. Таким образом: одни относятся к области чувствования, другие составляют ум.
Все явления, относящиеся к области чувствования, представляют собой результат какой-нибудь возбуждающей причины, которая извне или изнутри действует на определенные органы чувствующего индивидуума, производит в содержащемся в них тонком флюиде известное сотрясение, передающееся всем частям, даже всем точкам тела данного индивидуума, усиливает это сотрясение благодаря исключительно большой разветвленности путей, по которым оно передается, ж при помощи простой или двойной реакции неизменно производит явления, о которых здесь идет речь. Попытаемся дать подробное изложение всего, что касается этого удивительного порядка вещей, а пока берем на себя смелость утверждать, что во всяком явлении, относящемся к области чувствования, всегда имеются: возбуждающая причина, возбужденные движения, доходящие до всех точек тела, а также простая или двойная реакция, сосредоточивающая всю совокупность движений в определенном месте54.
Всякая возбуждающая причина, как бы слаба она ни была, всегда {452} стремится разъединить части в подвергшемся воздействию участке тела, отдалить их друг от друга, порвать существующую между ними связь и, следовательно, разрушить эту часть тела. Это легко доказать. И вот, если в силу установившегося порядка вещей воздействие, испытываемое телом в определенном участке, в то же мгновение равномерно передастся всем другим точкам этого тела и если механическая реакция запечатлевшихся движений передаст общий результат этих движений либо точкам, первоначально подвергшимся воздействию, либо только общему очагу соответствующей системы органов, то все тело индивидуума в целом испытает воздействие, стремящееся его разрушить. В результате этого общего воздействия индивидуум получит восприятие, которое мы называем чувствованием.
Итак, каков бы ни был физический механизм чувствования, можно быть уверенным в том, что результат любого воздействия на чувствующее существо, в силу порядка вещей, обусловливающего передачу данного воздействия всем частям этого существа, должен усилить его эффект вследствие чрезвычайной разветвленности путей, по которым оно передается. Это воздействие, необыкновенно усиленное благодаря постоянной реакции и наличию того же порядка вещей, будет отнесено к определенной части тела. Существо, наделенное чувствительностью, испытав общее воздействие, пусть даже весьма смутное, получит в месте, к которому это воздействие было отнесено в конечном итоге, восприятие, то более, то менее сильное — в зависимости от природы и интенсивности вызвавшей его причины.
Чтобы понять возникновение этого замечательного явления, надо иметь в виду, что, хотя, согласно принципам моей теории, чувствительная нервная система во многом отличается от тех, которые служат: одна — для возбуждения мышц, другая — для выполнения функций различных внутренних органов, наконец третья — для осуществления умственных актов,— система эта, повторяю, состоит из бесчисленного множества частей, которые, направляясь от всех точек тела, сходятся в одном общем очаге и образуют единое неразрывное целое, пронизывающее все тело и как бы сливающееся с ним55. Это проникнутое жизнью целое, у которого все точки плотных, способных {453} содержать флюиды частей раздражимы, испытав то или иное воздействие, тотчас же принимает в нем участие и в то же мгновение передает его, усиленное до наивысшей степени, в определенное место, где им обусловливается акт чувствования. Если это усиленное до наивысшего предела воздействие достигнет наружных окончаний одного или нескольких нервов, то немедленно возникает явление ощущения; если, напротив, это доведенное до наивысшей степени воздействие заканчивается в общем очаге, то осуществляется акт внутреннего чувства. Во всех случаях произведенный эффект всегда проявляется в месте первоначального воздействия. В дальнейшем изложении мы более подробно рассмотрим эти положения.
Что касается рассматриваемых здесь предметов, то каждый может себе составить собственное представление о них. Люди, которые вследствие лености, привычной рассеянности или легкомыслия не способны к планомерным наблюдениям я к размышлению, возможно, будут приписывать явления, о которых здесь идет речь, чуду, чтобы освободиться от дальнейших размышлений по этому поводу. Такое объяснение может нравиться им тем более, что они не знают, что власть природы ограничена определенной областью, вне которой природа бессильна, и что все явления, которые мы можем наблюдать, в силу необходимости подчинены ее законам. Но тот, кто признает, что все средства, которыми пользуется природа в своих действиях, как бы велики и многочисленны эти средства ни были, носят исключительно физический характер и согласуются с различными ее законами, тот, кто понимает, кроме того, что относительно этих явлений неизвестно ничего положительного, кроме уверенности в том, что существует, с одной стороны, очень сложная, распространенная по всему телу нервная система, а с другой — полное соответствие между целостностью этой системы органов и теми функциями, которые она выполняет, тот, повторяю, предпочтет чуду, которое ничему не учит, допущение, пусть предварительное пока, возможности существования отчетливого и вполне понятного механизма, если и не тождественного механизму самой природы, то, во всяком случае, очень близкого к нему и не противоречащего ни одному из известных ее {454} законов. Люди, осознавшие это, обладают слишком обширными познаниями, чтобы предположить, что среди предметов, относящихся к царству природы, может существовать материя, которой была бы присуща способность чувствовать, или материя живая сама по себе, словом,— материя более органическая, чем другие виды материи56.
Перечислим теперь явления, относящиеся к области чувствования, укажем их отличительные черты и определим имеющиеся между ними существенные различия.
Сущность воздействующей причины, место ее приложения и направление движений, возбуждаемых ею в тонком флюиде, требуют разделения явлений, относящихся к области чувствования, на две главные категории, а именно:
1) ощущения;
2) явления, обусловленные внутренним чувством.
Эти два рода явлений резко отличаются друг от друга как по характеру вызывающих их причин, так и по месту действия каждого из них, словом — по особым, установленным наблюдением, результатам действия этих причин57. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению каждого из этих двух родов явлений в отдельности, приведем здесь аналитическую таблицу обусловленных ими и известных из наблюдения фактов, причем каждый из них дает нам понятие об определенном явлении, которое следует отнести к той или иной группе.
1. Ощущение:
а) Постоянное ощущение, источник чувства существования.
б) Ощущение, возникающее под влиянием обстоятельств.
2. Внутреннее чувство:
Рассматриваемое с точки зрения источника его действия.
а) Почувствованная потребность.
б) Эмоция, являющаяся ее результатом.
в) Сила, необходимая для действия (force d'agir), порождаемая и обусловливаемая эмоцией.
Рассматриваемое с точки зрения причин, управляющих действиями.
г) Природные склонности, порождающие страсти.
д) Приобретенные склонности, составляющие индивидуальные чувства. {455}
Этой краткой таблицы достаточно, чтобы меня могли понять и чтобы показать не только зависимость фактов, обусловленных этими двумя главными физическими причинами, которые я различаю, но, кроме того, чтобы выяснить также источник и характерные черты каждого из упомянутых здесь явлений58.
Приведем теперь беглый обзор фактов, относящихся к области чувствования, и начнем с тех из них, которые являются результатом ощущения.
| {456} |

Об ощущении59
Ощущениями я называю явления, относящиеся к области чувствования, возбуждающая причина которых действует только на окончания возбуждающих нервов; при этом она вызывает в содержащемся внутри них тонком флюиде движения, распространяющиеся от окончаний до общего очага системы, частью которой данные нервы являются, производят в массе нервного флюида, содержащегося в этом очаге, особое возбуждение, тотчас же передающееся всем точкам тела по другим нервам, за исключением того, который первоначально подвергся воздействию. Возбуждение, мгновенно отразившись от всех этих точек, передается общему очагу и отсюда доводит получившееся в результате этого воздействие до окончания того нерва, который первым подвергся раздражению. Индивидууму, у которого выполняется эта функция нервов системы ощущений [nerfs de la sensation], продолжительность этого процесса кажется ничтожно малой, и действительно, функция эта выполняется в одно мгновение, кажущееся ему неделимым.
Отсюда понятно, что только нервы, первоначально подвергшиеся воздействию,— единственные, не получающие возбуждения, посылаемого очагом другим нервам, являются также единственными, способными воспринять результат первоначального воздействия. Поэтому явление ощущения всегда испытывается индивидуумом в области {457} окончаний нервов, подвергшихся воздействию. Иногда даже ему кажется, что он испытывает ощущение в части тела, которой у него больше не существует. Это происходит потому, что нервы, доходящие до этой части, испытали воздействие в области своих окончаний, находящихся [теперь] в сохранившейся части60. Это хорошо известный факт.
Система органов, обусловливающих способность испытывать всякие ощущения, является одной из наиболее важных систем, изучение которой представляет для нас наибольший интерес, ибо без нее мы были бы совершенно лишены представлений, а следовательно, и всякого рода знаний. Действительно, только при посредстве этой системы мы можем наблюдать как то, что находится вне [нас], так и то, что находится внутри нас. Как ни важна система органов, наделяющая нас умственными способностями, она все же стоит на втором месте, поскольку требует наличия системы ощущений. В самом деле, чем были бы умственные способности без наблюдения, позволяющего приобретать представления!
Различают пять различных родов ощущений: четыре из них являются специальными и только пятый имеет общий характер61. Рассмотрим вкратце первые.
| {458} |

О специальных ощущениях
Ощущения, о которых здесь идет речь, представляют собой специальные [particuliers] ощущения, так как они могут осуществляться только в определенных местах тела и в этом отношении резко отличаются от общего ощущения, которое не связано с каким-либо определенным местом ни внутри, ни снаружи тела и может осуществляться в любой его точке. Специальные ощущения бывают четырех родов и образуются они двумя способами. Первые два рода возникают в результате химических процессов, между тем два других имеют совершенно иное происхождение, и эти последние позволяют индивидууму получать восприятия отдаленных от него предметов. Таким образом, мы видим, что эти четыре рода ощущений действительно являются специальными, так как они протекают только в определенных частях тела, и что они отличаются друг от друга способом своего действия: одни из них могут осуществляться только в результате химических процессов, чего вовсе не требуется для других.
Что касается специальных ощущений, являющихся результатом химических процессов, то среди них следует различать обусловленные воздействиями на орган вкуса и ощущения, вызываемые воздействиями на орган обоняния. Для того чтобы могло возникнуть ощущение, как в том, так и в другом случае требуется, чтобы поверхность органа была влажной, иначе ощущения не получится. Действительно, {459} вкусовые или пахучие вещества, приходя в соприкосновение с соответствующим органом, увлажняются на его поверхности, испытывают известное изменение своей природы и тотчас же дают ощущение вкуса, если это вкусовые вещества, и ощущение запаха, если это пахучие вещества.
Что касается специальных ощущений, возникающих нехимическим путем, то среди них также различают две категории, весьма замечательные и резко отличающиеся одна от другой. Они-то и дают возможность индивидууму воспринимать предметы, находящиеся далеко от него. Ощущения, вызываемые предметами, воздействующими на орган зрения, и ощущения, получаемые при помощи органа слуха,— вот два рода специальных ощущений, о которых нам остается упомянуть. Так как эти два рода ощущений в определенных границах знакомят нас с отдаленными предметами, то очевидно, что мы можем получить восприятие от этих предметов только с помощью какой-либо материи, играющей роль посредника, передающего нам воздействие, произведенное этими предметами. Так, например, чтобы ощущение от отдаленных предметов могло быть воспринято органом зрения, необходимо, чтобы свет в качестве посредника обусловил это ощущение в данном органе, и не может быть никакого сомнения относительно природы той материи, которая действительно производит этот эффект.
Иначе обстоит дело в отношении материи, играющей роль посредника, передающего органу слуха воздействия, которые на него производят звуки и шумы. Все физики полагают, что этой материей является один только атмосферный воздух. Что касается нас, то, основываясь на многочисленных, точно установленных наблюдениях, мы имеем по этому поводу совершенно иное мнение. Важнейшие из этих наблюдений изложены в различных наших работах, но после этого нам удалось установить ряд новых фактов, которые, с своей стороны, подтверждают наши взгляды. Здесь мы скажем только, что атмосферный воздух представляет собой флюид слишком грубый, слишком мало упругий и к тому же не обладающий достаточной способностью проникать в другие среды, чтобы он мог передать нашему {460} органу, часто на очень большое расстояние, через плотные тела и даже весьма разнородные массы, ощущение звуков или шумов. Какова бы ни была материя, способная благодаря своей тонкости и предельной упругости передавать нашему органу малейшие оттенки различных звуков и шумов, она в изобилии находится и на земле и в атмосферном воздухе и именно она обусловливает рассматриваемые здесь явления; это дало повод предположить, что они обязаны своим происхождением воздуху62.
Мы рассмотрели вкратце четыре рода специальных ощущений, являющихся для нас столь важными вспомогательными средствами при наблюдении. Теперь скажем несколько слов об общем ощущении, завершающем наши средства [познания].
| {461} |

Об общем ощущении
В отличие от специальных ощущений, уже рассмотренных выше, ощущение, о котором здесь идет речь, не приурочено к определенному месту тела и может осуществляться везде, как на поверхности, так и внутри тела индивидуума. Все точки его тела, за исключением твердых частей скелета, если он обладает последним, почти в одинаковой мере восприимчивы в этом отношении. Вот почему я и называю это ощущение общим. Подобно всем остальным ощущениям, оно осуществляется в области окончаний нервов, и именно к этим концевым точкам всегда относят общий эффект влияния воздействующей причины. Общее ощущение никогда не дает восприятия отдаленных предметов и отнюдь не является результатом химического изменения тех веществ, которые на нас воздействовали.
Итак, каково бы ни было ощущение, воздействующая причина всегда влияет на окончания нервов, и именно к ним относят производимое ею возбуждение, которое, распространившись на все точки тела, обусловливает здесь ощущение.
Мы уже указывали, что всякое воздействие, ведущее к разъединению, отдалению друг от друга или разделению тесно соприкасающихся частей тела чувствующего индивидуума, заставляет его испытывать ощущение. Этот результат, по-видимому, может быть вызван двумя различными причинами: либо то или иное, известное или доступное определению физическое тело приходит в соприкосновение {462} с одной или несколькими точками частей тела существа, обладающего чувствительностью, производит на них давление, которое разъединяет тесно прилегающие друг к другу точки, или же оно само проникает в промежутки между этими точками и тем самым вызывает их разъединение, либо же этой причиной является растяжение и, как следствие его, разрыв, что также ведет к раздвиганию, разрыву и разъединению частей. Как в том, так и в другом случае обе эти причины, вызывающие, вследствие раздражимости, присущей всем точкам чувствующих частей тела, указанное выше возбуждение нервных окончаний, обусловливают, таким образом, ощущение, наиболее правдоподобную теорию которого я только что изложил.
В зависимости от интенсивности воздействующей причины индивидуум может испытывать ощущения различной степени силы, начиная от самого слабого или самого неотчетливого и кончая наиболее сильным, причиняющим резкую боль.
Сколько данных мог бы я привести в связи с этим предметом! Какое множество фактов я мог бы перечислить для доказательства того, что ощущение, приятное для нас при малой интенсивности и доставляющее нам то, что мы называем удовольствием, в дальнейшем, по мере своего усиления, вызывает у нас плохое самочувствие, причиняет боль и, наконец, достигнув предельной силы, становится почти невыносимым!63 Я не намерен останавливаться здесь на рассмотрении этих чрезвычайно своеобразных, интересных и даже важных наблюдений, касающихся тесной связи физического удовольствия, плохого самочувствия, а иногда и боли, ибо все эти наблюдения, которые могли бы дать повод для многих полезных мыслей, выходят за пределы моей темы. Итак, я возвращаюсь к краткому анализу общего ощущения.
В зависимости от того, испытывает ли индивидуум эти ощущения в течение всей своей жизни или же они носят мгновенный и случайный характер, я различаю два рода ощущений, а именно:
1. Ощущения постоянные.
2. Ощущения, возникающие под влиянием обстоятельств. {463}
Как те, так и другие ощущения, по-видимому, одинаковы по своей природе, но так как первые обусловливают чрезвычайно своеобразное и заслуживающее рассмотрения явление — я имею в виду чувство существования64,— я считаю необходимым остановиться здесь на рассмотрении особенностей ощущений первого рода.
Постоянное ощущение. Я называю так ощущение, которое возникает во всех чувствующих точках тела и обычно осуществляется непрерывно в продолжение всей жизни индивидуума. Это ощущение является результатом жизненных движений, перемещения флюидов, трения, сопровождающего это перемещение и обусловленного соприкосновением, следовательно,— воздействующими причинами; иногда даже эти явления сопровождаются своеобразным шумом, который мы отчетливо ощущаем в голове, особенно во время болезни. Эти воздействующие причины, хотя и чрезвычайно слабые сами по себе, при беспрестанном их действии вызывают незначительное возбуждение тонкого флюида, содержащегося в окончаниях нервов, отходящих ко всем обладающим чувствительностью частям тела; это возбуждение передается отовсюду флюиду, содержащемуся в общем очаге, и вызывает своего рода непрерывное сотрясение его. Вероятно, этой физической причиной обусловлено испытываемое нами, правда весьма смутное, глубоко внутреннее чувство существования65.
Несмотря на то, что этот род ощущений имеет почти всеобщий характер, его непрерывность, с одной стороны, и его малая интенсивность, с другой, являются причиной того, что мы его не замечаем, но, хотя мы и не различаем его, мы его чувствуем, так как именно оно дает нам чувство или, иными словами, сознание [собственного] существования. Таким образом, можно считать вполне установленным фактом, что чувство существования у всякого обладающего им создания имеет своим источником ощущение, непрерывно видоизменяющееся.
Во время летаргического сна или спячки, которой подвержены некоторые животные, все жизненные ощущения в значительной мере подавляются, и тогда, по всей вероятности, утрачивается и чувство» существования, о котором была речь выше. {464}
Ощущения, возникающие под влиянием обстоятельств. Продолжительность этих ощущений не обязательно зависит от длительности и интенсивности жизненных движений; они возникают случайно, следовательно, под влиянием обстоятельств, обусловливающих влияние той или иной воздействующей причины.
Ощущения этого рода достаточно известны, ибо каждому приходилось так или иначе испытывать их в продолжение своей жизни. Ощущения эти могут иметь различную интенсивность, начиная от самых слабых, едва различимых и кончая такими, которые причиняют сильную боль. Одни из них приятны нам, доставляют нам удовольствие и даже приносят пользу, вызывая временное усиление некоторых органических функций, однако лишь до тех пор, пока это возбуждение не перейдет известных границ, за пределами которых эти ощущения могут только принести вред. Другие ощущения оказывают на нас противоположное действие, наконец третьи причиняют физическую боль и всевозможные страдания всех степеней силы.
Воздействующие причины, обусловливающие эти ощущения, почти беспредельно разнообразны, тем не менее большая часть их поддается определению; можно даже сказать, что ни одна из этих причин не выходит за пределы знаний, которые мы можем приобрести, ибо все физические явления доступны нашему познанию. В зависимости от обстоятельств, которые их вызывают, одни из этих причин действуют извне на наружные части нашего тела — это всякого рода внешние факторы, которые могут воздействовать на пас при тех или иных обстоятельствах; другие, напротив, действуют на наши внутренние органы и по своей силе и многообразию своих особенностей могут причинить нам большой вред, вызывая всевозможные страдания и целый ряд болезней, которым подвержен человек66.
Приведенных общих замечаний достаточно, так как было бы излишне и совершенно бесполезно углубляться в детали ощущений, возникающих под влиянием обстоятельств. Перейдем теперь к рассмотрению другого рода явлений.
| {465} |

О внутреннем чувстве и о важнейших обусловленных
им явлениях
Рассмотрение внутреннего чувства67 имеет особенно важное значение при изучении явлений, обусловленных организацией как человека, так и животных, обладающих способностью чувствовать. Оно и является двигателем всех действий индивидуума и управляет всеми движениями, находящимися в его распоряжении, а если этот индивидуум наделен органом ума, то одно лишь внутреннее чувство управляет всеми актами последнего.
Таким образом, это чувство свойственно всякому существу, обладающему способностью чувствовать, следовательно, и человеку и другим животным, наделенным этой способностью. Посмотрим теперь, что оно собой представляет.
Речь идет здесь о том внутреннем, весьма смутном чувстве, которое дает индивидууму сознание собственного существования, иными словами — о том глубоко внутреннем, постоянно действующем чувстве, в котором индивидуум не отдает себе отчета потому, что он его испытывает, как бы но замечая его, о чувстве общем, поскольку в нем участвуют все обладающие чувствительностью части тела. Оно составляет то «я», которое ощущают в себе, не замечая его, все животные, обладающие только чувствительностью, но заметить которое могут только животные, наделенные органом ума, способностью мыслить {466} и сосредоточивать на этом чувстве внимание. Как у тех, так и у других это чувство составляет [особую] мощную силу, возбуждаемую потребностями, действующую только путем эмоций и являющуюся источником всех движений и действий, которые эти животные производят.
Чувство, о котором здесь идет речь, имея органическое происхождение, образуется в особом очаге, который, по нашему предположению, находится в точке схождения нервов, именно тех, которые обусловливают [различные] чувства, и так как нервы, отходящие от этого очага, распространяются отсюда по всем точкам тела, то эмоции, возбуждающие нервный флюид очага, могут передавать это возбуждение как нервам, идущим к различным частям тела, так и тем из них, которые должны вызвать то или иное определенное действие.
Известно, что нервная система слагается из различных, связанных между собой органов, следовательно, все части тонкого флюида, содержащегося в разных частях этой системы, также сообщаются между собой, по крайней мере — при посредстве центра отношений или общего очага, и вследствие этого могут испытывать общее сотрясение, когда на этот центр действуют какие-нибудь причины, способные возбудить это сотрясение.
Оставляя в стороне различные движения нервного флюида, не зависящие от воли или инстинкта, движения, полностью прекращающиеся только с прекращением жизни, мы рассмотрим лишь те из них, которые обусловлены случайными обстоятельствами. Необходимо различать два рода этих движений, существенно отличающихся друг от друга, по крайней мере — по месту приложения той воздействующей причины, которая их вызывает. Действительно, те движения, которые вызываются воздействиями, возбуждающими окончания нервов, и которые оттуда направляются к общему очагу, относятся к рассмотренной нами выше специальной системе ощущений. Напротив, те, которые происходят в результате непосредственного воздействия на общий очаг, зависят от внутреннего чувства68. Об этих последних и будет теперь идти речь.
Мы уже сказали, что чувство, о котором мы говорим, может быть {467} возбуждено только испытываемой потребностью. Причина, вызывающая эту потребность, имеет своим источником либо инстинкт, либо акты воли и, как в том, так и в другом случае, возникает ощутимая потребность, которая возбуждает внутреннее чувство. Эмоция этого последнего изменяется в соответствии с природой испытываемой потребности; эта эмоция тотчас влечет за собой действие, служащее для удовлетворения данной потребности, и в то же мгновение мышцы, которые должны произвести это действие, получают соответствующее возбуждение, способное их привести в движение. Итак, всякое побуждение к действию, будет ли оно вызвано инстинктом или актом воли, немедленно превращается в потребность, и, начиная с этого момента, последняя становится действенным началом, которое немедленно возбуждает внутреннее чувство и заставляет его производить действие. Из этих рассуждений следует, что внутреннее чувство является единственным двигателем всех действий человека, а также животных, обладающих способностью чувствовать, каким бы путем ни возникали потребности, побуждающие их действовать69.
Мы сказали, что внутреннее чувство управляет всеми умственными актами. Отсюда следует, что без такого рода управления одни из этих актов вовсе не могли бы иметь места, другие протекали бы беспорядочно или до некоторой степени в неправильной последовательности.
В самом деле, во время сна внутреннее чувство бездействует, и вот, если при этом условии нервный флюид органа ума испытывает то или иное возбуждение, в уме может быть вызван целый ряд ранее приобретенных представлений, однако они выплывают хаотически или в неправильной до некоторой степени последовательности, как это наблюдается в сновидениях; с другой стороны, если в результате болезненного состояния внутреннее чувство перестает управлять умственными актами, [возникающие в уме] представления то появляются неполностью, причем некоторые из них всегда оказываются господствующими, то сменяют друг друга крайне беспорядочно или в удивительно причудливой последовательности. Кратковременный бред, сопровождающий некоторые лихорадки, путаница в мыслях и {468} даже умственное расстройство, все эти последствия некоторых хронических болезней, столь часто угнетающих человечество, свидетельствуют о более или менее полном нарушении функции внутреннего чувства, управляющего мыслями индивидуума в здоровом состоянии70.
Приобретенные представления, как уже было указано в наших работах, размещаются в известном порядке в воспринявшем их органе и как бы распределяются по категориям в различных его отделах. Иногда случается, что внутреннее чувство перестает управлять тем или другим из этих отделов, между тем как оно легко продолжает это делать в отношении других. В этих случаях индивидуум теряет способность здраво рассуждать обо всем том, что связано с этим отделом органа ума, между тем как вне этой области степень разума вполне соответствует уровню его развития и его знаний. Более подробно смотри об этом в главе о внутреннем чувстве в нашей «Philosophie zoologique» (ч. III, стр. 659—675)71.
Чтобы лучше понять наши соображения относительно этого чувства, было бы уместно рассмотреть теперь некоторые из обусловленных им явлений. Эти явления, резко отличающиеся от ощущений по своей природе, по способу действия и по результатам, оказывают гораздо более могущественное влияние на организацию и даже на самую жизнь, чем последние, но, тем не менее, они настолько неотчетливы, что индивидуумы, испытывающие их воздействия, совершенно их не замечают, хотя человеку, почти непрерывно подвергающемуся воздействиям внутреннего чувства, следовало бы особенно сильно сосредоточивать на них внимание, чтобы их замечать, различать и убедиться в том, что именно они побуждают его выполнять различные действия.
Все эти явления, будучи обусловлены, подобно ощущениям, причиной-возбудителем, порождающей движения,— возбуждением, передающимся всем точкам тела и заставляющим все существо индивидуума участвовать в производимых им воздействиях, а также реакцией, относящей все движения к определенному месту,— все эти явления происходят, повторяю, как мы это увидим в дальнейшем, в силу порядка вещей, прямо противоположного тому, который имеет место {469} при ощущениях. Действительно, здесь причина-возбудитель действует непосредственно, притом исключительно на общий очаг нервной системы, но никогда не на окончания сходящихся в нем нервов; наконец, здесь реакции со стороны всех точек мгновенно и одновременно передают тому же очагу все возбужденные движения. Этот порядок вещей является обратным тому, который обусловливает ощущения. Наконец, причина-возбудитель ощущений хорошо известна: в одних случаях какое-либо физическое тело, соприкасаясь с частями данного [организованного] тела или проникая внутрь последнего, стремится раздвинуть или отдалить эти части друг от друга; в других случаях этой причиной является разъединение, оказывающее такое же действие. Здесь, напротив, хотя возбуждающая причина с достоверностью установлена и можно быть уверенным в том, что она имеет физическую природу, все же относительно способа ее действия существуют только одни лишь предположения72.
В отличие от чувства существования, внутреннее чувство можно заметить только во время его действия, т. е. на основании различий между периодами, когда внутренние и очень смутно выраженные явления, которые оно производит, достигают предельной силы, и периодами, когда действие его совершенно не ощущается73. Несмотря на свою расплывчатость, эти явления оказывают огромное воздействие на организацию и хотя они менее явственны, чем большинство ощущений, тем не менее иногда по силе воздействия могут оказаться опасными для жизни, чего никогда не может сделать самая сильная боль, разве только, если она является следствием разрыва или разрушения органов. Наконец, именно к числу этих явлений следует отнести те, которые наделяют чувствующее существо силой, необходимой для действия [force d'agir].
Чтобы выяснить этот интересный вопрос, рассмотрим те из проявлений внутреннего чувства, которые служат источником действий индивидуума. Я различаю среди них три рода проявлений, возникающих последовательно одно за другим и необходимых для выполнения всякого рода действий. Эти три рода явлений следующие: почувствованная потребность, эмоция и сила, необходимая для действия. {470}
Почувствованная потребность. Если бы у какого-нибудь существа, не обладающего чувствительностью, могла существовать потребность, она была бы метафизической, следовательно, была бы лишена всякой действенности*. Реальная потребность может быть только у существа чувствующего, и стоит только ей появиться, как она будет почувствовала. И вот каждая такая почувствованная потребность немедленно вызывает эмоцию внутреннего чувства, причем интенсивность этой эмоции соответствует силе данной потребности. Этот хорошо известный факт установлен наблюдением над сильными эмоциями, вызванными очень сильными, наиболее настоятельными потребностями. Выкают также, особенно, как мы это увидим, у человека, возбуждающие мысли, которые то порождают потребность действовать, то, напротив, требуют прекращения или изменения действий или, наконец, вызывают смятение, не сопровождающееся потребностью действовать. Излишне говорить о том, что человек может испытывать потребности любой интенсивности74.
Что касается существ, одновременно обладающих чувством и умом в той или иной его степени, то испытываемые ими потребности могут возникать двумя различными путями: или причины, обусловливающие эти потребности, действуют непосредственно на внутреннее чувство и это возбуждение влечет за собой действие, способное удовлетворить данную потребность, или же, напротив, причины, порождающие ту или иную потребность, являются результатом одного или нескольких умственных актов, которые могут повлечь за собой решение, или волю к действию. В тот же момент воля превращается в потребность, которая немедленно передается из очага ума очагу внутреннего чувства и возбуждает последнее, а эта эмоция влечет за собой действие, определяемое волей.
В первом случае внутреннее чувство, непосредственно возбужденное причинами, составляющими почувствованную потребность, всегда, {471} и притом безошибочно, производит действие, служащее для удовлетворения данной потребности: это и есть инстинкт.
Совершенно обратное наблюдается во втором случае: потребность, определяемая волей к действию, всегда является результатом суждения; она устанавливается и до известной степени закрепляется прежде, чем достигнет внутреннего чувства, и становится ощутимой только в то мгновение, когда возбуждает это последнее. Но так как всякое суждение вообще сильно подвержено ошибкам, что мы докажем в дальнейшем, то отсюда следует, что обусловленные им акты воли весьма часто могут повлечь за собой ошибочные действия, т. е. действия, противоречащие подлинным интересам индивидуума75.
Очевидно, что у существ, обладающих только способностью чувствовать, всякая потребность инстинктивна, так как вызывающие ее причины всегда непосредственно действуют на внутреннее чувство, вследствие чего требуемое действие никогда не бывает ошибочным.
Эмоция. Это проявление внутреннего чувства свойственно всякому чувствующему существу, независимо от того, наделено ли оно умом или нет. Эмоция вызывается почувствованной потребностью или вообще какой-нибудь причиной, воздействующей на чувство. Мы полагаем, что она состоит во внезапном сотрясении, происходящем в самом очаге чувствительной системы, сотрясении, тотчас же передающемся по нервам этой системы всем точкам тела, в которых эти нервы заканчиваются, и затем столь же быстро возвращающемся к тому же очагу, где оно вызывает либо особое состояние смятения, не сопровождающееся способностью действовать, либо известную силу, которой внутреннее чувство может располагать, пользуясь ею и направляя ее.
Явление, о котором здесь идет речь, общеизвестно, во всяком случае, почти во все времена люди имели о нем понятие и замечали его. Кто не знает, что при встрече с каким-нибудь необыкновенным существом, с диким опасным зверем, при виде разверзшейся вдруг под ногами пропасти, при внезапно раздавшемся сильном взрыве, наконец, при всякой неожиданной горестной вести — немедленно возникает общее внутреннее волнение, победить которое бывает очень трудно й которое часто лишает нас способности владеть своими чувствами {472} и даже бывает опасно для жизни. Этому внутреннему возбуждению дали название эмоции, потому что оно на самом деле нас волнует. Хотя мы замечаем только сильные эмоции, в действительности мы испытываем эмоции всех степеней силы, в зависимости от интенсивности потребности или, во всяком случае, от интенсивности возбуждающей причины.
Всякая эмоция, как сильная, так и слабая, вызывает, как я уже показал, в одних случаях — возбуждение, не влекущее за собой какого-либо действия, в других — проявление [особой] силы, поступающей в распоряжение внутреннего чувства индивидуума, которое ею пользуется и направляет ее. Хотя чувствительная система представляет собой совершенно отдельную систему, но, поскольку она сообщается, благодаря общему очагу, с другими отделами нервной системы, внутреннее чувство управляет имеющейся в его распоряжении силой, произведенной его эмоциями, и направляет ее в двигательную нервную систему, именно — к нервам, возбуждающим те мышцы, которые должны быть приведены в действие. Таков физический порядок, согласно которому выполняются все действия существ, обладающих чувствительностью, а также тех, которые в то же время наделены умом.
Без сомнения, одно только внутреннее чувство, будучи возбуждено, влечет за собой, путем проявления эмоций, выполнение всех действий. Но, обратив внимание на то, что действиям, обусловленным настоятельными потребностями, всегда предшествуют сильные эмоции, я понял, что источником силы, необходимой для выполнения всякого действия, служат именно эмоции внутреннего чувства.
Итак, всякая почувствованная потребность всегда вызывает эмоцию внутреннего чувства индивидуума, и всякий раз, когда данная потребность влечет за собой необходимость действовать, эмоция этого чувства неизменно обеспечивает требуемое действие силой, достаточной для его выполнения76.
Сила, необходимая для действия. Если бы удалось определить источник, из которого животные черпают силу, необходимую для {473} выполнения действий, то была бы разрешена одна из самых интересных проблем зоологии.
Я указал, что движения животных всегда являются результатом возбуждения, что они не могут быть сообщены им [извне] и что из всех тел природы это свойство присуще только им одним («Histoire naturelle des animaux sans vertebres», т. I, стр. 102). Если верно, что нет ни одного исключения в этом отношении, то можно считать установленным, что все движения животных — не что иное, как результат действия причины-возбудителя, которая не способна ни сообщить индивидууму свое собственное движение, ни разделить его с ним, но может лишь возбудить в нем движение, которым сама вовсе не обладает77.
Принимая во внимание различие в состоянии и степени сложности организации, так же как и в средствах, которые наблюдаются у существ всего животного царства, не трудно понять, что причина-возбудитель их движений не может быть одинаковой для всех.
У животных, лишенных чувствительности, т. е. не способных чувствовать какую-либо потребность, причиной-возбудителем различных движений являются внешние факторы. Именно эти многочисленные факторы наделяют этих животных силой, необходимой для действия. Иначе обстоит дело у животных, обладающих способностью чувствовать. Обладая внутренним чувством, они могут испытывать и ощущать потребности; таким образом, для них, как и для самого человека, каждая почувствованная потребность является причиной, возбуждающей движения и действия. Эта причина действительно возбуждает внутреннее чувство, вызывает сотрясение в очаге чувствительной системы и результатом этой змоции является сила, необходимая для действия78.
Итак, мы видим, что причиной-возбудителем всякого действия всегда является почувствованная потребность и что эмоция, вызываемая этой потребностью во внутреннем чувстве, всегда влечет за собой силу, необходимую для действия. Теперь остается только рассмотреть все, что касается направления этих действий, а именно — {474} ту единственную причину, которая может обусловить это направление, а также те особые причины, которые способны его изменять.
Мы уже указали, что действия человека и животных, обладающих способностью чувствовать, всегда выполняются под влиянием внутреннего чувства и что эти действия являются результатом почувствованной потребности. И вот необходимо принять во внимание, что это внутреннее чувство наделено самой природой склонностями, которыми оно всегда пользуется в соответствии с осуществляемыми им действиями, до тех пор, пока причины, лежащие вне его, не заставят его изменить это направление. Рассмотрим теперь, что представляют собой эти склонности.
| {475} |

О природных склонностях
Здесь нам предстоит рассмотреть очень важный предмет, который один только может объяснить подлинный источник поступков человека. Я имею в виду полученные человеком от природы склонности, являющиеся неизменным продуктом его внутреннего чувства. В самом деле, этим путем природа дает человеку как общие, так и индивидуальные склонности. Человек не в состояния полностью преодолеть первые из них, но с помощью своего разума и правильного понимания своих интересов может как видоизменять, так и управлять вторыми79. Те из его склонностей, которым он безраздельно отдается, превращаются в страсти, порабощающие его и управляющие всеми его поступками помимо его воли.
Каждая из склонностей, о которых здесь идет речь, представляет собой не что иное, как постоянное стремление внутреннего чувства индивидуума к определенной цели, стремление, которое появляется всякий раз, когда это чувство должно выполнить какое-нибудь действие и когда обстоятельства, в которых данный индивидуум находится, благоприятствуют развитию этой склонности. Отсюда следует, что во всех поступках человека всегда можно обнаружить влияние, которое на них оказывают его склонности, более или менее измененные его разумом. Без сомнения, все эти склонности развиваются только в том случае, если им благоприятствуют обстоятельства, и в последнем случае результаты их хорошо поддаются нашему наблюдению. Поскольку {476} склонности оказывают столь сильное влияние на все поступки человека, очень важно иметь о них правильное представление.
По мере того как человек расселялся по различным странам земного шара, по мере того как он размножился там, стал жить в обществе себе подобных, наконец, по мере прогресса цивилизации, его удовольствия, желания и, вследствие этого, его потребности необычайно увеличились и усилились, его взаимоотношения с обществом, частью которого он являлся, с своей стороны, изменялись и осложнили его личные интересы. Склонности, которыми его наделила природа, как и его новые потребности, все более и более увеличиваясь в числе, создали у него, незаметно для него самого, огромное множество связей, которые его почти полностью поработили, хотя он и не сознает этого.
Легко понять, что эти столь разнообразные индивидуальные склонности и частные интересы, всегда вынужденные уступать интересам общественным, которым они часто противоречат, находясь в то же время в постоянном противоречии между собой, неизбежно привели к конфликту противоположных сил, которому законы, всякого рода обязанности, условности, установленные господствующим мнением, и даже мораль зачастую не могут противопоставить достаточно сильной преграды80.
Без сомнения, человек рождается, не имея ни представлений, ни знаний, обладая одним лишь внутренним чувством и общими склонностями, которые самопроизвольно стремятся развиваться. Только с течением времени и благодаря воспитанию, опыту и обстоятельствам, в которых человек находится, он приобретает всякого рода представления и знания, так как с самого рождения имеет органы, способные обеспечить ему их наличие.
И вот, так как люди, в зависимости от положения и условий, в которых они находятся в обществе, в неодинаковой мере приобретают понятия и знания, легко видеть, что те из них, которым удается приобрести больший объем представлений и знаний, получают тем самым средства господствовать над другими, и мы знаем, что они никогда не упускают этой возможности. {477}
В самом деле, упомянутый выше конфликт интересов побуждает многих людей, которые приобрели большое количество представлений и часто вращаются в обществе себе подобных, непрерывно подавлять свое внутреннее чувство, скрывать его проявления, так что в конце концов эти люди получили возможность и привычку управлять им. Отсюда понятно, какие преимущества в отношении средств господства и успеха во всех своих делах эти индивидуумы могли приобрести по сравнению с теми, которые сохранили больше непосредственности. Для тех, кто знает, как изучать человека, интересно наблюдать многообразие личин, под которыми скрывается эгоизм индивидуумов, в зависимости от их состояния, положения в обществе, власти и т. д.
Вот краткий перечень общих причин, приведших цивилизованного человека в то состояние, в котором мы видим его в настоящее время в Европе, когда, несмотря на приобретенные им знания и даже благодаря им, человек, обладающий меньшими возможностями, всегда оказывается жертвой тех, кто располагает большим числом их,— к тому состоянию, повторяю, которое всегда позволяет облеченному властью меньшинству порабощать огромное большинство81.
При таком положении вещей единственный способ извлечь из нашего собственного положения наибольшую пользу заключается, с моей точки зрения, в следующем: опираясь на разум, справедливость и мораль, создать себе известное число принципов и никогда не отступать от них; стремиться распознавать склонности, полученные человеком от природы, и изучать различные их проявления у индивидуумов своего вида, принимая при этом во внимание обстоятельства, в которых каждый индивидуум находится. Подобного рода знания будут очень полезны в наших взаимоотношениях с другими людьми.
Таким образом, для того чтобы с наименьшим ущербом для себя управлять своим поведением в отношении Людей, с которыми мы вынуждены жить и общаться, мы обязаны изучать этих людей, раскрывать, поскольку это окажется возможным, источник их действий и стараться понять природу поступков, которые они по необходимости выполняют соответственно их полу, возрасту, положению [в обществе], {478} богатству, физическому состоянию или власти, особенно поступков, обусловленных склонностями, которые могли развиться у них при данных обстоятельствах. Мы должны будем принять во внимание, что с изменением возраста, положения [в обществе], обеспеченности или власти изменяются и характер чувствования, и взгляды на вещи, и суждения и что все это всегда порождает соответствующие влияния, определяющие поведение.
Но как достигнуть цели в столь трудном изучении, если нам совершенно неизвестно то существенное влияние, которое природные склонности оказывают на все поступки человека!
И вот, поскольку мне казалось, что этими необходимыми познаниями слишком пренебрегают, я решил дать чрезвычайно краткий очерк их основ. Вопросы, которые я намерен осветить здесь, рассматривались до сих пор как относящиеся целиком к области морали, поэтому все то, что имеет непосредственное отношение к области природы, вовсе не изучалось. Между тем именно эта сторона вопроса является наиболее существенной. Рассмотрение одной только этой стороны я беру на себя и это дает мне право предложить следующие основы анализа склонностей человека и их развития в условиях цивилизации.
Как только индивидуум, обладающий способностью чувствовать, следовательно и человек, начинает испытывать внутреннее чувство и тем самым чувство существования, природа внушает ему себялюбие — склонность, которую он сохраняет в продолжении всей жизни. Это себялюбие неизменно порождает в нем шесть общих склонностей, каждая из которых, в зависимости от обстоятельств, достигает большего или меньшего развития. Перечислим эти склонности:
Общие склонности. Склонности, о которых здесь идет речь, могут быть названы общими, так как их влияние всегда проявляется во всех действиях индивидуумов нашего вида. Эти склонности следующие:
1. Склонность к самосохранению.
2. Склонность к независимости, порождающая пламенную любовь к личной свободе. {479}
3. Склонность оказывать себе во всем предпочтение перед другими, составляющая личный интерес.
4. Склонность господствовать в каком бы то ни было отношении.
5. Склонность, вызывающая постоянное стремление к благополучию, как физическому, так и духовному.
6. Наконец, склонность, внушающая страх перед уничтожением своего [физического] существа.
Перечисленные мною шесть склонностей составляют единственный источник, из которого все действия человека черпают движущую их силу, и так как эти склонности даны ему природой, носят общий и постоянный характер, то нельзя понять причину его действий, не придавая первостепенного значения именно этим склонностям82. Что касается направления самих действий, то в одних случаях оно всецело зависит от внутреннего чувства, т. е. управляется упомянутыми выше склонностями, тогда как в других оно определяется состоянием ума и, следовательно, управляется суждением и волей, порождаемыми умом. Но как в том, так и в другом случае всегда можно обнаружить сильное влияние этих склонностей.
Понятно, что кроме указанного здесь влияния, существует и другое, не менее важное и не менее заслуживающее рассмотрения. Я имею в виду влияние возраста, пола, положения индивидуума в обществе и т. д. В этом именно и заключаются те подлинные элементы, которые необходимо принимать во внимание при вынесении суждения о причинах различных действий человека. Очевидно, что в этом отношении натуралисту принадлежит немаловажная роль, ибо без этих существенных основ, которые дает наблюдение природы, все умозрения моралистов будут совершенно произвольными.
Обратимся теперь к последовательному рассмотрению каждой из названных выше склонностей.
Склонность к самосохранению выражается у всякого индивидуума, наделенного чувством существования, в постоянном стремлении внутреннего чувства, побуждающем его в продолжение всей жизни отыскивать и овладевать всем, что может способствовать самосохранению. Это наиболее могущественная из всех склонностей человека, {480} одновременно отличающаяся наибольшей общностью и меньше всех других способная изменяться. Сама по себе эта склонность ничем не может быть вредна человеку; напротив, она может приносить только пользу. Не подлежит сомнению, что природа наделила человека этой склонностью для того, чтобы он сам мог содействовать своему благоденствию на протяжении всего своего жизненного пути, в естественных границах последнего. Все остальные общие склонности, по-видимому, являются не чем иным, как непосредственными следствиями этой склонности. Природа должна была дополнительно наделить ими человека для того, чтобы и они могли служить для удовлетворения потребностей, порождаемых первой из указанных склонностей83.
Что касается склонности к независимости, т. е. той склонности, которая пробуждает у индивидуума горячую любовь к свободе, то понятно, что природа должна была наделить этой склонностью, помогающей выбирать все то, что способствует самосохранению и благополучию особи, все обладающие чувствительностью существа и сделать ее особенно сильной у существ, обладающих умом, и главным образом — у человека. У индивидуумов, облеченных властью, эта склонность непрерывно стремится стать господствующей, потому что они убеждены, что чем больше им удастся ограничить свободу других людей, тем большей свободой они будут пользоваться сами84. К совершенно обратным результатам приводит эта склонность у порабощенных индивидуумов. Последние стремятся поделить между собой и сохранить хотя бы ту долю свободы, которой закон их не лишает, однако, если представляется возможность, они всегда стремятся увеличить эту степень свободы. Склонность к независимости в такой мере свойственна всем чувствующим существам, что все животные, обладающие способностью чувствовать, стремятся сохранить свою независимость, поскольку это в их силах, а многие из них, утратив ее, например подпав под власть человека, погибают от тоски. Поэтому, если человеку удается часто сохранить некоторые из них в неволе, то только потому, что он приручает их очень молодыми. Подобно этому, если человек сумел вывести для своих нужд определенные породы домашних животных, то он, без сомнения, достиг этого только при помощи {481} ряда искусственных приемов, а именно тем, что выбирал очень молодых особей, хорошо обращался с ними и мало-помалу создал у них привычку жить только с его помощью, тем самым избавляя их от необходимости постоянно заботиться об удовлетворении своих потребностей.
Что касается склонности во всем оказывать себе предпочтение перед другими, то она также присуща всем животным, обладающим чувством существования, а у человека она составляет так называемый личный интерес. Эта склонность представляет собой результат себялюбия, и так как все то, что она заставляет выполнять, способствует самосохранению и благополучию индивидуума, то она действительно оказывает очень заметное влияние на все его поступки.
У человека эта склонность составляет всегда присущее ему чувство, способствующее его самосохранению, так как оно поддерживает в нем любовь к жизни; сама по себе эта склонность не может быть вредной, отрицательные последствия имеют только ее проявления, если они не умеряются разумом. Для исследования этой склонности необходимо рассмотреть ее главные проявления: 1) под действием только внутреннего чувства; 2) под действием внутреннего чувства и свободной [ничем не руководимой] мысли; 3) под действием внутреннего чувства и мысли, руководимой разумом.
1. Под действием одного внутреннего чувства личный интерес, в зависимости от обстоятельств, порождает то непроизвольные движения, выполняемые без предварительного размышления, например, вздрагивание при неожиданном сильном шуме, внезапные движения, заставляющие обращаться в бегство при неминуемой опасности, то различные проявления малодушия, например, страх, робость и т. д., то, наконец, различные страсти, как, например, отвращение ко всему, что причиняет вред или чуждо по духу,— источник ненависти, и наоборот: влечение ко всему, что приносит пользу, близко по духу или отвечает нашим вкусам,— источник дружбы. Все эти различные проявления относятся к области инстинкта85.
2. Под влиянием внутреннего чувства и свободной мысли, т. е. мысли, которая ни в какой мере не контролируется разумом, личный {482} интерес, в зависимости от обстоятельств, обусловливает либо два неупорядоченных чувства, каковы безграничные самолюбие и эгоизм, либо беспредельную активность [force d'action].
Первое из этих чувств побуждает нас быть довольными своими личными качествами и внушает нам лестное мнение о наших собственных заслугах. Всем известно, что мы никогда не бываем недовольны своим характером, своими суждениями, своим умом; это чувство заставляет нас устанавливать границы познаний, которые могут быть достигнуты, исходя из границ, поставленных собственным умом и собственными знаниями; наконец, оно же «заставляет нас искать в трудах других людей только наши собственные мнения или все то, что их подтверждает. К числу крайних проявлений самолюбия следует еще отнести тщеславие, чванство, самодовольство, гордость, наконец, зависть к тем, кого отличают подлинные заслуги86.
Вторым неупорядоченным чувством, порождаемым личным интересом, является эгоизм — чувство, достойное презрения, ибо оно заставляет нас видеть во всем только собственное я, всегда иметь в виду только себя, не уделять никакого внимания мнениям других и во всем преследовать только собственные интересы, почти всегда превратно помятые.
Известно, что это неупорядоченное чувство порождает скупость, жадность и т. д., заставляет нас не признавать никакого иного права, кроме наших собственных интересов, и в случае надобности входить в сделки с [моральными] принципами; оно же вызывает приверженность к предрассудкам, отвечающим нашим интересам, делает пас равнодушными ко всему, что нам чуждо, черствыми и безучастными к бедам, страданиям и несчастьям других и т. д. и т. п.
Иногда теми же упомянутыми мною путями личный интерес порождает необычайную активность действия и беспредельный порыв чувства, например, отвагу и даже беззаветную смелость, под влиянием которой человек слепо и часто без крайней необходимости бросается навстречу опасности, предварительно не ознакомившись с ней. {483}
3. Под действием внутреннего чувства и мысли, руководимой разумом, личный интерес, полностью управляемый разумом, обусловливает самые важные свои проявления, а именно: 1) настойчивость, характерную для трудолюбивого человека, которого не останавливают длительность и трудность полезного труда; 2) мужество, когда, имея представление об опасности, человек, тем не менее, подвергает себя ей, если знает, что это необходимо; 3) любовь к мудрости.
Это последнее качество, которое одно только и является основой истинной философии, поднимает необыкновенно высоко человека, пользующегося теми познаниями, которые ему дают наблюдение, опыт и привычка к размышлению, и руководствующегося во всех своих действиях лишь тем, что ему подсказывают справедливость и разум: любить истину во всем, приобретать всякого рода положительные знания, чтобы добиваться, все большей и большей правильности своих суждений; везде и во всем избегать крайностей; умерять свои желания и благоразумно сдерживать свои несущественные потребности; соблюдать чувство меры во всех своих поступках; избегать всякого притворства; соблюдать во всем общепринятые условности; быть снисходительным, терпимым, гуманным и добрым; любить общественное благо и все, что полезно ближним; презирать изнеженность, быть до некоторой степени суровым к самому себе, что избавляет от множества ложных потребностей, порабощающих тех, кто предастся им, быть покорным судьбе и там, где это возможно, проявлять моральную стойкость в страданиях, превратностях судьбы, несправедливостях, притеснениях, утратах и т. д.; уважать порядок, общественные установления, власть, законы, мораль, наконец — религию.
Соблюдение этих положений характеризует истинную философию, удерживает человека от необузданных проявлений его склонностей, от страстей, которые могут его волновать, и придает ему то высокое положение, которого он один из существ, обладающих умом, может достигнуть87.
Что касается склонности господствовать, то из всех общих склонностей ото наиболее замечательная по той силе воздействия, которой {484} она может достигнуть при благоприятствующих этому обстоятельствах. Именно эта склонность чаще других обнаруживается в поведении человека, и мы действительно можем наблюдать ее во всех его поступках. Она существует у человека уже с самого детства и непрерывно и неосознанно проявляется у него. Склонность господствовать достигает то большего, то меньшего развития в зависимости от положения, которое человек занимает в обществе. В самом деле, несчастья, притеснения и состояние привычной зависимости в значительной мере подавляют эту склонность, тогда как благополучие и постоянный успех способствуют ее развитию. Отсюда следует, что эта склонность достигает наибольшей силы у человека, которому все благоприятствует, и что, напротив, доброта, гуманность, умеренность и даже мудрость свойственны лишь тем, кто много страдал от людской несправедливости.
Склонность, о которой идет речь и которую мы получили от природы, обычно настолько активна, что ее всегда легко бывает обнаружить. В спорах, возникающих между индивидуумами, и в собраниях, при совместных обсуждениях, постоянно приходится наблюдать, что под влиянием этой склонности некоторые люди стремятся опровергать чужие мнения и подчинить их своим собственным, опираясь на свои, не терпящие возражений суждения.
Эта же склонность господствовать, это стремление обладать какими-нибудь преимуществами по сравнению с другими людьми, вызывает у человека смутное и общее чувство неудовлетворенности, мешающее ему быть довольным своей судьбой, чувство, проявляющееся тем энергичнее, чем больше у данного индивидуума запас представлений и чем больше развит его ум, так как при этих условиях его непрерывно волнуют те препятствия, которые эта его склонность везде встречает.
Известно также, что никто не бывает доволен своей судьбой, какова бы она ни была, что никто также не бывает доволен своими реальными возможностями и что человек, понесший ущерб в чем-либо, всегда более несчастен, чем тот, который вовсе не преуспевает [в жизни]. Известно также, что всякое, как физическое, так и духовное, {485} однообразие, которое не может быть устранено непрерывным трудом, неизбежно ограничивая внутренние стремления, вызывает в нас то чувство пустоты, то смутное чувство духовного неблагополучия, обычно называемое скукой, которое пробуждает в нас ненасытную потребность в перемене,— источник притягательной силы, которую имеет для нас разнообразие.
Та же склонность непрерывно побуждает человека увеличивать число средств, которые могут обеспечить ему господство, и человек никогда не упускает возможности развивать эту склонность, пользуясь то властью, то богатством, то своим положением, вообще теми или иными разнообразными преимуществами всякий раз, когда для этого представляется подходящий случай.
Именно эта склонность, не дающая ни при каких достижениях полного удовлетворения, порождает страсть, которую называют честолюбием и которая лишает покоя тех, кто ей подчиняется.
Нетрудно сделать выводы из всего сказанного нами, однако я не буду распространять их ни на события былых времен, ни на события современные. Скажу лишь, что так как природа наделила всех людей горячей любовью к свободе и непреодолимой склонностью господствовать, то люди, обладающие властью, всегда стремятся безгранично увеличивать и развивать эту склонность, стараясь победить или разрушить все, что могло бы создать препятствия на ее пути88.
Что касается склонности, побуждающей нас стремиться к благополучию, как физическому, так и духовному, и, следовательно, избегать всего, что мешает этому, то склонность эта также дана нам природой, существует у всех нас, содействуя или благоприятствуя нашему самосохранению. В самом деле, эта склонность не только влечет за собой необходимость избегать неблагополучия, т. е. стремиться избавиться от страданий, какова бы ни была их природа или их сила, но, кроме того, она непрерывно побуждает нас обеспечивать себе противоположное состояние, т. е. благополучие.
Однако благополучие не есть еще то состояние, которое избавляет от какого бы то ни было неблагополучия. Такое состояние вообще неосуществимо для человека, ибо он всегда имеет те или иные {486} неудовлетворенные желания, следовательно — и те или иные неудовлетворенные потребности. Но человек неизменно испытывает состояние благополучия всякий раз, когда он получает какое-нибудь удовольствие, и действительно, удовольствие испытывают только при удовлетворении той или иной потребности, независимо от ее природы. Известно, что в зависимости от степени интенсивности испытываемого при этом чувства мы испытываем то, что называют в одном случае удовлетворением, в другом — удовольствием.
Истинное благополучие должно было бы заключаться в сочетании благополучия физического и духовного. Но, помимо того, что это сочетание вообще почти неосуществимо, чувство благополучия ощущается лишь в минуты полного удовлетворения, а эти минуты, увы почти всегда слишком мимолетны, прерываясь или сменяясь огорчениями, притом — духовными чаще, чем физическими. Таким образом судьба человека слагается из неправильного чередования благополучия и неблагополучия. Среди них, по-видимому, преобладают, в особенности духовные страдания89.
Наконец, склонностью, заставляющей нас испытывать чувство страха при мысли об уничтожении нашего физического существа, мы также обязаны природе, поскольку это чувство является непосредственным результатом склонности к самосохранению, которой она нас наделила. Этим, имеющим глубокие корни чувством, разделяемым всеми без исключения людьми, по-видимому, обладает только человек, так как весьма вероятно, что он — единственное разумное существо, имеющее представление о смерти. Это чувство внушает человеку постоянный страх и отвращение перед мыслью о разрушении своего [физического] существа; оно же представляется мне источником надежды, созданной человеком об ином, не имеющем предела существовании, которое должно наступить вслед за земной жизнью, и эта надежда примиряет его с мыслью о неизбежности утраты земного бытия. Реальное обоснование этой надежды пока еще не найдено, но у человека, возвысившегося до идеи о верховном творце всего существующего благодаря наблюдению тех его творений, которые он способен созерцать, эта высокая идея поддерживает упования на {487} загробную жизнь и внушает ему религиозное чувство, а также побуждает его выполнять те обязанности, которые она не него налагает90.
Я не буду останавливаться на рассмотрении вопроса о том, как это религиозное чувство может изменяться под влиянием некоторых природных склонностей, которым слишком часто бывают подчинены все поступки человека; не буду также касаться того, каким образом фанатизм и религиозная нетерпимость, столь сильно отличающиеся от истинного благочестия, могут явиться результатом склонности человека господствовать. Все, что было приведено выше, дает достаточно ясное понятие об этом.
Несмотря на то, что человеку в течение его жизни приходится сталкиваться с бесчисленными препятствиями и претерпевать множество физических и нравственных страданий, он почти непрерывно испытывает чувство высокого удовлетворения, порождаемое чувством существования, причем это чувство покидает его только во время глубокого сна и при летаргическом состоянии. А чувство удовлетворенности, удовольствия, как мы указывали, является состоянием благополучия, тогда как всякая неудовлетворенная потребность влечет за собой состояние неблагополучия. Без сомнения, вся жизнь человека — не что иное, как беспрестанная неравномерная смена тех или иных радостей и страданий, то физических, то духовных. Несмотря на это, состояние благополучия почти непрерывно испытывается индивидуумом благодаря глубоко внутреннему чувству существования, дающему ему радость бытия. Это — то чувство, которое порождает в нем природная склонность к самосохранению. Поэтому величайшим несчастьем для человека является потеря жизни.
Пусть не приводят самоубийство, ставшее, к несчастью, слишком обычным явлением и наше время, в качестве возражения против существования этого глубокого чувства, которое, по нашему мнению, дано человеку природой. Мы на это ответим, что самоубийство есть плод болезненного состояния, при котором нарушаются законы природы. В самим деле, в одних случаях причиной его служит лихорадочное состояние головного мозга, вызывающее глубокое нарушение {488} представлений и появление неправильных суждений; в других случаях, напротив оно является результатом сильного потрясения внутренного чувства индивидуума, лишающего его способности правильно судить, заставляющего видеть вещи в ложном свете и побуждающего внезапно покончить с собой. Таким образом, самоубийца — это больной, потерявший способность управлять своим разумом, следовательно, не отвечающий за свои поступки.
Таковы различные природные склонности человека, эти истинные продукты его внутреннего чувства, оказывающие обычно большое влияние на все его действия. Из них исключительная любовь к свободе, личный интерес и стремление к господству при благоприятных обстоятельствах развиваются особенно сильно.
У человека, помимо того, наблюдаются и приобретенные чувства, обусловленные его воспитанием, положением в обществе, влиянием людей, с которыми он общается, наконец, теми взглядами, которые благоприятствуют его личным интересам. К этим приобретенным чувствам прежде всего относятся внушенные ему предубеждения и различные предрассудки, или особые влечения, которым он подвластен и в происхождении которых он обычно не отдает себе отчета.
Все эти различные склонности человека относятся к области его внутреннего чувства, причем одни из них являются естественными проявлениями последнего, а другие — особыми его видоизменениями. Перейдем теперь к рассмотрению другого рода органических явлений, также зависящих от внутреннего чувства, иными словами — к рассмотрению тех явлений, которые составляют инстинкт.
| {475} |

Об инстинкте91
Инстинктом называют ту могущественную внутреннюю силу, которая заставляет наделенные ею существа действовать непосредственно. Это один из тех двух источников действий, которым обладают человек и животные, наделенные умом, и единственный, которым пользуются животные, обладающие способностью чувствовать. Животные, лишенные чувствительности, вовсе не имеют ее. Инстинкт давно уже был признан причиной, обусловливающей и направляющей действия животных, его приписывали всем им и противопоставляли ему разум, считая последний свойством, присущим исключительно человеку.
Но как в отношении инстинкта, так и в отношении разума мы часто заблуждаемся, ибо источник и природа как того, так и другого нам еще совершенно неизвестны.
У всякого существа, обладающего способностью чувствовать, инстинкт является одним из проявлений присущего ему внутреннего чувства, чувства весьма смутного, которое при определенных обстоятельствах побуждает его выполнять действия бессознательно, боа предварительного решения, без какой бы то ни было мысли, а следовательно, и без участия воли. Вот, по моему мнению, правильное определение инстинкта.
Всякое чувствующее существо, т. е. существо, наделенное способностью чувствовать,— а такого рода существа встречаются только в {490} животном царстве,— обладает этим внутренним чувством, которым оно пользуется, не будучи в состоянии различить его, и которое дает ему весьма смутное представление о собственном существовании, иными словами, дает ему ощущение своего «я», знакомое нам потому, что мы можем сделать его предметом внимания.
Это глубоко внутреннее чувство существования, это «я», как уже было указано мною, нам давно хорошо известно, но мне кажется, что я первый открыл и понял то внутреннее чувство, которое его обусловливает, то действенное начало, которое может быть вызвано почувствованной потребностью и в то же время способно заставить немедленно выполнять те или иные действия. Этим чувством вовсе не занимались, не изучали ни его природы, ни его источника; инстинкт оставался для нас явлением, которое мы только замечали, чем-то происходящим от неизвестных причин, причисляемых нами вместе со многими другими [явлениями] к тайнам организации, казавшимся нам непостижимыми.
Чтобы дойти до познания той внутренней могущественной силы, о которой здесь идет речь, необходимо было обратить внимание на естественное следствие тесной связи между всеми частями нервной системы, достигшей той степени сложности, при которой все части тела индивидуума снабжены ее разветвлениями; необходимо было отдать себе отчет в том, что благодаря этой связи одних частей нервной системы с другими все тело индивидуума по необходимости участвует в малейшем сотрясении, возбужденном в упомянутой системе, далее,—что, поскольку все части этой системы всегда сходятся в общем очаге, постольку малейшее возбуждение содержащегося в них топкого, чрезвычайно подвижного флюида должно именно вследствие этой его подвижности немедленно передаваться всему индивидууму в целом, отражаться от всех точек, достигать очага, являющегося одновременно очагом неясного внутреннего чувства, существующего благодаря этому порядку вещей; наконец, необходимо было понять, что всякая потребность становится ощутимой только в тот момент, когда предмет, в котором индивидуум нуждается, или тот, который ему мешает или вредит, вызовет некое движение в {491} очаге, о котором здесь была речь, и что только в этом случае потребность становится ощутимой.
Мне остается показать, каким образом потребность дает о себе знать внутреннему чувству, т. е. каким путем она достигает и возбуждает его. Для этого достаточно вспомнить, что очаг ощущений одновременно является очагом внутреннего чувства и что существующий раздельно от него очаг ума сообщается с находящимся от него на близком расстоянии очагом ощущений. При таком положении вещей очевидно, что потребности, связанные с ощущениями, легко передаются внутреннему чувству самими ощущениями; так, например, при внезапном ожоге причиненная им болт, сразу вызывает потребность избавиться от нее и, достигнув внутреннего чувства, эта потребность сразу возбуждает его. Совершенно то же наблюдается в отношении всех других потребностей, связанных с ощущениями. Что касается потребностей, связанных со сферой мышления,— умственных потребностей, то ум, подвергнув их суждению, немедленно передает их воздействия внутреннему чувству, которое тотчас же вызывает выполнение всех [соответствующих] актов, даже актов умственной деятельности. Достаточно известно, что так же обстоит дело с потребностями, относящимися к области чувств, склонностей и страстей. Поскольку склонности и страсти являются продуктами самого внутреннего чувства, они вызывают соответствующие потребности, которые тотчас же возбуждают это чувство и становятся ощутимыми. Итак, я различаю потребности трех родов: потребности, обусловленные ощущениями, потребности, относящиеся к сфере мышления, наконец, потребности, связанные со сферой чувств. Я не знаю ни одной потребности, которую нельзя было бы отнести к той или иной из этих трех групп92.
Без сомнения, было трудно обобщить псе приведенные мною рассуждения, но это было необходимо сделать, так как они взаимосвязаны и касаются органического явления, очень сложного как по своим причинам, так и по своему механизму. Сказанное распространяется на различные явления, составляющие продукт внутреннего чувства: на явления, относящиеся к области ощущений, и на явления, связанные {492} со сферой умственной деятельности. Но так как все эти явления органические, а следовательно — и физические, ибо иных природа не могла бы произвести, то, как бы сложны ни были их причины, они, тем не менее, доступны пониманию и человек располагает средствами для их познания.
Дав эти пояснения, я возвращаюсь к внутреннему чувству, рассмотреть которое чрезвычайно важно, и утверждаю, что оно представляет собой подлинное действенное начало, так как, будучи возбуждено какой-либо потребностью, оно способно тотчас же вызвать [те или иные] действия. В самом деле, всякая почувствованная потребность может возбудить внутреннее чувство и тогда оно немедленно, без всякого участия мысли, воли или вообще какой-нибудь посторонней причины, побуждает индивидуума к действию, притом к такому, которое способно удовлетворить испытываемую потребность или, по крайней мере, непосредственно к этому ведет.
Для того чтобы ощущение могло перейти в представление, а также для выполнения всех умственных актов требуется предварительное действие внимания; напротив, для проявления инстинкта внимание не является необходимым условием и, действительно, никогда не принимает в них участия. Следовательно, явления, относящиеся к области внутреннего чувства, составляют совершенно особую категорию, весьма отличную от явлений, обусловливающих ощущения и акты ума93.
Поэтому инстинкт отнюдь нельзя считать, как это думали раньше, озаряющим светочем, поскольку действия, которые он побуждает выполнять, никогда не являются результатом выбора, предварительных размышлений, суждений, словом — решений, представляющих собой акты воли. Акты инстинкта, напротив, всегда строго соответствуют причинам, их вызвавшим, что обеспечивает их правильность, тогда как действия, совершающиеся под влиянием воли,— не что иное, как следствие суждений, и всегда в большей или меньшей мере подвержены ошибкам, в зависимости от умственного уровня и, следовательно, от большего или меньшего запаса опыта и знаний индивидуума. {493}
Таким образом, все акты, обусловленные инстинктом, являются следствием эмоций, возбужденных во внутреннем чувстве той или иной испытываемой потребностью,— эмоций, то сильных, то слабых, -в зависимости от природы, интенсивности или настоятельности этих потребностей. Подобно тому как всякое движение, сообщенное телу, по силе и направлению всегда есть прямой результат обусловившей его причины, так всякое действие, выполняемое под влиянием инстинкта,— не что иное, как прямой продукт эмоции, возбужденной во внутреннем чувстве, зависящий от интенсивности, природы и от особенностей данной эмоции. Эта эмоция, ставшая действенной причиной, тотчас же приводит в движение органы, которые должны выполнить данное действие. (См. «Philosophie zoologique», стр. 773).
Трудно описать словами эту могущественную внутреннюю силу, которая присуща не только животным, обладающим умом, но и животным, наделенным лишь способностью чувствовать, эту силу, которая, будучи возбуждена почувствованной потребностью, заставляет индивидуума действовать без промедления, т. е. в тот самый момент, когда он испытывает эту потребность. И если этот индивидуум принадлежит к существам, одаренным умом, он, тем не менее, в этих обстоятельствах совершает те или иные поступки прежде, чем какое-либо предварительное размышление, какие-либо операции над представлениями вызовут у него акты воли.
Напомню достоверный факт, который достаточно отметить, чтобы признать его, а именно, что у животных, о которых была речь, и даже у человека, действия могут быть немедленно выполнены благодаря одной лишь эмоции внутреннего чувства без того, чтобы в этом принимали участие мысль, суждение, словом — воля индивидуума; известно также, что для возникновения эмоции достаточно какого-либо воздействия или внезапно почувствованной потребности.
«Таким образом, при некоторых обстоятельствах мы сами подвластны этому внутреннему действенному началу, заставляющему нас действовать без предварительного обдумывания. В самом деле, несмотря на то, что мы очень часто действуем, движимые ясно выраженной волей, очень часто также каждый из нас под влиянием {494} внутренних и внезапных воздействий совершает множество поступков, в которых не участвует мысль, и, следовательно, какой-либо акт воли. Это своеобразное действенное начало, побуждающее нас выполнять действия без предварительных размышлений, под влиянием испытываемых эмоций, и является тем действенным началом, которое у животных, не зная его природы, назвали инстинктом»94. («Histoire naturelle des animaux sans vertebres», т. I, стр. 36).
Это та сила, которая заставляет нас немедленно отступать перед лицом надвигающейся опасности, при неожиданном сильном шуме; это она вызывает у нас при виде грозящей нам опасности больший или меньший испуг, и зависимости от степени нашего малодушия; это она лишает нас присутствия духа, т. е. способности рассуждать в трудных обстоятельствах, в которых мы оказываемся; наконец, она же при сильных потрясениях, например при очень большом горе, неумеренной радости, приводит в смятение наши чувства, вплоть до того, что мы иногда перестаем владеть ими, и т. д. и т. п.
Своеобразная внутренняя сила, о которой здесь была речь, побуждающая пас действовать бессознательно, прежде чем какое-либо предварительное размышление могло способствовать выполнению данного действия, одним словом, та могущественная сила, которая получила название инстинкта, присуща не только животным, но и мы сами подвластны ей. Инстинкт свойствен даже не всем животным, так как животные, лишенные способности чувствовать, не могут обладать внутренним чувством, не могут ощущать потребностей, испытывать эмоции, которые могли бы заставить их действовать, следовательно, не могут обладать инстинктом.
Если верно то, что животные являются созданиями природы, то верно и то, что она произвела их последовательно, что только постепенно она могла увеличить присущие им средства или способности, которыми они обладают, и установить у них те особые органы или системы органов, которые у наиболее совершенных из них обусловливают известное нам сочетание этих специальных способностей. Отсюда следует, что не все животные обладают всей совокупностью этих способностей и необходимых для их осуществления органов, что, {495} прежде чем создать животных, обладающих способностью чувствовать, природа произвела животных, лишенных чувствительности, и что в дальнейшем, после того как она установила у большого числа различных животных способность чувствовать и подготовила у них еще более совершенную организацию, она могла наделить многих других животных умственными способностями в различной степени. Эти истины, установленные в моей «Philosophie zoologique» и во «Введении» в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», всегда останутся в числе тех, против которых невозможно привести основательных возражений, так как наблюдения над животными всегда подтвердят их справедливость.
Итак, необходимо различать действия, которые выполняются в результате предварительного размышления, приводящего к определенному решению, т. е. к актам воли, и действия, которые производятся непосредственно в результате эмоций внутреннего чувства, т. е. под влиянием инстинкта. Последние, в свою очередь, следует отличать от действий, вызванных одними внешними побуждениями, ибо все эти причины действий, по существу, различны и не все животные могут быть подвластны им. Глубокие различия их организации отнюдь не допускают этого.
Таким образом, инстинкт не может быть присущ животным, лишенным, способности чувствовать, но лишь тем, которые обладают органами чувств, и, следовательно, могут испытывать ощущения, т. е. животным, наделенным этой замечательной способностью. Это объясняется тем, что у них есть нервная система, достаточно сложная, чтобы образовать совокупность частей, сообщающихся и сходящихся в одном общем очаге, иными словами — таким животным, у которых нервная система в целом участвует в общем эффекте движения, возбужденного в одной из ее частей95.
Следовательно, всякое животное, имеющее нервную систему настолько сложную, что ее части распространяются почти повсюду, и сходятся в общем, или главном очаге, обладает в силу этого внутренним чувством, в возникновении которого участвует все его существо и которое оно непрерывно испытывает, не отдавая себе в этом {496} отчета, так как чувство это весьма смутное. Это внутреннее чувство позволяет животному осознать факт своего существования и различные потребности, которые оно может испытывать.
Рассматриваемое внутреннее чувство не имеет ничего общего с каким-либо ощущением, очень интенсивным или едва заметным, ни с болью, сильной или слабой, местного или общего характера, но всякое испытанное ощущение и всякая почувствованная потребность ему передаются и возбуждают его. Таким образом, эмоции, которые это внутреннее чувство воспринимает, заставляют индивидуума тотчас же производить действия, либо для того, чтобы избавиться от боли, либо для того, чтобы удовлетворить почувствованную потребность, как это уже было указано нами выше. (См. «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», т. I, стр. 188 и след.).
Известно, что флюиды главных систем органов, особенно кровеносной системы, вследствие причин, из которых многие уже нами изучены, направляются, в большем или меньшем количестве то к верхнему, то к нижнему концу тела, то ко всем точкам его наружной поверхности. Хотя флюиды многих из этих систем находятся в особых каналах или внутри пригодных для этого частей и не могут выйти за пределы их боковых стенок, они связаны благодаря существующему между ними сообщению, что позволяет им получать соответствующие общие импульсы, или возбуждения, в результате которых в кровеносной системе образуются особые приливы, уже упоминавшиеся мною выше.
Все те своеобразные движения, которые происходят в кровеносной системе при некоторых обстоятельствах, те хорошо известные приливы [крови] то к одним, то к другим частям тела свойственны не только этой системе. Помимо крови, известны и другие жидкости, претерпевающие аналогичные или даже более быстрые перемещения. Движения такого рода, еще более замечательные по своей быстроте и по тем явлениям, которые они вызывают, наблюдаются главным образом в нервной системе, особенно там, где ее строение достигает высокого совершенства. В результате чрезвычайной подвижности нервного флюида, исключительной живости или быстроты его движения и, {497} помимо того, благодаря существующему сообщению между всеми частями нервной системы и наличию нервов, заканчивающихся в общем очаге, малейшая причина вызывает соответствующее сотрясение во всей системе, которое индивидуум ощущает во всем своем существе, хотя не в состоянии ни ясно его определить, ни четко различить его96. Таков источник эмоции внутреннего чувства, эмоции, замечательных по их огромному влиянию на другие органы*.
Внутреннее чувство, природу и источник которого я указал и открытие которого принадлежит мне, так как до меня определения его не встречается ни в одном из известных трудов, иногда обозначают просто словом сознание [conscience]. Но это обозначение, особенно если принять во внимание тот смысл, который в него вкладывают, недостаточно его характеризует. Оно не указывает, что это смутное, но общее чувство совершенно чуждо какому бы то ни было ощущению, хотя последнее и доходит до него; оно ничего не говорит о том, что внутреннее чувство не имеет ничего общего с умом, хотя акты последнего до него всегда доходят; наконец, оно не указывает, что внутреннее чувство является могущественной внутренней силой, способной действовать непосредственно, без предварительного решения и размышления.
Что внутреннее чувство чуждо ощущению, следует из того, что всякое движение, выполняемое в системе ощущений, начинается в концевых частях этой системы и только после этого передается общему очагу, что подтверждает необходимость двойного отражения, между тем как все, что возбуждает внутреннее чувство, возникает не посредственно в самом очаге этого чувства, возбуждение которого производит лишь простое отражение. К тому же ощущение само по себе не может привести в действие ни одной из частей тела97, тогда как внутреннее чувство обладает этой способностью.
Помимо того, что уже было сказано мною о природе внутреннего чувства и о заключенных в нем возможностях, чтобы показать, что обозначение его словом сознание не дает о нем правильного представления, {498} я добавлю еще, что это обозначение позволяет допустить, будто мысли и суждения участвуют в тех внезапных действиях, которые оно вызывает, будучи возбуждено. Предположение это неверно. Наблюдение показывает, что среди животных, обладающих внутренним чувством, те, у которых совершенно отсутствует ум, производят те или иные действия исключительно под влиянием этой [внутренней] силы, между тем как другие, обладающие умом, действуют под влиянием воли, движимой их мыслью, однако гораздо чаще — под влиянием эмоций их внутреннего чувства, т. е. под влиянием инстинкта, а не воли.
«Только человек и некоторые наиболее совершенные животные, движимые в моменты внутреннего спокойствия воздействием каких-либо интересов, переходящих сразу в потребность, владеют в достаточной степени внутренним чувством, приведенным в состояние возбуждения, чтобы дать мысли время выбрать и обсудить подлежащее выполнению действие. Это единственные существа, которые могут действовать по своей воле, но, тем не менее, и они не всегда могут управлять своими поступками» («Histoire naturelle des animaux sans vertebres», т. I, стр. 190).
Следовательно, среди действий, выполняемых как животными, обладающими умом, так и самим человеком, необходимо различать действия, являющиеся непосредственным результатом этой могущественной внутренней силы, составляющей инстинкт, и, с другой стороны,— действия, обусловленные предварительным размышлением, допускающим выбор, суждение и влекущим за собой акты воли.
Для большей ясности необходимо сказать, что источником действий я называю причину-возбудитель того действенного начала, которое выполняет [те или иные] акты, иными словами,— приводит в движение те части тела, которые должны действовать. У человека и у животных, наделенных умом, этой причиной-возбудителем является или непосредственное воздействие почувствованной потребности, или же воздействие потребности, возникшей в результате акта воли. В первом случае инстинкт заставляет действовать, во втором — вызванное действие является продуктом ума. Но как в том, так и в другом {499} случае действенным началом, выполняющим всякого рода акты, движущим нервный флюид и направляющим его к тем частям, которые должны прийти в действие, всегда служит внутреннее чувство98. Несмотря на [обманчивую] видимость, которая и меня ввела в заблуждение, оба упомянутых источника на самом деле представляют собой действенное начало лишь в известном смысле, т. е. только как возбуждающие причины, а исполняющей действующей силой как у человека, так и у животных является одно только внутреннее чувство.
Инстинкт — лишь побуждающее действенное начало, продукт внутреннего чувства, возбужденного какой-нибудь потребностью. Это в некотором роде механическая сила, не имеющая степеней интенсивности, но действия ее всегда пропорциональны причинам, заставляющим ее действовать. Индивидуум, наделенный инстинктом, сохраняет его в течение всей своей жизни таким же, каким он его имел с момента рождения, ибо инстинкт, составляющий это действенное начало, не способен к совершенствованию и не меняется по мере упражнения99. Инстинкт никогда не ошибается в действиях, которые он заставляет выполнять, и в этом отношении он сильно отличается от источника действий, обусловленных волей. Он сильно отличается и от склонностей, ибо последние в своих проявлениях могут достигать различных степеней интенсивности и даже превращаться в страсти, подчас чрезвычайно бурные, причем невозможно бывает обнаружить никакое соответствие между их причиной и интенсивностью100.
Тем, кто пожелает знать, почему действия, совершаемые под влиянием решений, обусловленных умственными актами, и предшествуемые выбором, суждением и, следовательно, волей, часто не соответствуют своему назначению, иногда оказываются ошибочными и не приводят к желаемой цели, между тем как действия, движимые инстинктом, никогда не обманывают, непосредственно ведут к цели и всегда наиболее пригодны для удовлетворения возникшей потребности,— предлагаю обратить внимание на соображения, изложенные в моей «Philosophie zoologique» (ч. III, стр. 769, 775) и в особенности на положения, приведенные в последующем изложении, для которых первые послужили прочным обоснованием. {500}
Что касается существ, наделенных умом, особенно человека, изучение которого дает нам многочисленные примеры, относящиеся к рассматриваемому вопросу, то у них всякий акт воли всегда является следствием суждения. Но всякое без исключения суждение может оказаться ошибочным. Попытаемся доказать это.
Суждение представляет собой органический акт, умственную операцию, выполняемую над представлениями, вызванными в уме. До тех пор пока орган, выполняющий эти функции, не подвергнется изменениям, его акты остаются такими, какими они должны быть, и их результаты, т. е. суждения, всегда правильны: однако суждение, правильное само по себе, всегда может оказаться ошибочным по отношению к рассматриваемому объекту, и вот почему:
Без сомнения, пока орган [ума] не подвергся изменениям, ни одна из выполняемых им операций не может быть ошибочной, и действительно такой не бывает, следовательно, акт, составляющий суждение, также не может быть неправильным. Суждение всегда является абсолютно верным итогом элементов, послуживших для его образования, т. е. тех представлений, которые при этом были использованы.
Суждение можно сравнить с результатом арифметического действия: полученный расчет верен, если соблюдены все правила, и тем не менее, этот результат может оказаться ложным на деле, если при этом вычислении не были приняты во внимание все те данные, которые должны были быть в него включены.
Итак, как я уже сказал в начале этой статьи, человек и животные, наделенные умом, обладают двумя совершенно различными источниками действий: один из них является результатом предшествующего размышления, которое может повлечь за собой волю к действию, другой обязан своим происхождением инстинкту, который, с своей стороны, может побуждать к выполнению различных действий. Иначе обстоит дело у животных, обладающих только способностью чувствовать, ибо у них инстинкт, как я это уже показал, является единственным источником всех их действий. Эти животные имеют только привычки, которые не меняются у них, пока не изменяются вызвавшие их причины. Наконец, что касается животных, не {501} обладающих способностью чувствовать, то причины всех их действий всецело лежат вне их. Эти животные, подобно растениям, лишены внутреннего чувства, а следовательно и чувства существования, и инстинкт у них совершенно отсутствует.
Так как инстинкт представляет собой продукт внутреннего чувства, то необходимо предварительно составить себе ясное представление об этом последнем, чтобы познать природу и силу того замечательного источника действий, каким это чувство является. Я немного дополню здесь те основные сведения о внутреннем чувстве, которые необходимо иметь, уделив несколько слов каждому из явлений, которые оно обусловливает.
В самом деле, внутреннему чувству свойственны проявления троякого рода:
1) инстинкт, действенное начало, побуждающее выполнять действия, начало, которое, как я полагаю, уже достаточно было охарактеризовано мною;
2) природные склонности, существующие у индивидуума в продолжение всей его жизни, но развивающиеся только под влиянием внутреннего чувства, когда этому благоприятствуют обстоятельства, в которых индивидуум находится;
3) индивидуальные чувства, которые у каждого индивидуума могли образоваться или испытывались им в течение его жизни. В сжатых рассуждениях, приведенных в статье о человеке101, я уже рассмотрел все эти три рода проявлений внутреннего чувства. Здесь я изложу в общих чертах свои мысли относительно их природы, существующих между ними различий и особенностей каждого из них.
Что касается инстинкта, то я не прибавлю ничего к сказанному раньше. Действительно, я уже показал, что это проявление внутреннего чувства весьма отличается от склонностей и от индивидуальных чувств и что оно представляет собой могущественную внутреннюю силу, заставляющую немедленно действовать всякий раз, когда почувствованная потребность побуждает совершать данное действие.
Что касается склонностей, то я называю их природными потому, что они действительно нам даны самой природой, и потому, что они {502} существуют у индивидуума одновременно с инстинктом и с внутренним чувством. В самом деле, как только у индивидуума появляется глубока внутреннее чувство существования, то, независимо от того, отдает ли он себе отчет в этом чувстве или нет, у него тотчас же возникает склонность к самосохранению, которая служит источником всех прочих его склонностей, как бы много их ни было в дальнейшем102. Полагаю, что это достаточно ясно показано мною во «Введении» в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», стр. 200.
Но если склонности даны самой природой, то своим развитием при благоприятствующих этому обстоятельствах все они обязаны исключительно внутреннему чувству. Итак, развившиеся склонности составляют вторую группу явлений, обусловленных внутренним чувством. Достаточно известно, что при чрезмерно сильном развитии они превращаются в страсти, следовательно, и эти последние, будучи явлениями того же порядка, обязаны своим происхождением тому же внутреннему чувству.
Наконец, третий род явлений, обусловленных внутренним чувством, составляют индивидуальные чувства [sentiments particuliers], т. е. все те чувства, которые индивидуум имел возможность приобрести в течение своей жизни. Хотя эти чувства могут в той или иной степени подчиняться разуму индивидуума, гораздо чаще они подвластны развившимся у него склонностям. Мы уже упоминали об этих чувствах в статье о человеке и здесь ограничимся только указанием на их источники. Заметим, что все они носят до некоторой степени случайный характер, а не даны нам самой природой и этим сильно отличаются от склонностей. Эти чувства зависят от взглядов индивидуума на вещи или от его суждений, а последние, в свою очередь, определяются его возрастом, положением, разделяемыми им предрассудками, внушенными ему предубеждениями, господствующими мнениями и т. д. Мы полагаем, что эти чувства образуются под влиянием следующих причин:
В самом деле, мне кажется, что некоторые часто повторяющиеся воздействия, производимые мыслью на внутреннее чувство, должны вызвать в последнем своего рода постоянную потребность, которая и {503} составляет то или иное из индивидуальных чувств, о которых здесь идет речь. При некоторых обстоятельствах эти чувства достигают предельной степени, однако они сохраняются только до тех пор, пока не изменятся вызвавшие их причины, т. е. пока существует обусловившая данное чувство потребность. Пароксизмы этого рода чувств являются результатом некоторого более сильного, чем обычно, возбуждения флюида, содержащегося в очаге внутреннего чувства,— возбуждения, вызванного внезапно усилившейся потребностью. Так, индивидуальные чувства человека, столь разнообразные у различных представителей его вида,— не что иное, как явления, обусловленные внутренним чувством данного индивидуума, и вызываются они в некотором роде постоянными потребностями, которые порождаются и поддерживаются привычным для него порядком или состоянием его мыслей. Не боясь ошибиться, можно было бы назвать этого рода чувства особыми привычками внутреннего чувства103.
Теперь станет понятным, что допущенное мною отступление, касающееся явлений, обязанных своим происхождением внутреннему чувству, было действительно необходимо для того, чтобы составить ясное представление о том чувстве, для которого, во избежание всякой сбивчивости понятий, следовало бы иметь особое обозначение. Из всего, что было приведено в предшествующем изложении, видно, что это чувство представляет собой могущественное действенное начало, изучение которого имеет огромное значение, так как без него почти все явления организации навсегда останутся для нас непонятными.
Итак, я полагаю, что мне удалось доказать: 1) что внутреннее чувство — единственная причина, обусловливающая всякого рода деятельность тех частей тела, которыми мы можем управлять; оно же является причиной как различных движений, которые мы можем сообщать этим частям, так и причиной образования наших представлений, мыслей, актов памяти, словом — всех наших умственных операций; 2) что внутреннее чувство является единственной причиной образования инстинкта и всех его проявлений у существ, которые им обладают; 3) что ему же мы обязаны развитием наших склонностей; {504} 4) наконец, что им же обусловлены самые различные индивидуальные чувства, иногда столь странные и столь своеобразные, которые наблюдаются среди индивидуумов нашего вида.
Теперь легко понять, что точное определение природы инстинкта и, следовательно, его действенности и границ его могущества невозможно без предварительного знакомства с внутренним чувством.
Кабанис был близок к открытию инстинкта, однако не довел до конца своих исследований в этом направлении. Он понимал значение прежнего воззрения, рассматривавшего физическую чувствительность как источник всех представлений и всех действий. Он понимал также, насколько правы были те исследователи, которые считали все решения животных не результатом сознательного выбора и использованного опыта, но явлениями, протекающими независимо от их воли, что действительно представляет собой характерную особенность инстинкта. Однако, как и все философы и физиологи его времени, Кабанис не понял причины физической чувствительности, не установил ее границ, приписал ее всем без исключения животным, считая ее их природным свойством, и не воспользовался важным определением раздражимости, которым мы обязаны Галлеру; наконец, он даже и не подозревал о существовании внутреннего чувства и, следовательно, не мог открыть инстинкт и даже смешивал его со склонностями104. Не находя нигде указаний на внутреннее чувство, я прихожу к выводу, что я первый доказал его существование и установил, что всякая почувствованная потребность может возбудить это чувство и привести его в действие, словом, что я первый описал его как замечательное действенное начало, которым природа наделила множество различных животных и изучение которого и у человека имеет огромное значение. После того как я составил себе отчетливое представление о внутреннем чувстве, дать точное определение инстинкта не представляло для меня никаких трудностей и я полагаю, что в этой статье мне удалось достаточно ясно изложить все наиболее существенное о нем. (Извлечение из «Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle». Paris, Deterville).
| {505} |

Об уме, его средствах и тех явлениях, которые он обусловливает105
Мы переходим теперь к рассмотрению чрезвычайно своеобразных явлений, сильно отличающихся от всех остальных явлений организации, а именно — к сочетанию органических способностей, имеющих первостепенное значение, тех способностей, которые представляют собой самые прекрасные из всех вещей, созданных могуществом природы. Явления эти могли бы казаться нам чудесными и мы стали бы искать источник их где-нибудь вне природы, вне возможностей организации, если бы нам не было достоверно известно, что все, что выходит за пределы природы и организации, недоступно нашему наблюдению, и если бы мы не знали, что явления того же порядка имеют место у наиболее совершенных животных.
В сочетании способностей, о котором здесь идет речь, заключаются четыре рода различных способностей, а именно:
1) способность, составляющая то, что принято называть вниманием;
2) способность получать и образовывать представления различных порядков и закреплять или запечатлевать их в органе ума;
3) способность произвольно вызывать в уме то или иное из полученных представлений, в котором возникла надобность;
4) наконец, способность выполнять над вызванными в уме {506} представлениями умственный акт, который носит название суждения.
Итак, акты внимания, акты образования представлений, а также акты, позволяющие вызывать приобретенные представления в уме, и, наконец, акты мысли, ведущие к образованию суждений, составляют ту совокупность способностей, которую мы называем умом106.
Какими бы выдающимися и замечательными ни были эти способности, несомненно, что все они являются продуктом организации, разумеется, достигшей требуемой для этого степени развития, все они зависят от целостности того органа, функциями которого они являются, наконец, все они подчиняются, как это указывал Кабанис, влиянию множества различных физических причин, особенно тех, которые определяются состоянием внутренних органов.
Отсюда с очевидностью следует, что все эти способности всецело являются способностями органическими, следовательно, подчиненными физическим законам и представляющими собой подлинный результат могущества природы. Считать внимание, представления, суждения метафизическими категориями было бы таким же заблуждением, как относить к ним ощущение, внутреннее чувство, мышечные движения, раздражимость и т. д. Это заблуждение особенно явное, поскольку известно, что все то, что находится вне природы, все то, что ей не подвластно, не может быть объектом наблюдения.
Если исследовать каждый из четырех родов способностей, составляющих ум, рассматривая по крайней мере главные их особенности, станет ясно, что:
1. Внимание является для ума только подготовительным актом, вызываемым внутренним чувством,— актом, который приводит орган в состояние, необходимое для выполнения той или иной из его функций, без которого ни одна из этих последних не могла бы осуществляться. Таким образом, внимание действительно составляет conditio sine qua non [необходимое условие] всякого умственного акта. Хотя акты внимания протекают только в органе ума, выполнение их относится к области внутреннего чувства, так как именно оно вызывает в органе, в котором образуются представления, или в какой-либо его {507} части особое подготовительное состояние, делающее указанный орган или какую-либо из его частей способными выполнять эти акты.
Можно сказать, что внимание — это усилие внутреннего чувства, вызываемое то [какой-нибудь] потребностью, являющейся результатом испытанного ощущения, то желанием, порождаемым представлением или мыслью. Это усилие переносит и направляет имеющуюся в распоряжении индивидуума часть нервного флюида к органу ума, подготавливает определенную часть этого органа и делает ее способной либо вызывать в уме (делать ощутимыми) те или иные запечатлевшиеся в нем представления, либо получать отпечатки новых представлений, которые индивидуум имел возможность образовать («Philosophie zoologique», ч. III, стр. 736).
Нетрудно убедиться в том, что без внимания, подготавливающего орган ума к выполнению его функций, ни одно ощущение не могло бы достигнуть этого органа, во всяком случае, не могло бы запечатлеть в нем какое-нибудь представление, ни одно приобретенное представление не могло бы быть вызвано в уме, наконец, никакие акты мысли не могли бы выполняться и порождать суждения. Все эти условия физического порядка достаточно ясно доказывают, что ни сами представления, ни те умственные акты, которые над ними производятся, нельзя считать метафизическими явлениями.
Если верно, что наши первичные представления [idees primaires] возникают исключительно из испытанных, нами ощущений и что они служат источником всех остальных представлений, то верно и то, что не всякое испытанное нами ощущение обязательно порождает представление, но лишь ощущения замеченные, т. е. те, на которые было направлено внимание.
Я полагаю, что этот вопрос достаточно подробно освещен в моей «Philosophie zoologique» (ч. III, стр. 736), в главе о внимании, к которой я и отсылаю тех, кого это может интересовать107. Здесь я добавлю лишь, что если эти замечательные явления организации, как и многие другие, так мало известны, то это происходит, с одной стороны потому, что природу не изучают в ее действиях, несмотря на всю важность этого изучения для нас, и с другой стороны потому, что {508} предвзятые мнения заставляют приписывать этим явлениям совершенно неверное происхождение.
Всем известно, что длительное напряжение внимания вызывает усталость и что слишком долгое размышление утомляет нас, вызывая своего рода изнеможение. Следовательно, акты ума, так же как и мышечные движения, представляют собой органические акты, поглощающие наши силы,— акты, которые мы вынуждены ограничивать, чтобы восстановить потраченные силы путем отдыха.
2. Способность приобретать и образовывать представления различных порядков и запечатлевать в органе [ума] образы или черты, которые могут служить для их воспроизведения,— вот главное, что должно нас интересовать при рассмотрении актов ума, так как в этих последних дело всегда идет о представлениях, об операциях над представлениями, о результатах этих операций над представлениями, которые, в свою очередь, являются представлениями [высших порядков].
Итак, среди способностей, сочетание которых составляет ум, второй и главной является способность образования представлений. Поэтому важно знать, чем, в сущности, эти представления являются и как их принято подразделять. Я коснусь здесь этого интересного вопроса лишь вскользь и напомню только, что необходимо различать три рода существенно отличающихся друг от друга представлений, а именно: 1) первичные представления, или представления, возникающие непосредственно из ощущений; 2) сложные представления всех порядков, которые происходят из представлений первого порядка и образуются в результате соединения нескольких представлений, либо первичных, либо сложных; 3) представления, созданные воображением, являющиеся результатом тех произвольных изменений, которые мы способны производить над ранее приобретенными представлениями.
В статье о представлениях108 указано, что первичные, или простые представления — это те, которые образуются исключительно из замеченных ощущений; именно эти представления неизменно приобретаются нами первыми, причем число новых представлений, которые {509} могут быть приобретены, не ограничено, и для своего образования они не требуют других представлений. Там же указано, что эти представления дают столько же отдельных образов, сколько их доводит до органа ума внутреннее чувство, и что эти образы более или менее глубоко запечатлеваются в нем, а следовательно, в большей или меньшей мере устойчивы, наконец, что эти представления являются наиболее достоверными, и потому мы можем больше полагаться на них, поскольку они являются результатом наблюдений над фактами, словом,— порождаются вполне реальными предметами.
Мы увидим далее, в той же главе, что сложные представления всех порядков это те представления, которые не происходят непосредственно из ощущений, и что они сложны по своему существу, так как образуются только при помощи ранее приобретенных представлений; что эти представления по необходимости возникают после тех представлений, которые происходят из ощущений, так как сложные представления первого порядка непосредственно образуются из них, а сложные представления высших порядков — не что иное, как результат сочетания нескольких, в свою очередь сложных представлений. Таким образом, сложные представления, о которых здесь идет речь, образуются всегда путем умственного акта, называемого суждением, и хотя это суждение является, в сущности, лишь раскрытием отношений между представлениями, послужившими для его построения, оно часто может оказаться необоснованным и неверным в отношении объекта, которого касается. Наконец, поскольку сложные представления являются результатом смешения черт различных объединенных представлений, то получающийся при этом сложный образ мало похож на те отдельные представления, из которых образовались данные сложные представления, и может быть воспринят и закреплен только с помощью углубленного внимания. Обычно сложные представления могут быть вызваны в уме при помощи присвоенных им названий, при помощи слов, которые мы привыкаем произносить, слышать и которые, будучи написаны или напечатаны, приобретают физическую форму, физические черты и могут запечатлеваться в органе ума при посредстве ощущений. Именно таким путем {510} слово природа стало для нас таким обычным, и мы удовлетворяемся этим словом, не стараясь вникнуть в смысл того чрезвычайно сложного понятия, которое оно выражает. Совершенно то же имеет место и во многих других случаях.
Способность приобретать и образовывать представления разных порядков и запечатлевать их образы или черты в органе [ума], без сомнения, принадлежит этому последнему, но мы увидим в дальнейшем, что выполнение этих различных актов обусловлено внутренним чувством, которое является их источником и управляет ими. И вот, если какое-нибудь возбуждение органа [ума] вызовет в нем те или иные представления без участия внутреннего чувства, представления эти, больше не управляемые им, сменяют одно другое и накопляются без всякого порядка, составляя тогда то, что мы называем сновидениями, бредом и т. п.
3. Третий род умственных способностей — это способность вызывать в уме по своему желанию то или иное ранее приобретенное представление109 или несколько представлений одновременно, когда требуется их сравнить, рассмотреть или даже объединить все представления, касающиеся данного предмета. Это, бесспорно, одна из самых важных способностей ума, ибо только она наделяет нас,— в зависимости от нашей привычки в большей или меньшей мере упражнять ее и от запаса приобретенных нами представлений,— соответственным количеством средств для вынесения правильного суждения, для более или менее глубокого мышления. Таким образом, большая или меньшая степень правильности нашего суждения зависит от степени развития этой способности.
Подобно всем прочим, рассматриваемая способность развивается по мере того, как мы ее упражняем, по мере того, как ее акты выполняются все с большей легкостью, т. е. становятся более совершенными. Можно с уверенностью сказать, что при противоположных условиях трудность выполнения этих актов настолько велика, что мы очень редко делаем усилия для преодоления ее, иными словами,— не заставляем себя думать, размышлять, рассуждать, как бы это важно ни было. {511}
Что касается органического механизма, позволяющего вызывать в уме те или иные из приобретенных нами представлений, то мы вправе думать, что он является не чем иным, как результатом действия очень тонкого и способного быстро перемещаться нервного флюида, приводимого в движение внутренним чувством. В самом деле, органический акт, обусловливающий эту способность, выполняется, как и предыдущие, при помощи внутреннего чувства. Это чувство, будучи возбуждено какой-либо потребностью, тотчас же направляет нервный флюид на запечатлевшиеся следы того представления или тех различных представлений, которые должны быть вызваны в уме; таким путем оно возбуждает в частях органа, где образуются эти черты, движения, распространяющиеся вплоть до очага мышления. Запас нервного флюида, находящегося в этом очаге, получив от совокупности движений особое возбуждение, тотчас же передает его внутреннему чувству благодаря той связи, которая существует между очагом мышления и очагом ощущений. Вследствие этого индивидуум в то же мгновение воспринимает данное воздействие всем своим существом, и эти черты возникают в его уме.
Здесь я должен был бы перейти к рассмотрению представлений, созданных воображением, являющихся результатом произвольного видоизменения и сочетания ранее приобретенных представлений, однако этот акт ума относится ко второй группе его способностей, о которых уже упоминалось, и я отсылаю читателя к статье о воображении, где мною изложено все наиболее существенное относительно этой замечательной способности110. Здесь я напомню только следующий достоверный факт: воображение не может создать ни одного представления, источником которого не были бы представления, полученные человеком при помощи чувств; таким образом, без предварительно полученных представлений воображение ничего не могло бы создать, иными словами,— не могло бы образовать ни одного нового представления. Следовательно, воображение, которое считали не имеющим границ в отношении способности образовывать мысли, в действительности ограничено кругом тех представлений, которые уже были получены человеком. {512}
Теперь необходимо дать читателю некоторые пояснения, которые помогут ему понять органический механизм [образования] всех трех видов упомянутых способностей.
Ум получает все средства для своей деятельности исключительно от внутреннего чувства, иными словами,— только от внутреннего чувства орган ума получает средства для выполнения различных своих актов.
Этот весьма достоверный факт, не являющийся исключительной принадлежностью органа ума, но относящийся ко всем вообще частям тела, подчиненным воле индивидуума, до сих пор оставался незамеченным, между тем это наиболее любопытный и важный из всех касающихся организации фактов, доступных изучению.
Этот же факт раскрывает казавшуюся непроницаемой тайну, окутывавшую явления умственной деятельности, причины которой представлялись нам чудом, лежащим вне области природы. В самом деле, сколько глубоких мыслителей среди знаменитых философов и моралистов не могли объяснить ее лишь потому, что они не изучали ни законов, ни средств природы.
Итак, хотя без органа ума не может осуществляться ни одна из обусловленных им способностей, все же лишь при посредстве внутреннего чувства ощущение может образовать представление и запечатлеть его в этом органе и только с помощью этого чувства запечатлевшееся представление может быть вызвано в уме, наконец, только при посредстве внутреннего чувства два или несколько ранее приобретенных представлений могут быть подвергнуты сравнению в очаге мышления, причем происходит умственный акт, в результате которого образуется новое представление, называемое выводом, суждением. Благодаря тому же чувству, согласно получаемому суждению, возникает побуждение, или воля совершать какие-либо действия. Наконец, при помощи его воображение, пользуясь ранее приобретенными представлениями, выполняет различные акты и образует новые представления, новые мысли.
Эти положения, обоснованность которых никогда не будет серьезным образом опровергнута, так как очевидно, что они являются не {513} продуктом вымышленных построений, по результатом тщательных и длительных наблюдений, заставляют нас признать еще большую общность приведенного выше факта и раскрывают физические причины, обусловливающие всевозможные поступки как человека, так и животных, обладающих умом. Существующий здесь порядок следующий:
Всякому действию индивидуума, наделенного умом, будь то движение какой-нибудь зависящей от него части тела, будь то мысль или какие-либо операции над мыслями, всегда предшествует определенная потребность, которую может удовлетворить данное действие. Эта почувствованная потребность тотчас возбуждает внутреннее чувство и в то же мгновение последнее направляет находящийся в его распоряжении нервный флюид или к мышцам той части тела, которая должна быть приведена в действие, или в ту часть органа ума, где запечатлены представления, которые должны быть вызваны в уме для выполнения умственного акта, обусловленного данной потребностью.
Знание этой истины имеет огромное значение для натуралиста, стремящегося постичь источник всех действий существ, наделенных умом. Этим источником всегда является почувствованная потребность — первый двигатель и первая физическая причина всякого действия.
Если эта потребность непосредственно достигает внутреннего чувства путем ощущения, то один лишь инстинкт побуждает индивидуума к действию; если же она доходит до него в результате решения, определяющего волю к действию, то в этом случае именно ум обусловливает действие.
Вот та своеобразная и интересная цепь, которая связывает и объединяет причины всех действий, всех движений частей тела индивидуума, зависящих от него, всех представлений, мыслей, умозаключений, выполняемых его умом. Повсюду наличие предварительно существующей потребности является первой причиной действия и повсюду внутреннее чувство заставляет выполнять это действие, немедленно направляя нервный флюид туда, где он необходим. {514}
Известно, что во время сна наши чувства обычно перестают получать или по крайней мере передавать во внутрь воздействия со стороны внешних агентов, за исключением тех случаев, когда эти воздействия очень сильны. При таких обстоятельствах ни одна потребность не достигает внутреннего чувства, не возбуждает его, и все части нашего тела, зависящие от нас, остаются в покое. Между тем, если при тех же условиях возбужденный нервный флюид пройдет по запечатлевшимся следам различных приобретенных нами представлений, эти представления будут вызваны в уме и тотчас же переданы внутреннему чувству. Однако это последнее не управляет ими, так как им не предшествовала никакая потребность и не внутреннее чувство приводит их в действие. Эти представления будут возникать то без всякой последовательности, то в беспорядке, как это бывает обычно в сновидениях.
Если тот или иной предмет, то или иное представление производит на нас очень сильное впечатление или какая-нибудь прочно укоренившаяся привычка почти постоянно поглощает наши мысли, то в результате может появиться потребность действовать, достаточно сильная, чтобы оказать влияние даже во время сна. Тогда мы на самом деле выполняем соответствующее действие, хотя и не просыпаемся, а инстинкт (внутреннее чувство) без посредства других чувств направляет наши действия, которые выполняются всегда безошибочно. Этот необычайный факт, для наблюдения которого редко представляется удобный случай, обусловливает так называемый сомнамбулизм (но не магнетизм).
Из того, что было приведено выше, следует, что я допускаю существование особого очага мысли, некоего места, где собираются те представления, которые должны быть вызваны в уме, и что я отличаю этот очаг от очага ощущений, действительно находящегося в другом месте, хотя и на незначительном расстоянии от первого. Оба эти раздельных очага в силу необходимости каким-то образом сообщаются друг с другом и между ними почти непрерывно поддерживается связь. Первый очаг соответствует месту, где находится то, что принято называть умом, и где собираются представления и выполняются {515} различные акты мышления. Второй представляет собой центр отношений, необходимый для осуществления ощущений, и так как он связан при помощи нервов со всеми частями тела, то заставляет индивидуума, который им обладает, участвовать всем своим существом во всех получаемых им возбуждениях и воздействиях. Этот центр отношений одновременно является местом, где сосредоточено внутреннее чувство; в этом не может быть ни малейшего сомнения.
Следовательно, для мыслей, для выполнения умственных актов существует особое место, иными словами,— особый очаг, совершенно отличный от центра отношений, служащего для осуществления ощущений и являющегося местом сосредоточия внутреннего чувства.
В самом деле, когда мы напряженно думаем [о чем-нибудь], предаемся глубоким размышлениям, то испытываем весьма отчетливое внутреннее восприятие того, что все акты мышления выполняются в верхней передней части головного мозга, немного позади лба, и если внимание слишком долго направлено на предметы, которые всецело поглощают или сильно интересуют нас, то в этой части головы чувствуется боль, освободиться от которой можно только путем отдыха или развлечения. Конечно, очаг ощущений, одновременно являющийся очагом внутреннего чувства, расположен не в той же части головы, где выполняются акты мышления. Это казалось настолько очевидным, что принято было различать два источника наших действий; ум, обусловливающий решения, которые и составляют волю, и сердце, которое ошибочно считали очагом чувствования. В моих сочинениях я показал, какое это заблуждение — считать сердце местом, где сосредоточено внутреннее чувство, и объяснил, что этот орган только раньше всех других воспринимает воздействия со стороны эмоций, испытываемых внутренним чувством при некоторых обстоятельствах. Что действительно верно, так это то, что очаг внутреннего чувства и очаг ума — не одно и то же.
Из-за несовершенства наших чувств, тонкости или нежности частей и т. д. невозможно установить природу, форму, строение, связь и расположение тех объектов, которые могли бы подтвердить все то, о чем здесь была речь, тем не менее и самые предметы, {516} о которых я говорил, и указанный мною в отношении их порядок существуют в действительности. Природа, при внимательном изучении и рассмотрении имеющихся в ее распоряжении средств, ясно указывает на них, и я пришел к их открытию только путем такого изучения и сопоставления всей совокупности наблюдений и замеченных условий, подтверждаемых фактами. Наконец, не менее достоверно, что указанный выше порядок вещей, касающийся очагов ума и внутреннего чувства, связи между ними и того способа, которым каждая почувствованная потребность влечет за собой выполнение тех или иных действий, не вызывает сколько-нибудь обоснованных возражений, и невозможно найти другой порядок, более согласный с наблюдаемыми фактами и более близкий к истине, чтобы заменить им первый.
Отметив такое положение вещей, я продолжу изложение моих кратких рассуждений об этом интересном предмете. Что касается очага ощущений и следовательно, местонахождения внутреннего чувства, то я позволяю себе сделать следующее замечание: чтобы внутреннее чувство могло выполнять свои функции, какого бы рода ни были эти последние, необходимо, чтобы топкий флюид, наполняющий очаг этого чувства, пребывал в состоянии полного или почти полного покоя, ибо, если очаг находится в состоянии того или иного возбуждения, то последующие воздействия почти не оказывают на него никакого влияния, функции внутреннего чувства не выполняются или же выполняются несовершенным образом и ощущение не может больше осуществляться. Если возбуждение рассматриваемого очага достигает высшего предела, способность чувствовать обычно полностью утрачивается; по крайней мере, пока длится это состояние,— утрачивается сознание.
Кто не знает, что любая причина, способная вызвать ощущение, не оказывает почти никакого действия, если одновременно протекает другое, более интенсивное ощущение; что более сильная боль как бы заставляет исчезнуть менее сильную? Всем известно также, что в момент внезапного испуга подавляются почти все способности, что при встрече с опаспостью или при действии какой-нибудь внушающей {517} страх причины часто в значительной степени утрачивается присутствие духа, наконец, что когда неожиданное событие причиняет нам сильное или внезапное горе или вызывает бурную радость, то в первые минуты мы испытываем какое-то особое смятение. Могли ли бы существовать все эти явления, если бы внутреннее чувство, будучи сильно возбуждено, не утрачивало при указанных обстоятельствах способность выполнять свои обычные функции и если бы во время подобного возбуждения мы по теряли присутствия духа в результате нарушения связей между умом и этим чувством?
Что же такое присутствие духа, как не свободное выполнение актов мышления при столь же свободной связи их с внутренним чувством, в полной мере возможной только при спокойном состоянии этого последнего!
Мы указали, что без тесной связи ума и внутреннего чувства ни одно представление, ни одна мысль не могли бы быть почувствованы и что одно только внутреннее чувство является источником и первым двигателем всех зависящих от нас движений, всех вообще действий, что оно одно заставляет выполнять все решения воли и все действия, обусловленные инстинктом. Продолжим теперь наше изложение и скажем несколько слов о четвертом роде умственных способностей.
4. Четвертый род способностей ума111 это способность выполнять над различными вызванными в нем представлениями акт, называемый суждением. Понятно, что это самая важная из всех умственных способностей, так как только с ее помощью достигается основная цель ума: правильно судить о всех рассматриваемых предметах, о всех полезных действиях, словом,— познавать истину повсюду, где это возможно.
К несчастью, правильность всех актов суждения зависит от двух необходимых условий. В самом деле, для того чтобы индивидуум мог вынести суждение о предмете, он должен:
1) обладать всеми теми из полученных им представлений, которые касаются данного объекта суждения;
2) развить в себе, помимо того, способность вызывать в уме те или иные из ранее приобретенных представлений, чтобы в любой {518} момент иметь в своем распоряжении те из них, которые необходимы в данном случае.
Если не соблюдены оба эти условия одновременно, суждение, которое выносят о каком-либо предмете, неизбежно будет ошибочным. К сожалению, мы имеем возможность наблюдать, что так обстоит дело с большей частью суждений человека. Человек, почти всегда тщеславный вследствие своего самолюбия, почти всегда удовлетворенный собственными знаниями, — ибо он не может сравнивать их с теми, которых у него нет,— зачастую не колеблясь высказывает суждения о множестве предметов, вопросов и т. д., которые по запасу приобретенных им представлений, по уровню его знаний выше его понимания.
Что касается самой операции, выполняемой над различными вызванными в уме представлениями при суждении о предмете, то вероятный механизм ее я изложу в статье о суждениях, кроме того, я вкратце коснусь его в статье о представлениях112, при рассмотрении сложных представлений. Здесь скажу только, что эта операция, состоящая в сочетании или соединении приведенных в движение следов различных используемых представлений, должна охватывать, с одной стороны — совокупность черт, составляющих новый образ, являющуюся результатом соотношения представлений, которые участвуют в данной операции, или их производным, и, с другой стороны, в нем должны быть отражены все свойства, все особенности рассматриваемого предмета, словом, все, что его характеризует.
Следствием этого акта является вначале восприятие образа или новое представление, которое внутреннее чувство запечатлевает в органе; помимо того, тем самым создается представление о свойствах или особенностях предмета, подлежащего суждению. И действительно, почти всегда суждение о предмете слагается из множества частных суждений, выполняемых до известной степени одновременно, так как суждение выносится только на основе сравнения различных вызванных в уме представлений, служащих объектом этого сравнения, поскольку как общие, так и частные суждения всегда являются результатом произведенных сравнений; наконец, все полученные таким {519} путем представления в свою очередь немедленно запечатлеваются внутренним чувством в органе ума более или менее глубоко, в зависимости от большего или меньшего интереса, который они представляют для индивидуума.
До тех пор, пока не нарушена связь между органом ума и внутренним чувством, до тех пор, пока этот орган не поврежден, а приобретенные представления могут быть вызваны в уме, акт суждения всегда будет достаточно правильным. Мы сознаем это и твердо держимся высказанных нами суждений. Но если указанные выше два условия не могут быть выполнены нами,— суждение будет ошибочным.
Для человека способность суждения является иногда самой важной из всех его способностей. Она позволяет ему подняться до вершин мысли, постигнуть самые высокие истины, однако у большинства людей эта способность развита слабее всех других, она едва представлена у них, и они пользуются ею только в отношении небольшого числа обычных предметов, связанных с их привычками и обыденными потребностями; она приводит их к заблуждениям и отдает во власть тех, кто умышленно их обманывает.
Хорошо известно, что среди огромного множества индивидуумов, составляющих людской род, всегда и везде только очень немногие способны правильно судить о сложных вещах, находящихся в различных соотношениях между собой и дающих повод для всякого рода размышлений; очень немногие умеют видеть наблюдаемые вещи такими, какие они есть на самом деле. Преобладающее число индивидуумов, огромное большинство людей в силу необходимости низведено до уровня, позволяющего с пользой для себя судить только о наиболее известных им вещах, касающихся их повседневных потребностей, иными словами,— о вещах, отношения между которыми вполне могут быть охвачены лишь немногими и однообразными представлениями, имеющимися у этих людей. Чтобы понять причины этого известного из наблюдений факта, необходимо обратить внимание на два следующих положения.
Первое положение. У каждого индивидуума число приобретенных представлений находится в прямой зависимости от степени упражнения {520} его умственных способностей, от времени, которым он располагает для расширения и обогащения своих понятий, от многообразия предметов, которые ему пришлось наблюдать в течение его жизни, от степени развития его внимания, достигнутой им благодаря привычке упражнять его, от склонности к наблюдению, рассуждению и размышлению; наконец, от доступных ему пределов способности вызывать в уме несколько представлений одновременно и в результате этого иметь возможность объединять многие, подчас весьма различные представления в процессе мышления.
Второе положение. Всякий акт суждения имеет ценность и бывает правильным только тогда, когда объектом его является предмет, который может быть охвачен мыслью индивидуума со всех точек зрения и не выходит за предел приобретенных им понятий.
Если установить связь между этими двумя положениями и состоянием цивилизации людей в различных странах, мы найдем, что, несомненно, существует лестница, состоящая из ступеней, расположенных сообразно уровню умственных способностей этих людей, лестница,которая имеет тем больший размер, т. е. концы которой тем значительнее удалены друг от друга, чем выше уровень цивилизации в данной стране. Я уже упоминал об этой лестнице, но снова возвращаюсь к ней, прибавив к тому, что уже было сказано, несколько важных выводов.
Во всякой цивилизованной стране, особенно такой, где цивилизация достигла высокого уровня, постоянно наблюдается, что люди, ее населяющие, как бы находятся на различных ступенях лестницы. если рассматривать их под углом зрения умственных способностей отдельных индивидуумов. Чтобы понять причину этого факта, полезно обратить внимание на следующие соображения: в природных условиях животные, пребывая в диком состоянии, не зависят друг от друга, и все особи одного вида обладают одинаковыми способностями, находящимися почти на одном и том же уровне. Между этими {521} способностями нет, следовательно, других различий, кроме тех, которые определяются физическими особенностями, полом, возрастом, силой, состоянием здоровья этих животных и т. д.
Без сомнения, и человек первоначально находился в диком состоянии, ибо это подтверждается тем, что в некоторых странах в его образе жизни до сих пор еще наблюдаются кое-какие пережитки этого периода. Можно предположить, что когда человек находился в этом состоянии, его способности были очень ограничены и у отдельных индивидуумов почти не представляли иных различий, кроме тех, которые обусловливались физическими свойствами каждого из них, силой, живостью и энергией одних и слабостью и пассивностью других; если и встречались различия в развитии их умственных способностей, то эти различия, без сомнения, были весьма незначительны.
В настоящее время хорошо известно, что во всякой стране, где установилась цивилизация, а следовательно и система собственности, постепенно возникали различия в положении населяющих ее людей, непрерывно возрастающие по мере прогресса цивилизации. Следствием такого положения вещей повсюду явилось неравенство в отношении собственности, богатства и власти. Громадное число людей было ввергнуто в нищету, лишено возможности получать образование и оказалось вынужденным добывать средства к существованию тяжелым и утомительным трудом, поглощающим все их время и тем самым сильно ограничивающим их кругозор.
Разумеется, при таком порядке вещей в лучшем положении оказались люди самые энергичные, самые предприимчивые, самые смелые. Более благоприятные условия дали этим людям возможность соответственно увеличивать средства, обеспечивающие им спокойную, приятную жизнь, и позволили им удовлетворять возросшие потребности, увеличивать всевозможные связи, приобретать более широкое образование, расширять круг своих представлений и, при известных обстоятельствах, значительно увеличивать число и разнообразие последних.
Наконец, на высших ступенях общественной лестницы богатство, знатность, власть чрезвычайно расширили общественные отношения {522} людей, обладавших всеми этими преимуществами, и способствовали почти безграничному увеличению их потребностей, а тем самым — и их представлений [разных порядков]. Таким образом, именно у них должны были особенно сильно развиться все умственные способности, что иногда действительно наблюдается. Однако подобное положение вещей не всегда имеет место, ибо склонности человека увлекут его к наслаждениям всякий раз, когда для этого представится возможность, и он предпочитает отдавать все свободное время, которым он располагает, развлечениям и удовольствиям, вместо того чтобы употреблять его на увеличение своих познаний. Познакомимся теперь с результатом рассмотренного мною вкратце положения вещей.
Мы можем приобретать представления только при помощи внимания, наблюдения и размышления, увеличивать их число, только варьируя объекты нашего наблюдения и размышления. Мы можем развивать способности нашего ума только путем их упражнения, но для всего этого необходимо иметь в своем распоряжении достаточное количество времени и, кроме того, этому должны благоприятствовать обстоятельства.
Состояние цивилизации в каждой стране обусловило у ее обитателей постепенно увеличивающееся неравенство в их положении в обществе, в условиях их жизни, в их имущественном положении, в их власти, в использовании ими своего досуга и т. д.
Это неравенство положения индивидуумов в цивилизованной стране совершенно лишает одних (и таких громадное большинство) свободного времени и средств для получения образования, предоставляя его в избытке другим, число которых становится все меньше; наконец, существует меньшинство, которое, благодаря наличию особо благоприятных обстоятельств, имеет возможность значительно расширять свои познания, почти беспредельно увеличивать и обогащать свои представления, придавать возвышенное содержание мыслям и достигать необыкновенного развития ума.
Из всего сказанного следует, что, рассматривая население цивилизованной страны, всегда можно обнаружить существование лестницы {523} со ступенями, соответствующими различному уровню умственного развития отдельных людей. Эта лестница достигает очень значительных размеров, если цивилизация данной страны старая и уже достигла большого развития; на противоположных концах этой лестницы будут находиться люди, наиболее далекие друг от друга с точки зрения их умственных способностей, особенно — способности суждения. В самом деле, на нижних ступенях лестницы неизбежно окажется то большинство, которое составляет главную массу населения, т. е. люди, обладающие крайне ограниченным крутом идей; на следующих ступенях встречаются индивидуумы с более глубоким умом, соответственно их положению в обществе, их связям и прочим обстоятельствам, наконец, на высших ступенях той же лестницы мы найдем людей наиболее просвещенных, наделенных глубоким умом, суждения которых являются наиболее правильными, иными словами,— людей, которые делают честь своему веку и всему человечеству.
Следствия этого порядка вещей. Существование лестницы различных ступеней ума у людей, составляющих население цивилизованной страны, влечет за собой множество важных следствий, которые необходимо иметь в виду три объяснении многих поступков человека. Я остановлюсь здесь только на некоторых из них.
1. Низкий умственный уровень индивидуумов, составляющих преобладающее большинство населения цивилизованной страны, лишает их способности понимать свои собственные интересы, свои естественные права, отдает их во власть людей более ловких и заставляет их служить личным интересам сильных мира сего. Ими легко управлять, успокаивать их словами и искусно поддерживать в них уважение к авторитетам и всякого рода предрассудки.
2. Ступень лестницы, на которой стоит данный индивидуум, определяемая состоянием его умственных способностей, т. е. его знаниями, запасом его представлений и понятий и т. д., лишает его возможности понять и оценить мысли, рассуждения и выводы индивидуумов, стоящих на более высоких ступенях той же лестницы, т. е. тех людей, которые способны охватить ряд отношений, ему не доступных. Отсюда вытекает невозможность установить единство мнений по поводу {524} каждого данного вопроса и заставить признать истину, в какой бы области она ни открывалась.
3. Индивидуум, много занимавшийся одним каким-нибудь предметом, хотя бы и обширным, но ограниченным замкнутым кругом знаний, может обнаружить в своих суждениях по этому предмету компетентность и хорошее знание деталей в той области, которая является объектом его наблюдений и его изучения. Но если он не старался расширить круг своих идей и своих знаний, если ему чужды почти все другие знания, доступные человеку, но лежащие вне тех предметов, которыми он непосредственно занимается, он навсегда останется на одной из средних ступеней лестницы, о которой здесь идет речь: его суждения, вне тех предметов, на которых исключительно сосредоточено внимание, будут, вообще говоря, обладать небольшой ценностью, он не сумеет связать свои знания со знаниями, относящимися к другим областям, и не в состоянии будет ни понять, ни, тем более, создать истинную философию даже той науки, которой он себя посвятил.
4. При всяком совместном обсуждении и во всяком собрании все участники, в зависимости от степени развития их ума, занимают ту или иную часть упомянутой выше лестницы, и при этом почти всегда наиболее мудрые решения, наиболее глубокие взгляды, наиболее правильные мысли и наиболее веские суждения принадлежат меньшинству. Отсюда следует, что чем многолюднее собрание, тем менее ценными будут решения, принятые большинством голосов и т. д.113
Как бы возвышенны и удивительны ни были способности, сочетание которых составляет ум, какого бы совершенства они ни достигали у людей, обладающих ими в очень высокой степени, какие бы важные преимущества ни представляли их результаты, они никогда не будут иметь того влияния, на которое, казалось бы, могли рассчитывать. Все эти способности развиваются и приобретают значение только по мере упражнения, т. е. они складываются путем долгой привычки наблюдать, сравнивать, судить, размышлять по поводу того, что можно узнать путем внимательного изучения фактов. Поэтому, как я уже говорил, эти способности могут быть и всегда будут достоянием {525} лишь очень небольшого числа индивидуумов по сравнению с тем множеством их, которое составляет человеческий род. Отсюда следует, что это небольшое число не может и никогда не будет в состоянии противодействовать всевозможным видам зла, которые влечет за собой невежество,— зла, усугубляемого людьми, заинтересованными в том, чтобы поддерживать его, и употребляющими для этой цели различные средства, которые им доставляют преимущества их положения, а косвенно — даже сами знания. Таким образом, во всякой цивилизованной стране огромное большинство населяющих ее людей находится во власти господствующего меньшинства, прилагающего все усилия к тому, чтобы, в угоду своим взглядам, своим склонностям или своим страстям, извлечь из всего наибольшую для себя пользу! Следовательно, знания, являющиеся уделом только небольшого числа индивидуумов, никогда не сумеют изменить указанный порядок вещей; но в то же время мы имеем все основания утверждать, что прогресс этих знаний, вследствие влияния, оказываемого им на господствующие мнения, может иметь по крайней мере то положительное значение, что будет удерживать тех, кто под влиянием склонностей, которыми природа в равной мере наделила всех, мог бы злоупотребить принадлежащей им властью.
Ограничусь сказанным, хотя рассматриваемый предмет дает обширное поле для любопытных и чрезвычайно интересных наблюдений. Прибавлю только, что ум, развивающий свои способности исключительно путем их упражнения, по существу, отличается этим от инстинкта, средства которого по своей природе и интенсивности остаются одними и теми же в продолжение всей жизни индивидуума (Извлечение из «Nouveau dictionnaire d'hisloire naturelle». Paris, Deterville).
| {526} |

О представлениях
Представление есть органическое явление, возникающее в результате некоторого более или менее продолжительного воздействия, оказываемого на орган ума,— воздействия, которое мы способны воспринимать в состоянии бодрствования и здоровья.
Это явление первостепенной важности, самое замечательное из всех проявлений организации, составляет основу и содержание всего, что принято называть умом у существ, которые им наделены, иначе говоря, оно служит основой всех умственных актов. Подобно всем остальным органическим явлениям, целостность осуществления его всегда зависит от целостности тех органов, которые его обусловливают.
Это замечательное явление наблюдается не только у человека, у которого число и разнообразие представлений, доступных индивидуумам его вида, образует огромную лестницу, причем высшая ступень ее не может быть определена; оно наблюдается, хотя и в весьма узких пределах, и у некоторых животных, что подтверждается теми действиями, которые они выполняют, а также существованием у них сновидений.
Важное органическое явление, составляющее представление, по своему происхождению есть непосредственный результат ощущения, на которое направлено внимание, и возникает оно как неизбежное следствие сохраняющегося воздействия, произведенного на орган, {527} способный воспринять последнее. Это воздействие — не что иное, как отпечаток того предмета, который обусловил данное воздействие. Всякий раз, когда приведенный в движение нервный флюид проходит по всем частям этого отпечатка, он вызывает в нем смутное ощущение или особое сотрясение, которое немедленно передается уму — очагу, в котором образуются мысли, выполняются умственные акты.
Таким образом представление — это смутный образ предмета, переданный уму индивидуума или вызываемый в нем всякий раз, когда приведенный в движение нервный флюид проходит по чертам этого образа, запечатлевшимся в специальном органе, способном выполнять, умственные акты.
Если сопоставить все, что нам известно из наблюдений и выводов относительно представлений, мы поймем, что данное мною определение является единственным определением, способным объяснить природу этого органического явления, так как оно полностью соответствует всем наблюдаемым фактам. Если бы воздействия, полученные от предметов, привлекших наше внимание, не сохранялись в органе ума, то не было бы памяти, а сны не воскрешали бы в уме различных ранее приобретенных представлений; наконец, эти представления не возникали бы у нас в беспорядке во время бреда, сопровождающего некоторые болезни.
Представление, безусловно, не является чем-то метафизическим, как это думают многие; напротив, это — явление органическое, следовательно, — явление чисто физического порядка, обусловленное взаимодействием различных видов материи и теми движениями, которые при этом происходят. Если бы это было иначе, если бы представление было чем-то метафизическим, ни одно животное не обладало бы ими, и мы сами ничего не знали бы о них, т. е. не наблюдали бы их ни у самих себя, ни у других существ. Ведь неоспоримо, что мы можем наблюдать только тела, их свойства, движения, изменения и подобные явления, возникающие в результате взаимодействия этих тел.
Если исключить из области метафизики суждения человека, его-умозаключения, выводы, словом — принципы, лежащие в основе {528} науки и морали, вообще все то, что он обычно считает предметами метафизическими, между тем как они на самом деле являются результатами умственных актов, то слово, метафизический, созданное его воображением и отвлечением от всего физического, утратит всякое положительное значение. В самом деле, человек не может иметь положительного и определенного представления о предметах, относимых им к категории предметов метафизических. Превосходство человека над всеми остальными существами, обладающими умом, отличающее его от всех их, заключается в том, что его мысль возвысилась до понятия о верховном творце, но вне этого, человек вынужден довольствоваться исключительно наблюдением природы и тех фактов, которые она перед ним раскрывает, и, наконец, познанием самого себя, чего он, увы, никогда не сможет достигнуть, потому что этому препятствуют заложенные в нем самом склонности.
Итак, хотя иллюзии могут показаться более привлекательными, я буду продолжать излагать лишь то, что почерпнул из наблюдений, касающихся рассматриваемого здесь вопроса.
Если представления — не что иное, как явления, свойственные организации, то они должны зависеть от состояния того органа, в котором возникают, и, помимо того, от условий, необходимых для их образования. Мы увидим в дальнейшем, что это подтверждается наблюдением, и, вероятно, гармония, существующая между наблюдаемыми фактами и физическими законами, которые одни только и могут их обусловить, подтверждает положение о чисто органической природе представлений.
Но предварительно уместно напомнить здесь два принципа, приведенные в моей «Philosophie zoologique» (ч. III, стр. 708), так как они составляют основу всякого приемлемого мнения по данному вопросу.
Первый принцип: все без исключения умственные акты возникают из представлений, либо приобретаемых в данный момент, либо уже приобретенных ранее, ибо в этих актах речь всегда идет о представлениях, или об их взаимоотношениях или, наконец, о производимых над ними операциях. {529}
Второй принцип: всякое представление возникает из ощущения, иными словами,— прямо или косвенно происходит от него.
Из этих двух принципов первый полностью подтверждается исследованием того, что собой в действительности представляют умственные акты. В самом деле, во всех этих актах объектом или материалом для соответствующих операций неизменно являются представления.
Второй из этих принципов был известен уже в древности и полностью нашел свое выражение в аксиоме, обоснование которой впоследствии дал Локк, а именно: ум не содержит ничего, чего не было бы предварительно в ощущении.
Отсюда следует, что всякое представление в конечном счете сводится к чувственному восприятию, т. е. что источником его всегда является ощущение. И действительно, нет ни одного представления, которое имело бы какой-либо иной источник. Полагаю, что мне удалось доказать это в моей «Philosophie zoologique» (ч. Ill стр. 750 и след.), где я показал, что воображение человека, хотя и кажется в некотором роде беспредельным, тем не менее не может создать ни одного представления, не пользуясь в качестве материалов каким-либо из тех представлений, которые уже были приобретены ранее из ощущений или, иными словами, не прибегая к произвольному изменению или преобразованию тех или иных представлений, полученных при посредстве чувств. См. в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres» (т. I, стр. 254) относительно области воображения.
В самом деле, всякое представление, простое или сложное, является результатом образа, начертанного или запечатлевшегося в органе ума. Если дело идет о простом представлении,— это запечатлевшийся образ предмета, обусловившего замеченное ощущение; в сложном представлении этот образ слагается из ряда отдельных образов, которые всегда можно различить. Таким образом, в каждом представлении мы всегда находим черты предметов, известных нам благодаря ощущению.
Однако приведенное выше положение не получило еще всеобщего признания, так как многие люди, наблюдая факты, причины которых им неизвестны, поверили в существование врожденных представлений {530} [идей]. В качестве доказательства своих взглядов, они приводят в пример младенца, который уже спустя несколько мгновений после появления на свет стремится сосать и как бы ищет материнскую грудь, хотя еще не может иметь о ней никаких приобретенных им самим представлений.
Конечно, младенец, о котором идет речь, ничего не знает о материнской груди, не имеет о ней никакого представления. Но такое представление отнюдь не является необходимым условием для того, чтобы он мог выполнять соответствующие действия. Ему вполне достаточно для этого внутреннего чувства, которое никогда не пользуется представлениями, которое присуще самой организации всякого индивидуума, а не приобретается впоследствии. Именно это чувство, возбуждаемое потребностью, заставляет младенца машинально производить различные движения, и он берет в рот все, что ему попадается, будь то материнская грудь или любой другой предмет, и делает это помимо всякого представления, всякой мысли, под влиянием одного лишь инстинкта.
Что касается существ, наделенных в той или иной степени умом, то на первых порах существования инстинкт заменяет им все. Только постепенно, по мере того как они начинают направлять внимание на испытываемые ощущения, у них появляются представления. С той же постепенностью они привыкают пользоваться приобретенными ими представлениями, сравнивать замеченные предметы, судить о них, и чем дольше они упражняют свою способность суждения, тем правильнее становятся эти суждения.
Итак, я считаю основным принципом, неоспоримой истиной, что никаких врожденных представлений [идей] не существует, что всякое представление приобретается вслед за первыми проявлениями жизни и что оно происходит, либо прямо, либо косвенно, из испытанных и замеченных ощущений114.
Прежде чем показать, как, по всей вероятности, образуются представления и какие необходимы для этого условия, я должен предварительно указать, что все вообще умственные акты, выполняемые индивидуумом, обусловлены совокупностью следующих причин. {531}
1. Способностью чувствовать.
2. Наличием специального органа ума.
3. Взаимоотношениями этого органа с нервным флюидом, совершающим в нем всякого рода движения.
4. Наконец, тем фактом, что результаты указанных отношений всегда передаются очагу мышления (уму), связанному с очагом ощущений, а следовательно, передаются внутреннему чувству индивидуума.
Такова цепь, все звенья которой должны быть гармонично связаны между собой, для того чтобы могли образовываться представления и осуществляться операции над ними; такова также совокупность основных физических причин, обусловливающих выполнение одного из самых замечательных явлений, наблюдаемых в природе.
Органические явления, составляющие ум, кажутся нам чудесными только потому, что мы или не замечали их естественных причин, или не имели возможности, надлежащим образом изучить тот орган, который эти явления производит. Тем не менее известно, что в основе всех их лежат представления, что во всем, что К ним относится, речь всегда идет о представлениях или об операциях над представлениями. Поэтому прежде чем исследовать, в чем, й сущности, состоят сами представления, я должен был показать, каким образом природа постепенно создала сначала органы, способные обусловить ощущения и внутреннее чувство у животных, обладающих способностью чувствовать, а в дальнейшем — органы, необходимые для образования представлений у животных, обладающих умом. Однако было бы излишним приводить здесь все эти рассуждения, поскольку они изложены в моей «Philosophie zoologique» (ч. Ill, стр. 711 и след.), к которой я и отсылаю читателя. В настоящем изложении я ограничусь рассмотрением вопроса об образований представлений и о том, при каких условиях ощущение может его вызывать.
Чтобы понять, как образуется представление, необходимо прежде всего познакомиться с существенным условием образования всякого представления.
| {532} |
Для образования всякого представления и всякого умственного акта абсолютно необходим подготовительный органический акт, выполняемый внутренним чувством индивидуума, возбужденным потребностью. Этот акт, известный под названием внимания, который мы легко можем различить, но природу которого мы никогда не пытались установить, не является ни ощущением, ни представлением, ни какой-либо умственной операцией. Это — простое напряжение частей органа, делающее его способным воспринимать воздействие, - необходимое для образования представления, и только благодаря вниманию этот орган может выполнять всякий вообще умственный акт.
В состоянии бодрствования все наши чувства или большая часть их безусловно испытывают различного рода воздействия со стороны окружающих предметов. Однако эти воздействия не образуют еще представлений. Мы видим предметы, слышим шумы и звуки и даже осязаем тела и, тем не менее, все эти воздействия, получаемые нашими органами чувств, могут остаться безрезультатными для ума и могут протекать, не сопровождаясь образованием представлений. Но если наше внутреннее чувство, будучи возбуждено какой-нибудь потребностью, выполнит подготовительный акт, предшествующий всякой умственной операции, иными словами,— если мы приведем себя в состояние внимания и сосредоточим это внимание, на каком-нибудь предмете, подействовавшем на наши чувства, то у нас образуется одно или несколько представлений. Воздействия, получаемые нами путем ощущений, не будут проходить бесследно, но достигнут органа [ума], доставят туда образы воздействовавших на нас предметов и запечатлеют их в нем более или менее глубоко; в результате этого мы получим способность делать их ощутимыми, т. е. воспроизводить их в уме. Вследствие этого, если даже замеченные предметы уже не находятся перед нами, мы все же имеем возможность в продолжение более или менее длительного времени воспроизводить их в своей памяти, т. е. вызывать их образы в уме посредством акта, называемого мышлением, так как {533} следы этих предметов запечатлены и их образы начертаны в органе [ума].
Таким образом, чтобы черты или образ предмета, вызвавшего ощущение, могли достигнуть органа ума и запечатлеться в какой-либо его части, необходимо, чтобы акт, называемый вниманием, подготовил этот орган к восприятию данного воздействия, иначе говоря,— чтобы тот же акт открыл путь, позволяющий довести результат ощущения до органа, способного запечатлевать черты предмета, вызвавшего данное ощущение. Для того чтобы представление могло достигнуть сознания или быть воспроизведено в нем, необходимо, чтобы нервный флюид, опять-таки с помощью внимания, доставил туда его черты или способствовал их передаче уму индивидуума, и тогда это представление становится явным или ощутимым и может, по воле индивидуума, повторно вызываться [в его уме] на протяжении более или менее долгого времени («Philosophie zoologique», ч. III, стр. 726).
До сих пор я намерен был указать только на условие, абсолютно необходимое для образования представления и всякого другого умственного акта; этим условием несомненно является внимание.
Я действительно могу доказать, что если орган ума не подготовлен заранее этим усилием внутреннего чувства, которое мы называем вниманием,— ни одно ощущение не может дойти до него, а если и достигает его, то не запечатлевает в нем ни одной из своих черт: оно лишь слегка задевает орган, но не образует никакого представления и не вызывает в уме ни одного из тех представлений, которые уже были здесь начертаны.
Когда наши мысли поглощены чем-нибудь, пусть даже наши глаза будут открыты и непрерывно получают свет, посылаемый отражающими его предметами, находящимися перед нами, мы не будем видеть ни одного из них или, вернее, мы не будем различать их, если особое усилие, иными словами,— наше внимание, не направит при этом всю имеющуюся в нашем распоряжении часть нервного флюида на черты тех представлений, которые нас в данное время занимают. Та же часть нашего органа [ума], которая способна воспринимать {534} воздействия ощущений, производимые на нас этими внешними предметами, оказывается в этом случае совершенно неподготовленной, т. е. неспособной их воспринимать. При этих условиях ни один из предметов внешнего мира, со всех сторон воздействующих на наши чувства, не вызовет у нас никаких представлений.
То же, что я сказал о предметах, действующих на наш орган зрения,— предметах, которые мы не различаем, когда бываем сильно поглощены чем-либо, например какой-нибудь мыслью, относится в той же мере и к звукам или шумам, достигающим нашего слуха. Воздействия, производимые звуками или шумами, в этом случае также не достигают нашего органа ума, не подготовленного к их восприятию, и вследствие этого мы их не различаем. В самом деле, если нам что-нибудь скажут, пусть даже отчетливо и громко, в то время, когда наши мысли поглощены чем-либо, до нашего слуха дойдет все, однако мы ничего не воспримем и не поймем из того, что нам было сказано.
Кто не знает этого состояния, когда мы всецело поглощены чем-нибудь одним,— состояния, называемого рассеянностью, при котором все воздействия, испытываемые нашими органами чувств, проходят совершенно бесследно для нашего ума, так как они не достигают его!
Но как только наше внутреннее чувство, возбужденное той или иной потребностью или какими-либо интересующими нас мыслями, внезапно направит наше внимание на предмет, воздействовавший на какое-нибудь из наших чувств, и подготовит определенную часть органа, способную воспринять это ощущение и запечатлеть его черты, мы тотчас получим известное представление об этом предмете.
В моей «Philosophie zoologique» (ч. Ill, гл. VII) я более подробно развил эту чисто физическую теорию функций органа, служащего для выполнения умственных актов. Совершенно очевидно, что она не содержит ничего, что было бы недоступно пониманию человека, ничего, что не опиралось бы на факты, известные из наблюдения, словом,— ничего метафизического. Если бы предубеждения, поощряемые, без сомнения, заинтересованностью определенных {535} кругов, не заставляли думать иначе, все те мысли, которые я теперь высказываю по поводу этих предметов, вероятно, не были бы столь новыми и не казались бы столь необычными.
Итак, только замеченные ощущения, только те, на которые было направлено наше внимание, могут порождать представления; при этом получаются представления первого порядка, или первичные, названные так потому, что они обусловливают образование всех остальных.
Следовательно, я имел основание утверждать, что хотя всякое представление происходит, по крайней мере первоначально, из ощущений, но не всякое ощущение порождает представление, а лишь ощущение замеченное.
Млекопитающие животные обладают теми же чувствами, что и человек, и, подобно ему, получают ощущения от всего, что на них воздействует. Но так как они не сосредоточивают своего внимания на большей части этих ощущений и замечают только те из них, которые непосредственно связаны с их привычными потребностями, животные эти имеют лишь очень незначительное число представлений, притом почти одних и тех же. Только исключительные обстоятельства могут заставить их изменить свои действия или несколько увеличить число представлений, Помимо предметов, связанных о их обыденными потребностями, весь остальной мир как бы не существует для них.
Природа не представляет для этих животных ничего чудесного, ничего необыкновенного, словом,— ничего, что могло бы их интересовать, за исключением тех предметов, которые служат непосредственно их потребностям и их благополучию. Весь остальной мир они видят, как бы не замечая его; они не останавливают на нем своего внимания и, следовательно, не могут получать о нем никаких представлений.
Стоит ли говорить о том, сколько есть людей, для которых почти все, что природа предоставляет их чувствам, как бы вовсе не существует, потому что они, подобно животным, не сосредоточивают на этом своего внимания! Сколько есть людей, которые вследствие {536} недостаточного использования своих способностей ограничивают внимание чрезвычайно узким кругом интересующих их предметов, почти не упражняют своих умственных способностей, не меняют содержания своих мыслей, обладают ничтожным запасом представлений и в сильной степени подвластны своим привычкам!
Следует ли удивляться тому, что, несмотря на то, что все индивидуумы человеческого рода имеют одинаковые органы, одинаковой степени сложности,— лестница различных степеней развития человеческого ума имеет столь значительные размеры от одного конца до другого, если принять во внимание, что способности органов всегда зависят от большего или меньшего их упражнения! Можно ли утверждать, что мозг человека физического труда, всю свою жизнь обреченного выполнять тяжелую работу каменщика или грузчика, по сложности и совершенству своего строения ниже, чем мозг Монтеня, Бэкона, Монтескье, Фенелопа, Вольтера и т. д., а между тем какая огромная разница существует между умом, которым были наделены эти знаменитые люди, и умом человека из простонародья, о котором я здесь упомянул115.
Без сомнения, она очень велика, эта лестница, состоящая из ступеней, соответствующих различным степеням ума, количеству приобретенных представлений, широте, глубине и правильности суждений. Каждый индивидуум занимает в ней принадлежащее ему место, которое определяется его положением [в обществе], состоянием, привычками, обстоятельствами, в которых он находится, и тем мерилом, с помощью которого он выносит суждения обо всем.
Возвращаюсь к своей теме, к рассмотрению представлений, их природы и условий их образования. Для того чтобы внести ясность в эти вопросы, необходимо различать два существенно разных рода представлений, а именно:
1) представления, которые возникают непосредственно из ощущений;
2) представления, являющиеся результатом актов, выполняемых над ранее приобретенными представлениями.
Я уже сказал, что необходимым условием образования как тех, {537} так и других является внимание. Теперь я попытаюсь изложить, вкратце возможный механизм их образования.
Первичные представления — это те, которые мы можем приобрести первыми. В продолжение жизни мы образуем их всякий раз, когда бывает для этого удобный случай, которым мы и пользуемся. Это те представления, которые мы получаем путем ощущений, следовательно, из наблюдения. Именно эти представления знакомят нас с наблюдаемыми фактами, с окружающими телами, с их свойствами, особенностями и теми явлениями, которые они могут раскрыть. Представления, образуемые нами об этих предметах, наиболее достоверны, мы можем больше всего положиться на них, и так как мы получаем их только при помощи наблюдения, следовательно, путем ощущений, нам остается только изучить, как они образуются.
Полагаю, что выше мне удалось показать, что хотя все, что нас окружает, непрерывно воздействует на наши чувства, когда мы бодрствуем, все те воздействия, которых мы не замечаем, т. е. на которых мы не останавливаем нашего внимания, проходят совершенно бесследно для нашего ума. Посмотрим теперь, что происходит, когда мы фиксируем внимание на тех воздействиях, которые получаем благодаря чувствам.
Когда мы чем-нибудь заинтересованы, у нас немедленно возникает та или иная потребность, и мы останавливаем наше внимание на каком-либо предмете или на выполнении какого-либо действия, от которых получаем ощущения при посредстве одного из чувств; при этом наше приведенное в состояние возбуждения внутреннее чувство одновременно вызывает особое напряжение в органе чувств, подвергшемся раздражению, и в органе ума. В то же мгновенье орган чувств, получивший ощущение, фиксируется более сильно на предмете, который на него воздействовал, становится более способным воспринимать это воздействие в целом и немедленно передает его в ту часть головного мозга, которая подготовлена к тому, чтобы {538} его воспринять. И тогда черты, или образ предмета запечатлеваются в органе ума, представление оказывается вполне сформировавшимся, а нервный флюид, движущийся по его запечатлевшимся следам, передает его уму индивидуума.
Если предмет, о котором мы получили представление, не находится больше перед нами и если в состоянии бодрствования какая-нибудь причина вызывает его в памяти, тотчас же наше внутреннее чувство приводит в движение нервный флюид и направляет его в ту часть энцефала, в которой запечатлелись черты этого предмета. Упомянутый нервный флюид проходит тогда по этим чертам, устанавливает соотношение их в уме индивидуума, что делает данное представление ощутимым, хотя и весьма смутно. Такова способность, которую мы называем памятью.
Во время сна наше внутреннее чувство перестает управлять движениями нервного флюида, однако, если при этом какая-нибудь возбуждающая причина приведет этот флюид в движение, то, по мере прохождения по запечатлевшимся чертам различных приобретенных ранее представлений, он передает их нашей мысли, но почти всегда беспорядочно. Вот причина того, что мы называем сновидениями, и мы являемся не единственными существами, которым они присущи.
Если бы представления вовсе не запечатлевались в органе [ума], то они не могли бы сохраняться при отсутствии вызвавших их предметов; у нас не было бы приобретенных представлений; мы были бы лишены памяти, т. е. не могли бы вспоминать предметы, не находящиеся больше у нас перед глазами; беспокойный сои не сопровождался бы сновидениями; при безумии, а также во время бреда, представления, следуя друг за другом в беспорядке, не действовали бы на нас, и наше внутреннее чувство перестало бы управлять движениями нервного флюида в течение приступов этих болезней.
Итак, память, сны, состояние бреда и безумия воспроизводят различные приобретенные нами представления, как простые, так и сложные. С природой и образованием последних мы в дальнейшем ознакомимся.
Важно заметить следующее: если бы не существовало порядка в {539} наших представлениях, своего рода систематизации их, мы не могли бы вызывать их в известной последовательности, чтобы рассуждать, строить связную речь, создавать правильно расчлененные произведения. Благодаря усилиям, которые мы прилагаем, чтобы внести порядок в наши представления по мере того как мы их приобретаем, сами представления, запечатлеваясь в органе ума, распределяются в нем в соответствующем порядке, так что чем больше разнообразия мы вносим в свои наблюдения, мысли, в приобретенные нами представления, тем больше в нашем органе [ума] образуется подразделений, способных воспринимать различные по своей природе представления. Что это так,— подтверждают общеизвестные факты. Если какая-нибудь причина вызовет нарушения в том или ином отделе органа, то запечатлевшиеся в нем представления также приходят в расстройство, утрачивают свое обычное состояние и перестают подчиняться надлежащему суждению индивидуума.
Первичные представления можно разделить на две группы: представления, получаемые от простых предметов или от предметов, рассматриваемых в совокупности их частей, и представления, которые нам дают предметы собирательные. Представление о баране, о быке есть простое представление о простом или индивидуальном предмете, представление о стаде — также является представлением простым, но о предмете собирательном. Эти представления, будучи приобретены путем ощущений, являются, следовательно, представлениями простыми, т. е. не относятся к числу представлений, получаемых от ранее приобретенных представлений, и не требуют для своего образования других представлений.
Однако не следует забывать следующего соображения, которое необходимо для правильного понимания рассматриваемого здесь вопроса. Приведем его.
Все первичные представления приобретаются нами только путем сравнения. Необходимо видеть несколько различных тел, чтобы при посредстве ощущения составить представление о теле; надо дотронуться до многих твердых тел, чтобы при помощи осязания получить представление о мягком теле, и наоборот. Но что касается {540} представлений простых, то, если для них и необходимы сравнения, эти сравнения производятся до некоторой степени машинально, т. е. они, так же как и их результат, являются продуктом внутреннего чувства индивидуума, побуждающего последнего выносить суждение; между тем сложные представления, как мы это увидим, являются продуктом исключительно умственных актов, обусловленных волей.
Я описал механизм образования первичных представлений — тех, которые возникают непосредственно из ощущений и являются результатом воздействий, полученных нашими чувствами,— воздействий, на которые было направлено наше внимание. Без сомнения, этот механизм не отличается от описанного мною, ибо приведенное допущение подтверждается всеми результатами наблюдений, касающихся представлений, равно как и условий их образования. Рассмотрим теперь сложные представления, их источник и вероятный способ их образования.
Я называю сложными представлениями все те, которые возникают в результате органических актов, выполняемых над представлениями, уже приобретенными раньше. Следовательно, всякий индивидуум, не имеющий простых представлений, не может образовать ни одного сложного представления.
Простые, или первичные представления, будучи, как мы видели, непосредственным результатом замеченных ощущений, не нуждаются для своего образования в ранее приобретенных представлениях. Это те представления, которые мы получаем первыми после рождения; в дальнейшем, как это хорошо известно, различные наши чувства и опыт способствуют их совершенствованию. Иначе обстоит дело со сложными представлениями: они никогда не являются непосредственным продуктом какого-либо ощущения, но есть результат операций нашего ума над ранее приобретенными представлениями, запечатлевшимися в этом органе. Таким образом, эти представления по своему происхождению, естественно, являются более поздними, {541} чем первые, приобретенные представления. Известно, что первичные представления возникают только из ощущений, а из них уже образуются сложные представления, которые, в свою очередь, могут служить для образования других, еще более сложных, но относящихся уже к более высокому порядку, и т. д. Отсюда следует, что всякое представление имеет своим источником ощущение — факт, известный еще древним и составляющий второй принцип, приведенный в начале настоящей статьи.
Итак, всякое сложное представление заключает в себе фактически несколько других представлений, то простых, то в большей или меньшей степени сложных, потому что первые были необходимы для образования последних. Анализируя любое сложное представление, можно действительно найти в нем простые представления.
Так, например, наши представления о жизни, о природе, о произрастании и т. д. и т. п. являются представлениями сложными, так же как и наши понятия о любви, ненависти, страхе и т. д., причем каждое из этих представлений заключает в себе ряд простых.
Теперь важно выяснить, можем ли мы определить физический способ образования этих сложных представлений и имеем ли мы возможность, опираясь на то, что нам известно, относительно простых представлений, определить наиболее правдоподобный механизм образования сложных представлений.
Чтобы подготовить и облегчить решение этого трудного вопроса, я считаю необходимым привести следующие соображения, которые я положил в основу настоящего исследования.
1. Все, что мы наблюдаем или можем наблюдать, ограничивается объектами, которые нам показывает природа, или теми явлениями, которые она сама производит. Эти объекты и эти явления, несомненно,— физического порядка, ибо природе подвластны только материя и тела, которые из нее образованы, и только при посредстве их природа осуществляет различные наблюдаемые нами факты и явления.
2. Образование простых представлений несомненно является результатом органических и, следовательно, чисто физических актов; полагаю, что это было достаточно ясно установлено мною. Почему, {542} в таком случае, образование сложных представлений, хотя и более трудное для понимания, не может быть явлением того же порядка? Есть ли в нем что-нибудь действительно метафизическое? Поскольку было ясно осознано, что это слово для нас не имеет реального смысла, его стали употреблять применительно к умозаключениям, выводам, принципам, чтобы связать его с представлениями, однако при этом не подумали о том, что умозаключения, выводы и т. п., в свою очередь, являются продуктами органических актов. Поэтому слово метафизический должно быть отброшено, как не выражающее ничего, что доступно нашим положительным знаниям.
Теперь изложу то, что кажется мне возможным и даже правдоподобным относительно тех органических средств, которые природа могла использовать для образования сложных представлений.
Если внутреннее чувство, приведенное в состояние возбуждении той или иной причиной или какой-либо почувствованной потребностью, может привести в движение нервный флюид, направить его по запечатлевшимся следам представления, связанного с этой причиной, и тотчас же сделать это представление ощутимым, т. е. вызвать его в уме индивидуума, то понятно, что, будучи возбуждено иного рода причиной или иного рода потребностью, это чувство может направить нервный флюид по запечатлевшимся следам нескольких различных представлений, связанных с этими новыми причинами, и одновременно вызвать все эти представления в уме или в мысли, {543} сложные представления строятся при помощи воображения, следовательно, являются фантастическими. Само по себе это суждение — не что иное, как результат соотношения нескольких соединенных представлений, своего рода умственное представление [idee intellectuelle], образующееся из совокупности представлений, в основе которой лежит известная форма, обусловленная сочетанием представлений, его составляющих,— сочетанием, которое само по себе есть предмет физического порядка. Эта форма, несомненно, является образом, тем менее различимым, чем больше степень сложности соответствующего сложного представления.
В сложных представлениях первого порядка еще удается различить первичные представления, поэтому представления этого рода легко закрепляются в памяти. Но что касается представлений высших порядков, то для запоминания их чаще всего приходится прибегать к искусственным приемам, которые связываются с выражением, выбранным нами для обозначения соответствующих представлений. Так, например, словами философия, политика и т. д. мы обозначаем сложные представления. Мы привыкли слышать, произносить эти слова, видеть их написанными или напечатанными, и этими физическими путями они довольно легко закрепляются в памяти. Наблюдение ясно показывает, что слова значительно помогли нам увеличить число сложных представлений и расширить наши умственные способности. Но так как почти нет преимуществ, которые не сопровождались бы неудобствами, то оказалось, что большинство людей употребляют слова, не отдавая себе отчета в тех представлениях, которые эти слова должны выражать, и толкуя их каждый по-своему, сообразно своим познаниям, вкусам и склонностям. Таким образом, это средство, столь полезное при правильном его употреблении, дало возможность легко обманывать большинство [людей], вводить их в заблуждение и даже порабощать.
Я не буду входить здесь в многочисленные подробности, необходимые для знакомства с различными порядками или степенями наших сложных представлений. Эта задача может быть выполнена только в специальном труде. Не буду также говорить и о произвольных {544} представлениях [idees arbitraires], относящихся к области воображения, оставляя за собой право изложить в другом месте то, что важно о них знать. Здесь достаточно показать природу и источник сложных представлений. Скажу только несколько слов о так называемых господствующих представлениях [idees dominantes].
Господствующие представления. Это название дают некоторым особым представлениям, которые непрерывно вызываются внутренним чувством индивидуума, почти всегда присутствуют и его уме, господствуют над всеми остальными представлениями, ослабляя, а иногда даже уничтожая влияние последних.
Представление запечатлевается в органе более или менее глубоко и вызывается в нем более или менее часто, в зависимости от того интереса, который внушает нам предмет, обусловивший данное представление. Отсюда следует, что всякое представление, возбужденное сильным интересом или являющееся результатом сильно развившейся склонности, иногда даже превратившейся в страсть, становится господствующим; оно до некоторой степени подавляет все остальные приобретенные представления, оставаясь почти единственным, и почти постоянно присутствует в уме. Таково, например, господствующее представление у влюбленного, не видящего ничего кроме предмета своей любви, у скупого, беспрерывно думающего только об увеличении своих сокровищ, у человека корыстолюбивого, который во всем ищет выгоды или прибыли, у честолюбца, никогда не довольствующегося достигнутой властью, и т. д. и т. п.
Среди господствующих представлений есть такие, которые, всегда присутствуя в уме и достигая исключительной силы, особенно если их питает или еще более усиливает какая-нибудь страсть, настолько интенсивно действуют на орган, обусловливающий выполнение этих актов, что производят в нем подчас довольно значительные нарушения. Действительно, привычка сосредоточивать внимание на некоторых предметах или представлениях, особенно интересующих или поразивших нас, влечет за собой образование тех безраздельно господствующих представлений, о которых была речь выше, и если эти представления еще усилятся под влиянием какой-нибудь {545} страсти, то в конце концов могут привести к полному искажению нашего суждения по поводу отдельных предметов или вопросов, составляющих содержание этих представлений. И так как это чрезмерно сильное действие господствующих представлений превосходит силы органа, в котором выполняются соответствующие умственные акты, то этот орган претерпевает значительные изменения, и мы утрачиваем власть над нашим вниманием, которое, против нашей воли, постоянно возвращается к одним и тем же предметам или к одним и тем же представлениям. Самая слабая степень этого нарушения влечет за собой мании, и всем известно, что эта болезнь головного мозга очень распространена среди индивидуумов нашего вида. Но если под влиянием какой-нибудь сильной страсти нарушение, о котором идет речь, достигает крайнего предела, орган претерпевает приступы почти судорожного возбуждения, и тогда у человека появляются всевозможные видения, которые им овладевают, даже преследуют его и заставляют действовать как если бы они были реальностью. Эта путаница в мыслях, эти видения, или галлюцинации, представляют собой различные виды бреда; знать их источник чрезвычайно важно как для их предупреждения, так и для открытия средств их лечения.
Справедливо изречение: «Mens sana in corpore sano», заключающее в себе непреложную истину, а именно: что наш дух [esprit] здоров, только когда здоровы органы, обусловливающие его способности. Характерная черта здорового духа человека состоит в уменье всецело владеть в состоянии бодрствования своим вниманием, своими мыслями, суждениями, т. е. всеми актами, которые при этих условиях всегда управляются внутренним чувством без всякого труда.
Мы познакомились с механизмом образования представлений и видели, что они являются не чем иным, как образами, запечатлевшимися в органе, способном их воспринять. Мы видели также, что достаточно, чтобы приведенный в движение нервный флюид прошел по отпечаткам этих образов, вызывая в них сотрясение, распространяющееся вплоть до очага ума, который, с своей стороны, передает это легкое возбуждение флюиду очага внутреннего чувства. После {546} этого уже не трудно приподнять завесу, скрывавшую от нас механизм различных умственных актов, и тогда все чудесное, что мы приписывали им, сразу исчезнет, и самые замечательные проявления животной организации включатся в общий порядок физических фактов, причины которых доступны нашему познанию.
Рассмотрение господствующих представлений, их источника, силы их воздействия и почти полной невозможности изменить или уничтожить их у человека, у которого различные обстоятельства его положения способствовали их развитию, одновременно с рассмотрением склонностей, могущих у него развиться в дальнейшем, составляет чрезвычайно важную область, которую необходимо изучить, чтобы понять главные причины большей части поступков человека и объяснить, почему тот или иной индивидуум, соответственно своему положению в обществе и уровню своего умственного развития, является таким, каким мы его видим, наконец,— для того, чтобы определить, хотя бы до известной степени, каким может стать тот или иной индивидуум при тех или иных обстоятельствах.
Все люди имеют в общем одни и те же склонности, но эти склонности неодинаково развиваются у каждого из них. Различие положения, в котором находятся индивидуумы, а также их физического состояния приводит к большим различиям склонностей, которые могут развиться у них.
Эти-то упомянутые мною могущественные причины, до сих пор почти неизвестные, так как им совершенно не уделяли внимания, и составляют великую тайну источника человеческих поступков — тайну, казавшуюся непроницаемой для философов и моралистов, ибо ни один из них не сумел раскрыть ее. (Извлечение из «Nouvean dictionnaire d'histoire naturelle». Paris, Deterville.)
| {547} |

О суждении и о разуме
Суждением называют всякий результат производимого умом, сравнения нескольких различных представлений. Действительно, всякая операция, выполняемая органом ума над двумя или большим числом представлений, одновременно вызванных в уме, состоит в их сравнении и приводит к образованию одного или нескольких новых представлений. Этот результат и есть суждение, которое мы получаем путем сравнения данных предметов.
Умственная операция, ведущая к такому результату, заключается в том, что черты нескольких представлений, одновременно вызванных в уме, будучи приведены в движение нервным флюидом, соединяются друг с другом либо на основе их сочетания, либо, что бывает чаще, на основе их противопоставления, в результате чего в той области, которую я называю очагом ума, возникает сочетание различных черт, дающее новый образ, и вот этот новый образ, раскрывающий отношения между представлениями, послужившими для его образования, и позволяющий обнаружить существующие между ними различия, характеризует новое представление, получающееся в результате этой операции. Это представление тотчас же воспринимается индивидуумом и становится для него ощутимым, так как оно передается его внутреннему чувству благодаря сообщению между очагом ума и очагом ощущений, а внутреннее чувство немедленно направляет его в орган ума, где, запечатлев его, тем самым {548} его закрепляет. Эти отношения, различия и особенности, воплощенные в новом представлении, о котором здесь идет речь, мы называем заключением, суждением; при этом всякое суждение всегда обязано своим возникновением особому акту, который происходит в органе ума и вероятный ход которого я описал выше. Итак, судить — это значит выносить решения о различных сравниваемых предметах, и так как это решение представляет собой новое сложное представление, которое внутреннее чувство передает в орган ума и закрепляет его там, то мы можем в случае надобности воспроизводить его в своей памяти. Чтобы понять мои взгляды на этот важный вопрос, предлагаю ознакомиться с тем, что было изложено мною в главе о представлениях при рассмотрении сложных представлений и особенно в статье об уме.
Для человека суждение или, иначе, способность судить, является самой важной из всех его способностей. Это та способность, которую он может особенно сильно развить и которая может при этом безгранично увеличить расстояние, отделяющее его от других обладающих умом существ нашей планеты, ставя его неизмеримо выше их всех. Эта способность составляет единственную цель ума, стремящегося все познать и правильно судить о всех предметах; наконец, она может наделить человека превосходством, достоинством, в которых с ним не может сравниться ни одно из известных нам на земле существ. Но это достоинство, о котором я здесь говорю, присуще не всякому человеку, как это сейчас будет указано мною.
При рождении человек не имеет ни одного приобретенного представления и не может еще создать ни одного суждения. Единственным источником всех его действий в это время является инстинкт, но вскоре появляется второй источник, ибо среди различных предметов, действующих на его чувства, некоторые начинают останавливать на себе его внимание, возбужденное теми ощущениями, которые он [от них] получает. И действительно, он направляет свое внимание на некоторые из этих предметов, сравнивает их с другими предметами, следовательно,— судит о них. И вскоре он уже располагает представлением об одном из тех предметов, которые воздействовали {549} на его чувства, о предмете, который он заметил и сравнил с другими предметами, словом,— представление, которое запечатлелось в его органе и которое с этого момента определяет его волю к действию. Таким образом, человек владеет уже вторым источником действий, которого не было у него до тех пор, пока у него отсутствовали представления; он уже может желать.
Однако не всякое ощущение обусловливает представление, но, как я уже указывал, лишь то представление, на которое направлено наше внимание; помимо того, необходимо сравнение какого-либо замеченного предмета с другими, также замеченными предметами и чтобы результатом этого сравнения было суждение.
Если бы было возможно или если бы случилось так, что индивидуум после рождения получил только одно ощущение и мог направить свое внимание только на один предмет, даже только на одну сторону или на одну особенность этого предмета, то он не мог бы произвести ни одного сравнения, не мог бы вынести ни одного суждения и, без сомнения, не получил бы никакого представления о данном предмете. Итак, установлено, что мы судим только путем сравнения и что, следовательно, мы различаем только те предметы, на которые предварительно обратили внимание, сравнили их с другими и составили себе о них известное суждение. Итак, только с помощью суждения мы приобретаем все наши представления и знания.
Так как мы судим только при помощи сравнений, очень важно знать, всегда ли наши сравнения верны, правильно построены и всегда ли они полны. Наблюдение учит, что всякое действие можно сделать более совершенным и что это совершенствование достигается не только путем упражнения — этого главного условия, но, кроме того, с помощью особых средств и обстоятельств.
В самом деле, способность выносить суждения, как и другие наши способности, возрастает, расширяется и совершенствуется по мере ее упражнения, особенно по мере того, как, видоизменяя и умножая представления, мы улучшаем их одно посредством другого, так же как и сами наши суждения. Эти последние постепенно {550} приобретают тем большую правильность, чем многочисленнее и разнообразнее наши представления и знания. Это соображение очень важно: оно приложимо ко многим нашим суждениям о фактах, но особенно существенное значение имеет для тех суждений, в основе которых лежат сложные представления, и, наконец,— для всех наших умозаключений.
Из этой истины, неизменно подтверждаемой наблюдением, следует, что во всякой стране, где цивилизация существует уже с давних времен, правильность и широта суждений обитающих в ней индивидуумов нашего вида неизбежно представляют множество различных степеней, в зависимости от того, в какой мере эти индивидуумы сумели развить свою способность суждения и насколько велик приобретенный ими запас различных представлений и знаний. И вот, так как неравенство положения индивидуумов в обществе непрерывно поддерживается самим порядком и состоянием вещей, установленными цивилизацией, так как одни люди, не владея ничем или почти ничем, вынуждены для поддержания своего существования отдавать все свое время тяжелому и однообразному труду, что, естественно, ограничивает представления, которые они способны приобрести, лишь самым узким кругом, удовлетворяющим их, тогда как другие индивидуумы, находящиеся в более благоприятных условиях, имеют, соответственно этому, больше времени и средств для расширения своих представлений и внесения в них большего разнообразия, то совершенно очевидно, что у отдельных обитателей цивилизованной страны правильность и широта суждений должны представить последовательный и очень большой ряд отличающихся друг от друга степеней, обусловливающих все более и более значительные преимущества одних индивидуумов перед другими. Отсюда следует, что с тех пор как люди вышли из дикого состояния, образовалась лестница со ступенями, соответствующими различиям умственного уровня индивидуумов человеческого рода, та лестница, о которой я упоминал во многих моих сочинениях и которая выражает огромное неравенство между людьми, стоящими на противоположных ее концах. {551}
Та ступень лестницы, на которой находится данный индивидуум, является для него предельной, выше нее он ничего не видит. Правда, он, пожалуй, согласится, что можно превзойти его знания в какой-либо отдельной области, которой он никогда не занимался, но он никогда не поверит, что чье бы то ни было суждение более правильно, чем его собственное; в самом деле, почти никто не знает, что суждение тем менее совершенно и тем более ограничено, чем меньше упражняют эту способность и чем меньше запас представлений, знаний и т. д., так что суждения, лежащие вне круга приобретенных представлений, оказываются совершенно необоснованными.
Суждение для ума то же, что глаза для тела. Как в том, так и в другом случае явления и предметы представляются именно такими, какими их видят. Но орган зрения у всех людей находится примерно на одинаковом уровне совершенства и если глаза иногда и обманывают, то обман этот в общем невелик, и каждый человек располагает средствами, позволяющими исправить возможные при этом крупные ошибки. Далеко не так обстоит дело с суждениями: степени правильности суждения настолько разнообразны, настолько многочисленны и так сильно отличаются у одних индивидуумов по сравнению с другими, что, рассматривая предельные проявления этой прекрасной способности, можно обнаружить огромные различия между одним человеком и другим.
Без сомнения, во всякой цивилизованной стране суждение людей, относящихся по своему положению в обществе к определенной более или менее однородной категории, например, суждение людей, принадлежащих к низшим классам, иначе — к классам, охватывающим главную массу населения, бывает сведено к очень низкому уровню, почти одинаковому у всех их, но вне этого класса, число ступеней лестницы постепенно увеличивается и, в зависимости от степени совершенства суждений, отличающих одних индивидуумов от других, ступени эти представляют очень большие различия. Вот где следует искать источник противоречий высказываемых взглядов, источник различия в мнениях и образе мыслей, наконец,— источник ложных направлений, упорно культивируемых в некоторых науках {552} и являющихся препятствием, тормозящим прогресс наших знаний. Этот же источник питает предубеждения и предрассудки, которыми одни люди искусно пользуются, чтобы обманывать других, порабощать их и т. д.
Не подлежит сомнению, что предельная широта и правильность суждений обусловливаются многообразием представлений и знаний, а также что люди, чрезвычайно сведущие в одной какой-нибудь области знаний, которой они всецело посвятили себя и которую они изучили до мельчайших подробностей, высказывают обыкновенно весьма посредственные суждения обо всем, что касается чуждых им областей, и часто даже не способны правильно оценить их значение по сравнению с другими доступными человеку областями знаний; эти люди удовлетворяются своей манерой судить обо всем, что входит в круг их обычных представлений, или обо всем том, чем они занимаются, но за пределами этого круга они не в состоянии вас понять.
Совсем иное можно сказать о тех, кто обладает большим разнообразием представлений и знаний, кто постоянно упражняет свою способность суждения, воспитывает в себе привычку размышлять и глубоко вдумываться во все, кто посвятил себя наблюдению всех без исключения фактов, наконец, о тех, кто стремится отличать истинные знания от мнимых, являющихся продуктом лишь частных мнений. Эти люди обычно высоко ставят положительные знания, которые можно получить путем наблюдения фактов, интересуются одинаково всеми науками, оценивая каждую из них под углом зрения либо ее непосредственной пользы для человека, либо тех средств, которые она предоставляет ему для познания истины*. {553}
Приведенные два примера показывают, к чему приводит неодинаковое развитие способности суждения у различных людей. Одни из этих людей — те, которые не привыкли вызывать в своем сознании одновременно большое число представлений и у которых, следовательно, суждения почти не меняют своего содержания, могут заниматься только ничтожными мелочами; у других, напротив, приобретенные чрезвычайно разнообразные представления придают их суждениям широту, позволяющую одновременно охватывать мыслью самые обширные области. Эти индивидуумы способны подняться до познания источника и сущности всех вещей и лучше, чем кто-либо другой, могут постичь беспредельное могущество верховного творца всего существующего в том удивительном порядке, который они наблюдают, в той взаимной обусловленности и нерушимости законов, управляющих этим порядком.
Степень правильности суждений человека, приобретаемая им в промежутках между детством и зрелым возрастом, когда он почти достигает предела развития и сил,— эта степень, повторяю, весьма значительная в этот период, получила название разума. Последний рассматривали как особую способность, тогда как он представляет собой не что иное, как приобретаемую путем опыта степень совершенства суждения, весьма различную у разных индивидуумов. Известная степень совершенства суждения, как бы слаба она ни была, наблюдается и у животных, наделенных умом, как у очень молодых, так и у достигших полной зрелости.
Я разделяю суждения человека на две главные и весьма заслуживающие изучения группы, именно: на суждения о фактах и суждения разума.
Суждения о фактах обычно ограничиваются тем, что дают нам знание фактов. Мы уже видели, что всякая мысль, всякое знание могут быть получены только в результате суждения, которое их нам дает. Знание фактов может быть положительным для нас только в том случае, если оно получено непосредственно путем наших собственных наблюдений; однако оно может приобрести еще большую достоверность, если подтверждается наблюдениями других людей, так как {554} наши собственные наблюдения могут оказаться неудовлетворительными. Среди фактов, которыми мы располагаем, многие стали нам известны только благодаря различным дошедшим до нас чужим наблюдениям, и так как люди, производившие их, в свою очередь могли ошибаться или неудовлетворительно вести наблюдения, то, как бы обоснованны ни были факты, которым эти наблюдения нас учат, понятно, что на деле они могут иметь менее положительное значение.
Суждения о фактах образуются только из простых представлений, т. е. из тех, которые происходят непосредственно из замеченных ощущений. Эти суждения вообще наиболее достоверны, так как они вовсе не требуют использования сложных представлений. Они ограничиваются тем, что знакомят нас с телами, с различными их качествами, с явлениями, которые некоторые из этих тел производят, с движением во всех его видах, с измеримыми отрезками пространства и времени и т. д.
Наши первые суждения, относящиеся ко времени детства,— это суждения о фактах: они знакомят пас с телами, произведшими на нас особенно сильное впечатление, а также с наиболее заметными свойствами этих тел. Для уточнения и исправления этих суждений мы часто бываем вынуждены прибегать к помощи одного или нескольких наших чувств. В дальнейшем, в течение всей нашей жизни, нам часто представляется случай выполнять суждения о фактах и при помощи этих суждений мы приобретаем знания о множестве тел, их свойствах, присущих им особенностях, о многих явлениях, осуществляющихся в некоторых из них, и т. д. Таковы суждения о фактах, и я сказал уже, что они обладают наибольшей достоверностью и что только на них действительно можно положиться. Я упоминал также, что результаты любого математического действия дают нам знания этого рода, ибо всякий такой результат, простой или сложный,— не что иное, как факт, совершенно не зависящий от наших умозаключений, и только правила, методы, формулы, словом,— те средства, которые приводят к познанию данного факта, представляют собой плод искусственных приемов и изобретательности.
Суждения разума оперируют одними только сложными {555} представлениями и поэтому относятся к совершенно иному порядку, нежели суждения о фактах. Несмотря на то, что и они опираются на известные факты, они все же не являются результатом наблюдения, но зависят от наших взглядов, суждений, умозаключений, словом,— от нашего отношения ко всем вещам, всецело определяющегося приобретенными представлениями и знаниями, а также от предрассудков, чувств, склонностей и страстей.
Все наши представления в большей или меньшей мере связаны между собой, все они способствуют большей или меньшей правильности наших суждений. Мы уже указывали выше, что наша способность судить увеличивается, расширяется и совершенствуется по мере того, как мы ее упражняем, и что, изменяя и увеличивая число наших представлений [разных порядков], мы постепенно улучшаем их — одно посредством другого, так же как и сами наши суждения. Если это действительно так, то наши сложные представления и в особенности суждения разума, словом,— наши умозаключения становятся абсолютно правильными только под влиянием множества других представлений, которые должны были управлять актами ума при их [умозаключений] образовании.
Приведя определение суждений разума и показав, чем они могут быть, я считаю уместным подразделить их на несколько главных групп, для того чтобы лучше ознакомить с ними. Итак, я различаю среди них: 1) суждения измененные [jugements alteres]; 2) суждения неполные [jugements incomplets]; 3) суждения совершенные [jugements parfaits]. Суждение рассматривается здесь только по отношению к его предмету, так как, что касается органического акта, обусловливающего образование суждения, то, как я уже говорил, этот акт всегда бывает правильным.
Измененные суждения — это суждения не только неполные, какими они обычно и являются, но, помимо того, измененные влиянием: 1) предрассудков индивидуума; 2) его чувств, склонностей и страстей; 3) посторонних факторов, оказавшихся среди тех составных элементов, которые служили для образования этих суждений. Таким образом, суждения этой категории бывают трех родов, и неправильность {556} всех их обусловлена либо указанными выше влияниями, либо внесением одного или нескольких посторонних элементов, которые не должны были бы участвовать в их образовании. Эти суждения разума — самые неправильные, но, к сожалению, самые распространенные. Люди, их образующие, не замечают, как я это уже указывал выше, что они ошибочны.
Неполными суждениями я называю суждения, которые не подверглись изменению ни в результате каких-либо особых влияний, ни вследствие привнесения посторонних элементов, однако элементы, участвовавшие в их образовании, хотя и вполне соответствуют предмету суждения, представлены неполно, т. е. в акте суждения участвовали не все представления, которые должны были бы в него войти. Неполные суждения неправильны, но, тем не менее, они наиболее близки к истине. Эти суждения не получили широкого распространения и обычно свойственны людям прямодушным, нередко весьма просвещенным в других областях. Этим людям недостает представлений о предметах, относительно которых они считают возможным выносить суждения, потому что они не пользуются всеми теми представлениями, которые должны были бы участвовать в образовании данного суждения.
Наконец, совершенными суждениями я называю суждения, которые не подверглись никаким изменениям, ни под влиянием предрассудков, предубеждений, тех или иных страстей, ни в результате привнесения в них посторонних элементов при их построении. Суждения этой категории являются результатом сочетания всех элементов, необходимых для их образования. Это те суждения, которые дают нам знание истин. Без сомнения, совершенные суждения наблюдаются весьма редко, тем не менее построение такого рода суждений не выходит за пределы возможностей человека. Совершенные суждения могли и должны были появляться в разные эпохи, и мы, действительно, находим их в речах и в сочинениях великих наблюдателей и в то же время глубочайших мыслителей, но истины, которые эти люди, без сомнения, провозглашали, оставались непризнанными или признавались только очень немногими. Да и могло ли быть иначе?116. {557}
На основании всего, что было изложено здесь, необходимо признать, что: 1) наши суждения о фактах представляют не что иное, как констатацию замеченных реальных фактов, констатацию, почти не требующую для своего обоснования каких-либо дополнительных положений; они могут быть ошибочными, только если нас обманывают чувства или когда наши наблюдения были неудовлетворительными; 2) что, в отличие от них, суждения разума, которые мы называем выводами, вообще легко подвержены ошибкам, так как для своего образования они требуют, чтобы всецело были использованы и исчерпаны предпосылки, необходимые для полноты и правильности этих умственных актов. Но если наши выводы легко могут оказаться ошибочными, то это еще более применимо к умозаключениям и рассуждениям всякого рода, являющимся, как известно, результатом этих выводов! Если даже первые из них сделаны на основании фактов, притом фактов, установленных путем тщательных наблюдений, то кто не знает, что среди рассматриваемых фактов и выводимых из них следствий почти всегда присутствует некая скрытая гипотеза? Отсюда следует, что можно вполне полагаться только на твердо установленные факты, но далеко не всегда на сделанные из них выводы. Способность строить суждения — самая важная из всех способностей человека, так как только она позволяет достигнуть подлинного познания вещей; только она может помешать ему стать жертвой заблуждений и только она может поднять его на доступную ему одному высоту. Чем больше человек упражняет эту замечательную способность и чем разнообразнее предметы его суждений, тем большую правильность, широту и обоснованность эти суждения приобретают. Поэтому человек должен понять, насколько важно для него упражнять, расширять, совершенствовать способность суждения, внося разнообразие в предметы суждений. Полагаться на чужие, пусть даже авторитетные мнения вовсе не означает судить. Необходимо, чтобы каждый научился выносить суждения самостоятельно и стремился заблаговременно приобрести эту привычку; человек должен быть настолько предусмотрительным, чтобы высказываемые им суждения носили характер условный и предварительный, иными словами,— он {558} всегда должен принимать во внимание имеющуюся у него сумму знаний, касающихся предмета его суждений, так как никогда нельзя быть уверенным в том, что предмет суждения изучен исчерпывающим и всесторонним образом. Напротив, можно даже утверждать, что новые знания о данном предмете могут его показать в другом свете, т. е. могут изменить наше прежнее суждение о нем. Вот почему мы всегда видим вещи такими, какими их представляют наши суждения.
Вместо того чтобы приучать с ранних лет упражнять способность суждения, в нас с детства воспитывают привычку подчиняться авторитетам в целом ряде областей. В результате этой привычки мы в течение всей нашей жизни сохраняем косность мысли, и когда нам нужно вынести какое-либо суждение, нам кажется более легким, более удобным, а иногда даже более благоразумным полагаться на чужие суждения. Почти повсюду суждения авторитетных лиц и общепринятые мнения вытесняют наши собственные суждения, так что эта важная способность, которую человек получил от природы и которая могла бы дать ему столько преимуществ, превращается для него в ничто, или, во всяком случае, достигает лишь очень незначительного развития, или же служит ему только для повседневных мелочей. Происходит это только потому, что огромное большинство цивилизованных людей редко упражняет эту способность или пользуется ею лишь для вещей маловажных. Конечно, такое достойное удивления состояние, в которое человек сам себя вверг, является одной из существенных причин, препятствующих доступным ему великим достижениям на пути цивилизации.
Если подумать теперь о бесконечном разнообразии ступеней человеческого ума, образующих лестницу, о которой была речь выше, ту лестницу, нижние ступени которой всегда заняты огромным большинством цивилизованного населения; если вспомнить о широко распространенной привычке судить обо всем сколько-нибудь важном только исходя из чужих суждений и общепринятых мнений, не осмеливаясь даже исследовать обоснованность последних; если принять также во внимание, что нет ничего труднее, чем встретить человека, {559} который обладал бы привычкой думать, размышлять, глубоко вникать в суть вещей,— человека, который правильно судил бы о своих собственных основных интересах, который понимал бы, чего требует от него его положение в обществе и обязанности по отношению к последнему; наконец, если подумать о том, что все люди имеют одинаковые склонности, хотя каждая из этих склонностей развивается только при благоприятных обстоятельствах, и что все люди руководствуются в своих поступках личными интересами, самолюбием и т. д., короче говоря, стремятся господствовать любыми способами и средствами, то трудно ли будет распознать причины того состояния, в котором мы видим народы цивилизованных стран, трудно ли будет понять причины поступков того или иного индивидуума, в зависимости от его положения в обществе и от тех обстоятельств, в которых он находится? Неужели не хватит средств для определения причин крайнего разнообразия в манере чувствовать, судить,— разнообразия, являющегося неистощимым источником противоречий, раздоров, разрушительных бедствий и всяческого зла, угнетающего человечество? Я этого не думаю. (Извлечение из «Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle». Paris, Deterville.)
О разуме. Кто осмелится предположить, что разум, по поводу которого поднимают столько шума, который рассматривают как особую сущность, считая его исключительным достоянием человека и в то же время отказывая в нем животным, наделенным умом в той или иной степени, кто поверит, повторяю, что этот разум не представляет собой какой-либо отдельной сущности, но является не чем иным, как изменчивым и относительным свойством, присущим всякому существу, наделенному умом! Между тем мы попытаемся это установить, определив то понятие, которое следует связывать со словом разум. Мы полагаем, что это слово служит для обозначения степени правильности суждения индивидуума в различные периоды его жизни. И, так как правильность суждений данного индивидуума возрастает по мере накопления им опыта и увеличения его познаний в течение всей его жизни, проходя, таким образом, через огромное множество различных ступеней, то, следовательно, и разум данного индивидуума {560} претерпевает такие же изменения, как и степень правильности его суждений. Таким образом, разум пятилетнего ребенка гораздо менее совершенен, нежели разум, которым может обладать ребенок десяти лет. В течение жизни человека его разум будет все более и более совершенствоваться, если этот индивидуум будет пользоваться опытом, упражнять свою способность суждения, увеличивать свои познания в зависимости от благоприятствующих тому обстоятельств. Итак, разум не является чем-то неизменным, но представляет собой качество непостоянное, изменчивое и всегда относительное, ибо когда речь идет о разуме какого-либо индивидуума, всегда имеют в виду разум в определенный период жизни последнего.
Что касается индивидуумов, принадлежащих к низшим классам общества, то, поскольку число представлений у них в большинстве случаев крайне ограничено и почти не подвержено изменениям, они редко извлекают пользу из опыта, а их разум в различные периоды жизни почти не меняется. Это не всегда применимо к индивидуумам, составляющим средний класс общества и находящимся в значительно лучших условиях существования. Воспитание могло привить многим из них привычку к вниманию, наблюдению и любовь к знаниям. Именно среди них чаще всего можно встретить людей образованных, весьма просвещенных, людей, чьи суждения отличаются большей правильностью и которые, вследствие этого, наделены сильным и даже выдающимся разумом. Итак, разум — не что иное, как степень правильности суждений индивидуума в определенный период его жизни; следовательно, он не является ни какой-либо реальной сущностью, ни каким-либо особым предметом, но исключительно относительным и изменчивым свойством, присущим всем существам, обладающим способностью суждения, т. е. всем существам, наделенным той или иной степенью ума. Таким образом, разум нельзя считать достоянием только человека, хотя он может достигать наивысшей степени исключительно среди индивидуумов его вида.
| {561} |

О воображении117
Воображением называют одну из самых прекрасных способностей, которые человек может приобрести, а именно — способность изобретать, воображать, т. е., пользуясь приобретенными представлениями, произвольно создавать новые представления, иного порядка, нежели те, которые являются продуктом его обычных суждений и умозаключений.
Вызывая в уме одновременно несколько представлений, мы сравниваем их и получаем новое представление, которому даем название вывода, суждения.
Известно, что ряд выводов обусловливает наши умозаключения и что каждое умозаключение дает общий вывод относительно рассматриваемых предметов. Но здесь речь идет не об этих операциях ума, а о тех, которые состоят в образовании новых представлений при помощи ранее полученных и затем вновь вызванных в уме, т. е. об образовании новых представлений, не являющихся непосредственным результатом уже использованных, иными словами,— таких новых представлений, которые либо раскрывают новые отношения между ними, либо являются результатом их преобразования при помощи воображения.
Следует отличать способность изобретать от той более высокой способности, которая называется воображением, хотя различие это часто трудно бывает уловить и уточнить его границы. {562}
Изобретать — значит находить новые средства для создания или выполнения чего-либо. Способность изобретать, ограничиваясь отысканием новых отношений между рассматриваемыми предметами, может быть направлена на некоторый порядок представлений; индивидуум, обладающий этой способностью, может достичь в ней значительного совершенства, не будучи одарен сильным воображением.
Этой способностью пользуются только применительно к вещам, непосредственно полезным нам, например, в индустриальных ремеслах, в области механических приспособлений и т. п. Чтобы приобрести эту способность, достаточно обладать обширным запасом представлений в той или иной области и выработать в себе путем упражнения привычку легко вызывать эти представления в уме. Однако индивидуум, очень изобретательный в одной какой-либо области, изучению которой он посвятил себя, может не обладать достаточным воображением, чтобы заметно выдвинуться в каком-либо из свободных искусств, например, сочинить поэму, богатую идеями и различными удачно сгруппированными образами, прекрасную музыкальную вещь или хорошо задуманную и выполненную картину. В самом деле, чтобы подобного рода произведения не оказались безжизненными и неспособными заинтересовать, необходимо, кроме исполнительского таланта, обширное и плодовитое воображение, руководимое утонченным вкусом.
Воображение — более редкая способность, чем способность изобретать, так как оно менее ограничено и действительно требует от индивидуума гораздо большего, для того чтобы представлять какую-нибудь ценность. Для него необходимы: неистощимый запас и широта представлений, умение делать выбор, тонкий вкус, сложившийся благодаря усвоению и сопоставлению всего прекрасного, что когда-либо было создано гением, но прежде всего — привычка накоплять приобретенные представления, вызывать их в уме и уменье различным образом сочетать и противополагать их друг другу, даже преобразовывать их и тем самым получать почти беспредельное множество новых представлений. {563}
Воображать — значит создавать образы. Я уже показал, что всякое представление является не чем иным, как образом, который закрепляется, запечатлеваясь в органе [ума]. Сохранение образа в этом органе подтверждает, что это именно так. Известно, что продуктом воображения, так же как и продуктом суждения, всегда является новое представление; следовательно, при этом возникает новый образ, который тотчас же запечатлевается в органе ума. Этот факт был известен человеку с давних времен, ибо слова воображать, воображение в нашем языке не новы.
Итак, воображение — это способность создавать новые представления, приобретаемые органом ума при помощи актов мышления, когда этот орган содержит большой запас представлений и может привычно вызывать их в уме, и когда последний, вместо того чтобы делать из них выводы, произвольно изменяет их для построения из них новых представлений.
Способность эта всегда угодна человеческому уму, она делает мысли и даже иллюзии своего рода убежищем для человека всякий раз, когда неразлучные с жизнью невзгоды мучают и угнетают его; благодаря ей выполняются самые прекрасные произведения искусства, если ее деятельность направляется вкусом и тонким выбором. Воображение ошибочно считали беспредельным, так как не вникали глубоко в сущность этой способности и не знали ни ее природы, ни тех средств, которыми она вынуждена пользоваться и которые ее ограничивают.
Представления, приобретенные путем ощущений, а также те, которые происходят из них,— вот единственный источник актов воображения. Воображение, как я уже указывал, произвольно оперирует ими, образуя из них новые представления, но оно не, может пользоваться для этой цели ничем иным и без этих представлений совершенно бессильно,
«Рассмотрите, в самом деле, все представления, являющиеся плодом воображения человека, и вы увидите, что одни из них — и таких значительное большинство — построены либо по образцу простых представлений, созданных человеком на основе испытанных ощущений, {554} либо по образцу сложных представлений, построенных из простых; напротив, источником для других являются представления, составляющие контраст с теми простыми или сложными представлениями, которые уже были приобретены им ранее.
Человек может образовать верное представление только на основании непосредственного или косвенного знакомства с предметами, существующими в природе и способными воздействовать на его чувства; поэтому его ум должен был бы ограничиться построением этого единственного рода представлений, если бы он не обладал способностью пользоваться ими в качестве образцов или контрастов для построения представлений иного рода.
Именно таким путем, пользуясь представлениями, составляющими контраст или противоположность простым представлениям, полученным благодаря ощущениям или сложным представлениям, человек, придя к понятию о конечном, создал силой своего воображения понятие о бесконечном; составив себе понятие об ограниченной длительности, он создал своим воображением понятие о вечности, или беспредельной длительности; построив понятие о теле или материй, он создал силой своего воображения понятие о духе, или нематериальной сущности, и т. д. и т. п. («Philosophie zoologique», ч. III, стр. 750 и след.).
Во всяком продукте воображения, помимо представлений, построенных по Контрасту с ранее приобретенными представлениями, всегда можно обнаружить представление, послужившее образцом, полученное прямо или косвенно из ощущений.
Пусть Поет ради своих вымыслов создает силой воображения грифонов, крылатых коней; может ли он при этом, для придания вымышленным им сказочным существам особенностей, требуемых фабулой, создать что-либо иное, кроме образа животного, которому он произвольно придает части или черты различных действительно существующих животных? Когда говорят о мучениях, ожидающих грешников после смерти, несомненно исходят при этом из представления о боли и страданиях, известных на основании ощущений! Изучая мифологию разных народов, знакомясь с гениальными вымыслами {565} поэтов, с фантастическими романами, наконец, со сказками и баснями, сочиняемыми для развлечения в часы досуга, со всеми этими произведениями, в которых авторы выходят за пределы реальной действительности и дают полную волю своему воображению, мы убеждаемся, что в основе всех их лежат представления, созданные по образцу представлений, полученных нами исключительно благодаря ощущениям. Сколько еще примеров я мог бы привести из области продуктов воображения человека, если бы хотел показать, что повсюду, где человек пытался создать какие-нибудь новые представления, материалом были представления, полученные им прямо или косвенно из ощущений,— представления, послужившие образцом для всех тех, которые он создал путем воображения!
Мне кажется, что я вижу ребенка среди множества различных игрушек, кукол. Ребенок их ломает на части, чтобы составить из этих обломков новую игрушку сообразно своей фантазии, но, как бы причудливо ни было его творение, оно всегда будет составлено только из тех предметов, которые были в его распоряжении.
Итак, несмотря на то, что представления, полученные путем ощущений, дают уму человека возможность получать из них почти безграничное число новых сочетаний, только эти представления являются единственным материалом для всех актов его воображения. Вот где лежит предел этой прекрасной способности, которой может обладать человек,— способности, которую многие знаменитые люди подняли на необычайную высоту.
Именно своему воображению человек обязан областью вымыслов и иллюзий разного рода, этой областью, изобилующей приятными для него представлениями, в которой его мысль охотно пребывает, и о которой я уже упоминал в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres» (т. I, стр. 254), противопоставляя ее области реального.
В эту область вымыслов — эту обширную страну, где господствует воображение, мысль человека охотно углубляется и любит блуждать в ней, хотя в ней нет ничего, что было бы доступно наблюдению, ничего, что может быть точно установлено, но мысль творит здесь {566} свободно, не зная никаких преград, создавая все то, что может ее интересовать, очаровывать, услаждать. Мысль человека достигает этого, как я уже говорил, сочетая, видоизменяя и даже преобразуя представления, полученные от предметов, относящихся к области реального.
Поистине исключительный факт, над которым, как мне кажется, еще никто не задумывался,— это то, что воображение человека не может создать ни одного представления, которое не имело бы своим источником представления, полученные им при посредстве чувств. Как мы уже указывали выше, воображение человека сочетает, видоизменяет и преобразует представления, пользуясь исключительно теми образцами их, которые оно получает из области реального, образцами, которые оно может изменять различными способами по своему усмотрению, но без которых оно не могло бы создать ни одного представления. (См. «Philosophie zoologique», ч. Ill, стр. 750 и след.).
Мысль человека, строго ограниченная теми пределами, о которых я говорил, является полной властительницей, в области воображения; она находит в ней очарование, которое непрерывно влечет ее, она создает иллюзии, которые ее радуют, услаждают, иногда даже вознаграждают за все то, что ее огорчает или угнетает. Вот почему человек так заботливо культивирует область воображения.
Среди плодов воображения, быть может, один только необходим ему. Это — надежда, и человек на самом деле бережно выращивает ее. Подлинным врагом человека был бы тот, кто лишил бы его этого истинного и часто единственного блага, которое он сохраняет до последних мгновений жизни.
Совершенно иначе все обстоит в области, которую я называю областью реального: природа, вечно одна и та же, ее постоянные законы всех порядков, управляющие всеми движениями, всеми изменениями, наконец ее создания всевозможного рода — все это составляет необозримую область реального. Здесь все реально, все доступно наблюдению, если не. считать предметов, которые, вследствие их отдаленности, положения или состояния, ускользают от наших чувств. {567}
Только здесь человек может обрести доступные ему положительные знания, ибо все то, что существует, но не входит в область реального, абсолютно не доступно его средствам познания. Признав, что природа — не что иное, как безграничный, постоянный, подвластный законам порядок вещей, и что ее законы всегда действенны, несмотря на то что при всяком изменении обстоятельств новые законы заменяют те, которым все было подчинено раньше118, словом, замечая, что повсюду царит нерушимая гармония и что этот прекрасный порядок вещей, в свою очередь, есть нечто сотворенное,— человек приходит к возвышенной мысли о верховном творце всего существующего и, путем изучения природы, лучше, чем каким-либо другим путем, достигает познания беспредельного могущества верховного существа, дающего всему начало.
Несмотря на то, что область реального, как мы это видели, чрезвычайно обширна, несмотря на то, что она является единственной областью, заслуживающей внимания и изучения со стороны человека, ибо только в ней человек может обрести прочные и полезные для себя знания и открыть свободные от иллюзий истины,— человек пренебрегает ею и его мысль неохотно обращается к ней.
Действительно, здесь мысль человека неизбежно зависима и подчинена, здесь она ограничена только наблюдением и изучением фактов и предметов; наконец, здесь она не может ничего создавать, ничего изменять и способна лишь познавать. Мысль человека вступает в эту область потому, что только здесь она может найти все, что полезно для самосохранения, комфорта или удовольствия человека, словом,— для удовлетворения всех физических потребностей. В результате этого область реального обычно разрабатывается гораздо меньше, чем область воображения, и притом лишь незначительным числом людей, которые в большинстве случаев оставляют нетронутыми самые прекрасные ее части. Более подробно область реального рассмотрена в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres» (т. I, стр. 253).
Без сомнения, воображение — одна из самых прекрасных способностей человека, но так как она достигает различной степени в {568} зависимости от состояния умственного развития и знаний индивидуумов, которым удалось ее приобрести, и так как она почти отсутствует у людей с очень ограниченным кругом представлений и у людей с односторонним направлением интересов, прекрасная способность эта приобретает истинную ценность только там, где она в достаточной мере развита. Самых высоких своих степеней воображение достигает чрезвычайно редко, а произведения тех, кто обладает таким воображением, очаровывают всех, кто в состоянии оценить эти произведения и наслаждаться ими.
Однако, хотя воображение, достигшее высших степеней развития, имеет столь большую ценность, последняя все же ограничивается удовольствиями и наслаждениями, которые оно дает человеку, и тем, что оно как бы вознаграждает его за все горести и невзгоды, которые его преследуют в жизни. С этой точки зрения человек, конечно, должен стремиться развивать свое воображение.
Несравненно большее значение имеет для человека изучение природы, и он постоянно должен иметь это в виду. Все здесь для него важно, так как те знания, которые он может почерпнуть путем изучения природы, необходимы ему не только для самосохранения (хотя и это соображение весьма существенно!), но и, кроме того,— для удовлетворения всевозможных его потребностей и особенно для установления норм поведения по отношению к себе подобным. Только путем изучения природы человек может познать самого себя и понять причины всех тех поступков индивидуумов своего вида, которые определяются их положением в обществе, средствами, которыми они располагают, обстоятельствами, в которых они находятся, и т. д. и т. п.
Я смело утверждаю, что знание природы, ее законов, действующих в каждом отдельном случае,— первая, самая полезная и даже самая важная для человека из всех наук. Все остальные науки происходят от нее, являясь лишь ее ветвями, которые пришлось выделить для более удобного изучения каждой из них в отдельности. Разумеется, я не ограничиваю науку о природе искусственными приемами разграничений, о которых уже так много было сказано мною, этой {569} постоянно меняющейся номенклатурой наблюдаемых объектов, хотя для многих эти разграничения и номенклатура, о которых здесь идет речь, именно и составляют все содержание естественной истории.
Не желая отклоняться от своей темы, я закончу этим изложение моих мыслей по данному вопросу. Я полагаю, что мне удалось дать правильное понятие о воображении и показать значение этой прекрасной, хотя и несомненно весьма редкой,— если иметь в виду высшие степени ее развития,— способности человека. Я полагаю также, что мне удалось доказать, что развитие воображения имеет несравненно меньшее значение, чем изучение природы. (Извлечение из «Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle». Paris, Deterville).
Во второй части настоящего труда мы пытались определить, что собой представляет в сущности человек, чем он обязан природе, что он получил от нее, какими склонностями она его наделила и какое огромное влияние эти склонности оказывают на его поступки. Мы рассмотрели также наивысшие степени развития его способностей и те многочисленные возможности и средства, которые он приобрел благодаря этим способностям.
Теперь следовало бы рассмотреть, что человеку удалось сделать с помощью этих средств для своего самосохранения, благополучия и для достижения радостей, наконец, для удовлетворения многообразных потребностей, которые его склонности и страсти беспрестанно порождают в нем. Разумеется, я не стану вдаваться здесь в обсуждение множества деталей, которые неизбежно возникли бы при рассмотрении всех этих вопросов. Замечу только, что у тех народов, которые достигли наиболее высокого уровня цивилизации, постепенно возникли литература, изящные искусства, промышленность и техника, развились науки физические и математические, сложились принципы как внешней, так и внутренней политики, было создано гражданское и уголовное законодательство и целый ряд других установлений, необходимость в которых возникла в связи с достигнутым уровнем цивилизации.
Этим заканчивается все, что я намерен был сообщить, с одной {570} стороны, о природе и о характере тех положительных знаний, которые человек может приобрести, и, с другой стороны, о той, ограниченной известными пределами области, в которой он только и может приобрести эти знания. Читателю, быть может, будет небезынтересно познакомиться с обзором этой области, так как это поможет ему отдать себе отчет в собственных мыслях и привести их в систему.
| {571} |
ДОПОЛНЕНИЯ

| {572} |

Беспозвоночные животные, с которыми мне поручено познакомить вас, несомненно, сами по себе представляют весьма незначительный интерес, и с этой точки зрения можно было бы считать, что каждое из них вряд ли способно привлечь наш взор, вызвать любознательность и внимание. Именно этими животными обычно пренебрегали; они так мало нас интересовали, что из всех созданий природы почти обо всех них до сих пор мы знаем меньше всего. Конечно, объекты, относящиеся к минеральному царству, и многочисленные растения, собранные в различных частях света, лучше изучены, чем большинство беспозвоночных животных, уже представленных в нашем распределении животного царства.
Когда (в 1793 г.) Национальный конвент основал Музей естественной истории2 и постановил, чтобы в нем преподавались все разделы естественных наук, зоология была поделена между двумя только профессорами. Одному из них, графу де Ласепеду, было поручено чтение лекций о животных, которых тогда относили к первым четырем классам, а именно: о млекопитающих, птицах, рептилиях и рыбах; мне же было предложено взять на себя всех остальных, которых в то время называли «животными с белой кровью»3. Речь шла, как говорили, лишь о двух классах животных — насекомых и червях, Я думал тогда как другие и считал, что на мою долю выпал наименее интересный раздел. Мне, действительно, казалось, что гораздо {574} интереснее и полезнее знакомить на лекциях с отличительными признаками, образом жизни и привычками льва, чем дождевого червя. Какой, в самом деле, интерес, говорил я себе, может вызвать созерцание какого-либо клещика, живущего в сыре, либо клещика, питающегося язвами кожи4, голотурии, встречающейся среди отбросов наших морских берегов, личинки, истачивающей наши меха, мебель, продукты и растения то изнутри, то снаружи, наконец,— слизняка либо улитки, пожирающих в наших садах травы, овощи, сочные плоды. Я принял, однако, сделанное мне предложение и, не взирая на то, что в результате этого на мою долю выпало девять десятых животного царства, немедленно приступил к изучению несметного количества животных, в общем столь мало изученных, к своего рода поднятию целины, связанному с их изучением, и в особенности к необходимому упорядочению их.
Сам того не сознавая, я обладал тем преимуществом, которое вполне оценил лишь теперь, а именно, что, не поддавшись широко распространенным предубеждениям относительно происхождения природных тел,— предубеждениям, которым зоологи, по-видимому, подчинили свои принципы, я стал изучать больше природу, чем книги, и смог увидеть то, что было в действительности.
Принимая во внимание, что животные, не относящиеся к моей компетенции, все имеют внутренний скелет, дающий точки опоры главным органам движения, и что этот скелет, более или менее развитый в зависимости от классов и семейств рассматриваемых животных, всегда представлен по крайней мере позвоночным столбом, образующим его основу, я дал первым название позвоночных животных и назвал беспозвоночными животными всех прочих, т. е. тех, которые должны были составить предмет моих лекций и практических занятий. Тем самым содержание работы доверенной мне кафедры было точно определено.
Затем, сосредоточив внимание на том, что уже было известно относительно огромного разнообразия организации, наблюдаемого среди беспозвоночных животных, я вскоре понял, что, так как у этих животных представлены весьма различные планы организации и
| {575} |
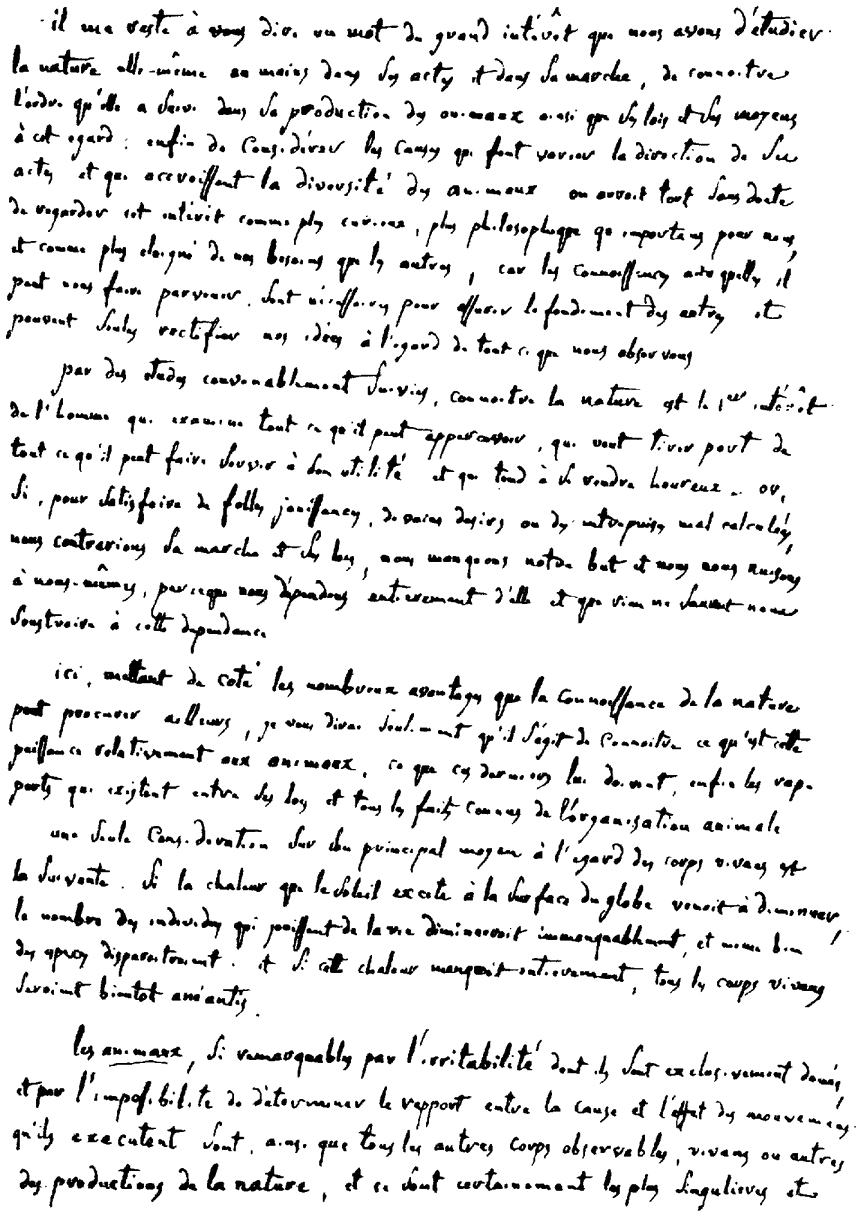 |
Автограф Ламарка. Страница из рукописи «Вступительная лекция к курсу [зоологии]. 1816» |
| {576} |
организация у одних менее оснащена разными органами, чем у других, то должен существовать на самом деле некий различимый порядок в отношении сложности каждого вида организации и что этим порядком необходимо руководствоваться в наших распределениях. Это соображение стало для меня почти неистощимым источником знаний, и вскоре я постиг, что изучение беспозвоночных животных, казавшееся мне вначале несущественным, имело, напротив, во многих отношениях большое значение, и даже такое, которое само по себе могло бы служить основой для самых важных и самых полезных знаний; это изучение раскрывало перед нами, подсказывало нам существование [определенного] порядка.
Среди многочисленных выводов, представляющих огромный интерес и несомненно вытекающих из этого соображения, главными, конечно, являются следующие...5.
Мне остается только сказать, какой огромный интерес представляет для нас изучение самой природы, по крайней мере в ее действиях и поступательном движении вперед, знание порядка, которому она следовала при создании животных, так же как и ее законов и используемых при этом средств, наконец,— рассмотрение причин, заставляющих ее изменять направление своих действий и увеличивающих многообразие животных. Несомненно ошибались, когда рассматривали этот интерес как проявление любознательности и склонности к философствованию, а не как нечто, имеющее для нас важное значение, и считали его, по сравнению с другими интересами, более далеким от наших потребностей. Ведь познания, которых мы можем благодаря ему достигнуть, необходимы для обоснования других знаний и только они одни обеспечивают правильность наших представлений о всем том, что мы наблюдаем.
Познать природу путем надлежащего последовательного изучения — вот первая задача человека, исследующего все, что он может заметить, желающего извлечь выгоду из всего, что он может заставить служить себе на пользу, и стремящегося быть счастливым. И вот, если ради удовлетворения безрассудных наслаждений, суетных желаний и необдуманных поступков мы идем вразрез с {577} поступательным движением природы и ее Законами, то мы не достигнем нашей цели и причиним вред самим себе, потому что мы всецело зависим от природы и ничто не может избавить нас от этой зависимости.
Оставляя в стороне многочисленные преимущества, которые познание природы может предоставить нам в других областях, напомню только, что здесь речь идет о том, чем является это могущественное начало [природа] по отношению к животным, чем эти последние обязаны ей, наконец, каковы отношения, существующие между законами природы и всеми известными фактами, касающимися организации животных.
Единственное предположение относительно главного средства, которым природа пользуется в отношении живых тел, заключается в следующем: если тепло, возбуждаемое солнцем на поверхности земли стало бы уменьшаться, то обязательно уменьшилось бы и число индивидуумов, наделенных жизнью, а многие виды исчезли бы совершенно; если бы это тепло исчезло полностью, то все живые тела вскоре погибли бы.
Животные, столь замечательные тем, что они одни только наделены раздражимостью6, и тем, что невозможно определить отношение между причиной и эффектом выполняемых ими движений, подобно всем прочим телам, как живым, так и неживым, являются созданиями природы, при этом, конечно,— самыми удивительными и самыми чудесными из тех, которым она дала бытие на нашей планете. И вот природа, являющаяся, как я вам указывал, не чем иным, как сотворенным порядком, нерушимым и проникнутым движением, представляет могущественное начало, вечно деятельное, вечно подчиненное7, производящее все, что мы можем заметить, все явления, которые мы можем наблюдать. Все тела обязаны ей своим возникновением, своими изменениями, своим разрушением, воссозданием и т. д. Изложив во «Введении» в мою «Histoire naturelle des animaux sans vertebres» эти важные соображения, возвращаюсь к [рассмотрению] порядка, которому следовала природа при создании животных. То, что я сообщил о природе, позволяет обнаружить две истины, {578} вполне очевидные и проливающие яркий свет на предмет, о котором идет речь.
Первая истина. Если животные являются созданиями природы, то совершенно ясно, что эта последняя, будучи не чем иным, как порядком вещей, которому для выполнения всего нужно какое-то время и который ничего не совершает внезапно, не могла бы создать одновременно их всех. Следовательно, она образовывала их постепенно, и лишь в течение огромного (промежутка] времени наиболее совершенные из них достигли того состояния, в котором мы их видим теперь.
Вторая истина. Если природа произвела различных животных лишь последовательно и в результате использования достаточного времени, то, разумеется, вполне очевидно, что она начала это созидание не с наиболее совершенных из них, не с тех, организация которых отличается наибольшей сложностью и оснащена наибольшим числом разных органов. Следовательно, она вынуждена была начать с животных самых несовершенных, самых простых по организации. И только путем использования самых простых из ранее образованных живых тел она могла постепенно сформировать все более и более сложные (виды] организации и закончить созданием наиболее совершенных животных. Это неоспоримо ив то же время согласуется с данными наблюдения.
Следовательно, природа придерживается определенного порядка при создании животных, который она бессильна изменить, которому она всегда подчиняется, постоянно прибегая к созиданию [живых существ] у основания рядов8, образовывать которые ее вынуждают: обстоятельства. [Она подчиняется] порядку, подвластному законам, устанавливающим границы ее могуществу на каждой ступени производимых ею действий,— порядку, который натуралисту важно изучать, соблюдать и вполне освоить, если он хочет обрести надежное руководство для построения выводов, извлекаемых из наблюдаемых им фактов.
Знание порядка, которому следовала природа, когда создавала животных, ее законов и средств, использованных при этом, а также {579} причин, вызывающих изменения ее действий9, имеет, таким образом, большое значение для зоологических исследований.
Давно уже я указывал на [все] то, что мне удалось обнаружить путем углубленного изучения природы и животных. Я не сетую, когда размышляю о том, что люди, сделавшие наиболее важные открытия, подтвердившиеся и признанные в настоящее время, убедились, даже спустя долгое время после опубликования этих открытий, что их игнорировали. Так всегда бывает при появлении новых истин и слишком часто среди последних встречались такие, которые не могли сломить сопротивления, оказываемого иллюзиями, предубеждениями и интересами самолюбия.
Один ученый, профессор зоологии, опубликованные мемуары которого весьма интересны и ценны для науки, посвятивший себя тщательному сравнительному изучению частей [тела] позвоночных животных, сделал недавно в этой области много важных для науки открытий. Если этот ученый для выяснения причин своеобразных отклонений в форме и положении установленных и определенных им частей не примет во внимание порядок, которому природа следовала при создании позвоночных животных, если он не станет одновременно рассматривать отклонения, претерпеваемые этим порядком, как в классах, так и в семействах животных, под влиянием обитаемой среды, климата, средств и образа жизни, т. е. под влиянием различных привычек этих животных,— отклонения, мешающие существованию простого ряда позвоночных, то какие бы усилия он ни прилагал к истолкованию изменений исследованных частей, его объяснения неизбежно окажутся сложными, мало удовлетворяющими, несмотря на то, что сами его открытия, по всей вероятности, [достаточно] обоснованны10.
Таким образом, для зоолога существует абсолютная необходимость всегда принимать во внимание порядок, соблюдаемый природой при создании объектов, которые он наблюдает и изучает, обращать внимание на обстоятельства, изменяющие этот порядок, а также на законы, которые должны были управлять явлениями, происходящими при данном стечении обстоятельств. {580}
Сказанное мною о зоологе применимо и к ботанику. В самом деле, недостаточно, чтобы последний при изучении отношений между объектами ограничивался образованием родов и определением семейств. Он будет произвольно или предвзято размещать по отношению друг к другу не только семейства, но даже роды, если совершенно не будет руководствоваться знанием порядка, которому неизбежно следовала природа при создании растений, и если не будет придавать никакого значения причинам, обусловившим изменение этого порядка и вызвавшим его разветвление11. Именно этим следует руководствоваться при изучении созданий природы, во всяком случае, если не хотят удовольствоваться простым разграничением природных тел и знанием всегда изменчивой номенклатуры.
Этого простого обзора достаточно, чтобы показать все, что мне подсказали соображения о том, что представляют собой беспозвоночные животные, а так как планы организации этих животных весьма различны по степени сложности и совершенства, то вполне очевидно, что только путем углубленного изучения фактов организации [/aits d'organisation] и одновременного сопоставления всех существующих [видов] организации можно приобрести наиболее ценные для нас знания, если зоологические науки, способные предоставить их нам, вступят на новый путь, требуемый приведенными здесь соображениями.
На нашем ближайшем занятии мы займемся изучением основ, имеющих существенное значение для ознакомления с животными, определением этих живых тел и признаками, присущими им одним. Затем перейдем к их распределению и к расположению, которое необходимо придать последнему для того, чтобы сделать его, по возможности, наиболее отвечающим порядку самой природы.
Беспозвоночные животные, с которыми мне поручено ознакомить вас, дают повод сегодня беседовать о трех весьма важных предметах. Один из них уже давно привлек к себе наше внимание, и [учеными] .было сделано все для того, чтобы извлечь из него преимущества, которые он может предоставить. Иначе обстоит дело в отношении двух других [направлений зоологических исследований]. Их не понимали {581} и даже в настоящее время их недооценивают. Это сопряжено для нас с огромной невыгодой в смысле возможностей извлечь пользу из изучения естественных наук. Убежденный в важности этих вопросов, я считаю своим долгом представить их вашему вниманию. Я буду упорно проводить это с целью принести пользу и, поступая так, смогу выполнить задачу, которую я перед собой поставил...
На протяжении многих лет я стараюсь разъяснять как в лекциях, так и в трудах, что изучение беспозвоночных животных, выходящее за пределы разграничения объектов при помощи искусственных приемов, является единственным источником, из которого можно почерпнуть не только истинные принципы зоологии, но даже основы, могущие дать нам верное представление о жизни, об организации животных в о том, что такое животные вообще. Я показал, кроме того, что изучение беспозвоночных животных, давая нам более правильные представления об организации, нежели изучение других животных, могло бы нам раскрыть, каким образом эта организация постепенно усложняется, как она мало-помалу приводит к образованию новых органов и вследствие этого — новых способностей, наконец,— почему ни одна способность животного никогда не является свойством, присущим какой-либо материи или части тела, ее обнаруживающим, но всегда представляет собой результат выполнения органической функции. Вот почему я утверждал, что изучение беспозвоночных животных, неизменно проводимое в надлежащем направлении, одно только могло бы дать нам положительные знания о механизме любой органической функции, показать, каким образом этот механизм может быть поврежден, выведен из строя и даже разрушен, и тем самым пролить свет на то, что мы можем делать, [а все] это может быть нам весьма полезным для удовлетворения потребностей, связанных я самосохранением.
Теперь я намерен напомнить вам некоторые из этих важных соображений, доказать, что изучение животных действительно имеет {582} для нас большое значение с разных точек зрения, которые необходимо принимать в расчет, и что беспозвоночные животные особенно могут помочь нам познать самую существенную сторону этого изучения и сделать его полезным для нас.
Я уже упоминал выше, что это значение далеко не ограничивается возможностью отличать одних животных от других, определять класс, к которому каждое из них принадлежит, наконец, уметь назвать семейство, род и даже вид каждого животного. Тем не менее именно это содержание вкладывают в изучение животных, в нем не ищут ничего другого, а каждый, кто посвящает себя ему, стремится распознавать повсюду одни лишь [систематические] категории и разграничения.
Между тем в изучении многочисленных существующих животных следует усматривать задачи, гораздо более важные, чем упомянутые мною выше. Но, потому ли, что необходимо было начать с установления [систематических] категорий и признаков различных известных животных, потому ли, что издавна укоренилась привычка заниматься только этими предметами,— в настоящее время стало трудно привлечь внимание зоологов к предметам, наиболее важным в их исследованиях, к тем, которые могут обеспечить нам непосредственно полезные для нас знания. Чтобы достигнуть этого, необходимо было бы установить теперь новое направление в зоологических исследованиях, не отказываясь от изучения [систематических] категорий и разграничений. Необходимо было бы преодолеть старые и почти всеобщие предубеждения, мешающие видеть вещи в их истинном свете. А ведь ясно,— если учесть общеизвестную силу привычек,— какие трудности при этом приходится преодолевать.
Между тем никто не станет отрицать того, что основная цель всякого исследования в целом, чего бы оно ни касалось, должна заключаться в пользе, которую из него можно извлечь. Признав этот принцип, остается выяснить, извлекли ли мы всю ту пользу, которую может предоставить нам изучение животных, после того как мы уже научились классифицировать и безошибочно различать их, т. е. научились составлять необозримый перечень их родов и видов. Я уже {583} показал, что недостаточно выполнить эту первую задачу, но что существуют еще две другие, гораздо более заслуживающие внимания и осуществления, и что в особенности факты, раскрываемые организацией беспозвоночных животных, позволяют нам извлечь знания, могущие пролить свет на эти две другие задачи. Итак я попытаюсь дать исчерпывающее изложение всего, что содержится в этой теме важного и заслуживающего рассмотрения, и показать разные виды полезного применения, ставшие доступными благодаря правильно поставленному изучению животных, в особенности — беспозвоночных животных.
В самом деле, если и впредь будут вестись зоологические исследования, которыми стали заниматься лишь недавно, то рано или поздно убедятся в том, что они имеют троякого рода значение огромной важности, причем все три резко отличаются друг от друга, все три способны доставить нам в высшей степени полезные знания. Эти три направления, которые необходимо принимать во внимание, охватывают:
1) знание частей и форм животных, являющееся основой наших разграничений при помощи искусственных приемов;
2) знание состояния каждой [системы] организации животных, явлений, порождаемых каждой из них, и механизма органических функций, при посредстве которого осуществляются эти явления;
3) наконец,— знание порядка, которому следовала природа, когда она создавала животных, ее законов и средств, использованных при этом, а также причин, вызывающих изменения [ее] действий и увеличивающих многообразие животных12.
Эти три направления, из которых только первое привлекло к себе наше внимание, не являются объектом праздных размышлений, но содержат то, что есть самого существенного для рассмотрения в зоологии.
Для доказательства этого я намерен привести в дальнейшем определение и цель каждого из этих трех направлений наших зоологических исследований, и отметить применение тех знаний, которые можно из них извлечь. {584}
Первое направление зоологических исследований: знать части [тела] и форму животных и при помощи этих знаний заложить основу искусственных приемов разграничения.
Во всех разделах естественной истории, когда хотели узнать, что именно предлагает нашему наблюдению природа, то первое направление, как только оно возникло, побудило и должно было побудить натуралиста, будь то минералог, ботаник или зоолог, собирать объекты, относящиеся к изучаемому им царству, наблюдать, сравнивать их, изучать их структуру и состав,— если ото неорганические тела; исследовать их форму и их части, как внутренние, так и наружные,— если это живые тела. Наконец, сближая сходные тела и отдаляя остальные, располагать их в ряд, разделять их в достаточной мере, короче говоря, классифицировать их тем или иным способом.
В моей «Philosophie zoologique» я дал всем этим приемам название искусственных приемов — при изучении созданий природы, а совокупность этих искусственных приемов я называю здесь системой искусственных приемов разграничения.
При помощи всех этих искусственных приемов мы устанавливаем порядок среди рассматриваемых нами многочисленных, безгранично отличающихся друг от друга объектов и безошибочно различаем либо группы их, либо каждый из них в отдельности; наконец, мы делаем общим достоянием и передаем себе подобным все, что мы узнали, заметили и думали о них.
Искусственными приемами, о которых я говорил, являются наши распределения — общие и частные, классы, отряды, семейства, роды, наконец,— номенклатура как всякого рода групп, так и отдельных объектов. Все это для того, чтобы познавать и различать виды, которые одни только являются произведениями природы13.
Все эти части трудов натуралистов, несомненно, относятся к области изобретенных нами искусственных приемов, приемов полезных, без которых нельзя было бы обойтись. Ничего этого природа не создавала, и, вместо того чтобы обманывать себя, смешивая наши измышления с ее созданиями, мы должны признать, что все эти {585} приемы — лишь средства нашей изобретательности, без которых мы не могли бы обойтись, которые помогают нам закрепить наши знания обо всем этом чудовищно большом количестве бесконечно многообразных природных тел, встречающихся в различных частях нашей планеты.
Я пришел к выводу, что упомянутые искусственные приемы имеют для нас существенное значение, являясь средством, без которого мы не могли бы обойтись; их полезность была осознана и послужила причиной их установления.
Я хотел бы только отметить, что применять эти искусственные приемы следует с осторожностью, подчиняя их хорошо продуманным принципам, так как надо пресечь или ограничить множество произвольных изменений всех установленных групп,— изменений, с которыми мы постоянно встречаемся в трудах натуралистов. Эти изменения все время заставляют перерабатывать номенклатуру и наносят большой ущерб развитию естественных наук, сильно осложняя их изучение. Но ввиду того, что эти недостатки хорошо известны и в будущем могут быть изжиты, я не стану на них останавливаться. Скажу лишь, что в области разработки искусственных приемов были достигнуты большие успехи, потому что все натуралисты занимались почти исключительно ею.
Первое из упомянутых мною направлений народило возникновение разграничений при помощи искусственных приемов и я не стану останавливаться на нем.
Ввиду того что совершенно иначе обстоит дело в отношении двух других направлений [зоологических исследований], перейдем к последовательному их рассмотрению.
Второе направление зоологических исследований: знать состояние каждого [вида] организации животных, явления, порождаемые каждой из них, и механизм органических функций, обусловливающих эти явления14.
Таково второе направление исследований, о которых идет речь. Мы увидим, что оно является самым важным из всех [направлений], охватывающим наибольшее число наших интересов, единственным, {586} которое в состоянии обеспечить знания, действительно полезные для нашего существования.
Второе из упомянутых направлений требует предварительного решения, хотя бы до известного предела, задач, относящихся к первому направлению, т. е. необходимо, чтобы мы уже были обеспечены знанием множества разных животных, чтобы уже были установлены различия их формы и частей, чтобы они уже были классифицированы и подразделены при помощи наших искусственных приемов. Но можем ли мы допустить, чтобы зоолог хотел ограничиться этим первым родом знаний, когда разум подсказывает ему, что он может извлечь самые большие преимущества для сохранения собственного существования, если посвятит себя исследованиям, к которым его побуждает второе из упомянутых мною направлений!
Когда человек рассматривает самого себя со стороны своей физической организации, когда, под этим углом зрения, он видит, что, подобно всем прочим телам, он подвластен законам природы, в особенности тем, которые управляют живыми телами, когда он замечает, что многие [виды] организации животных очень близки по своим главным отличительным особенностям к его собственной организации, что многие другие постепенно удаляются от нее, теряя мало-помалу способности, которыми наделяет его собственная организация, наконец,— что существуют виды организации, весьма сильно отличающиеся от его собственной и стоящие на более низком уровне, нежели она, в отношении всякого рода средств и степени совершенства, может ли он не сознавать, как важно для него изучать все существующие виды организации животных, может ли он не стремиться познать, каковы особые явления, порождаемые каждым из этих видов организации, каковы способности, которыми благодаря им обладают животные, наконец, каковы отношения, существующие между состоянием органов и произведенными ими способностями, иными словами,— что представляют собой в действительности все явления организации!
Третье направление зоологических исследований: познать порядок, которому следовала природа при создании животных, законы и {587} средства, которыми она при этом пользовалась, причины, заставляющие ее изменять действия и увеличивающие многообразие животных. Таков предмет этого третьего направления. Оно, вероятно, может показаться более далеким от наших потребностей, чем два других, более удовлетворяющим нашу любознательность, скорее философским, нежели имеющим важное значение для нас Между тем дело обстоит вовсе не так, потому что знания, которые мы можем приобрести благодаря ему, необходимы для обоснования всех прочих знаний и только они одни могут обеспечить правильность наших представлений.
Познать природу путем надлежащего последовательного изучения — вот первая задача человека, исследующего все, что он может заметить, желающего извлечь выгоду из всего, что он может заставить служить себе на пользу. И вот, оставляя в стороне прочие преимущества, которые это познание может предоставить в других областях, [напомню, что] здесь речь идет лишь о познании того, что представляет собой природа по отношению к животным, чем эти последние обязаны ей. наконец,— каковы отношения, существующие между ее законами и всеми известными фактами, касающимися организации животных.
Животные, подобно всем доступным наблюдению живым или неживым телам, являются подлинными созданиями природы, тогда как сама она представляет непосредственный результат создавшей ее высшей воли. Вот первый реальный факт, который необходимо принять в соображение. Итак, природа, являющаяся ни чем иным, как нерушимым порядком вещей, а не каким-либо разумным существом, представляет, тем не менее, действенное начало, вечно активное, которое создает все, что мы способны замечать, все явления, которые мы способны наблюдать. Тела, каковы бы они ни были, обязаны ей своим возникновением, своими изменениями, своим разрушением, воссозданием и т. д., и так как проявления этого могущества подчиняются постоянным законам, оно действует, как показывает наблюдение, всегда единообразно при одних и тех же обстоятельствах. Изложив во «Введении» в мою «Histoire naturelle des animaux {588} sans vertebres», первые тона которой теперь выходят, содержание этих важных соображений, возвращаюсь к [рассмотрению] порядка, которому следовала природа при создании животных.
Перехожу к ознакомлению с беспозвоночными животными, относительно которых много было указано, что изучение их, выходящее за рамки одного только разграничения при помощи искусственных приемов, является главным источником, из которого можно было бы почерпнуть правильное представление о жизни, об организации животных, о всех явлениях, раскрываемых перед нами различными [видами] организации.
Если не поняли в достаточной мере важности этого изучения, направленного к достижению указанной мною цели, то произошло это, вероятно, с одной стороны, потому, что порядок, которому следовала природа при создании животных, не дошел до сознания зоологов, исследовавших многих из них, с другой стороны — потому, что под влиянием распространенных предубеждений зоологии не верили в постепенное упрощение различных видов организации животных. Однако анатомические факты, наблюдаемые ими самими, а также многообразие планов организации, обнаруживаемое у беспозвоночных животных,— планов, всегда отличающихся один от другого как по степени их сложности, так и по способностям, которые животные благодаря им приобретают, делали это упрощение очевидным15.
Не останавливаясь на том, что можно было бы думать или сказать по этому поводу, осмеливаюсь утверждать, что все приведенные мною соображения делают изучение фактов, относящихся к организации беспозвоночных животных, областью, таящей в себе большие возможности открытий, представляющих огромный интерес для нас
Я указал, как можно разрабатывать эту область исследования и извлечь из нее значительные выгоды, благоприятствующие сохранению нашего существования. Теперь я намерен привести один единственный пример, чтобы показать, что орган, очень простой при своем возникновении, какими все они при этом бывают, ограничивается одной единственной функцией и как затем он постепенно все более и более усложняется, составляя часть более сложных видов {589} организации и превращается в систему органов, выполняющую различного рода функции.
Такова на самом деле нервная система16. Рассматривая ее сначала у тех животных, у которых она, по-видимому, впервые появляется, например, у некоторых лучистых иглокожих и у некоторых червей, [мы видим], что она чрезвычайно проста, представлена лишь несколькими нервными стволами, то изолированными, то заканчивавшимися несколькими ганглиями, и, несомненно, способна только к одному роду функций — возбуждать движение некоторых мышечных волокон. Животные, обладающие нервной системой в этом ее состоянии, имеют лишь очень просто устроенный специальный орган, неспособный выполнять различные функции; у них нет ни следов головного мозга, ни отчетливо выраженных [органов] чувств, а чувствование. требующее наличия механизма, достаточно сложного для того чтобы это явление могло иметь место, вовсе не относится к числу их способностей.
Рассмотрите, далее, нервную систему насекомых: вы найдете, что она сильно развита, стала в самом деле сложной, способной к различного рода функциям, и состоит уже не из специального простого органа, но представлена настоящей системой органов. В ней, действительно, можно различить небольшой, отчетливо выраженный головной мозг и, в связи с этим, — настоящую голову, глаза, которые свидетельствуют о способности чувствовать, и даже зачатки [органов] обоняния и осязания, то в передних стигмах, то в щупальцах и в сяжках. Помимо того, имеется продольный тяж с ганглиями, снабжающий все тело нервами для движения частиц. Таким образом, у насекомых эта система органов слагается не только из частей, выполняющих мышечные движения, но, кроме того, обладает частями, способными порождать чувствование. Следовательно, здесь представлены нервы, служащие для движения Частей, и другие, функция которых ограничивается осуществлением ощущений.
Рассмотрите также нервную систему на ступенях организации, достигших большего совершенства, которые уже обладают циркуляцией, и вы встретитесь там с большей сложностью функций. {590} Нервная система на самом деле представлена здесь: 1) частями, способными вызывать мышечные движения; 2) частями, служащими лишь для осуществления ощущений; 3) частями, используемыми исключительно для оживления внутренних органов (дыхания, пищеварения, секреции, размножения и т. д.), т. е. для поддержания или усиления активности функций различных органов.
Это еще не все: проследите ту же нервную систему у животных, организация которых достигла гораздо большей сложности, рассмотрите ее у самых совершенных видов организации и вы найдете, что функции ее еще более усложнились, ибо, помимо того, что она наделена частями, выполняющими уже упомянутые функции, в ней имеются также и другие части, осуществляющие функции иного порядка, гораздо более выдающиеся и кажущиеся нам непостижимыми, потому что мы никогда не изучали их и не старались понять их механизм, в существование которого даже не верили. В самом деле. в отличие от беспозвоночных животных, имеющих головной мозг, представленный обычно небольшой концевой мозговой массой, назначение которой заключается лишь в том, чтобы содержать очаг, или центр, отношений для осуществления чувствования, здесь этот сильно увеличившийся головной мозг обладает не только упомянутым очагом, но и частями, способными воспринимать, фиксировать и сохранять воздействия, которые мы называем представлениями и которые образуются из замеченных ощущений, запечатлевшихся в органе [ума].
Этот головной мозг обладает особым участком, куда передаются по воле индивидуума либо одиночные представления, которые он хочет сделать ощутимыми для ума, либо одновременно несколько различных представлений, между которыми в нем устанавливаются отношения, дающие [соответствующие] результаты. Мы не могли бы думать и рассуждать, если бы запечатлевшиеся представления находились в органе [ума] без всякого порядка. Поэтому названный орган содержит различные части, способные образовывать своего рода подразделения, в которых наши представления классифицируются, разбиваясь на основные порядки. В результате наблюдений {591} мы действительно можем признать, что представления, приобретаемые нами в продолжение жизни путем наблюдения, упражнения внимания и мысли, запечатлеваются в различных частях органа [ума] и действительно классифицируются в нем. Отсюда следует, что этот орган, функцией которого является выполнение различных умственных актов, сам оказывается как бы подразделенным на такое количество различных частей, сколько имеется разных категорий приобретенных представлений. Понятно, что когда та или иная из этих частей органа под влиянием напряженной работы или по другой причине претерпевает какое-либо повреждение, какое-либо заметное нарушение, то изменяются соответственным образом и функции. В этом случае индивидуум обнаруживает признаки помешательства только в отношении определенных представлений, запечатлевшихся в этой больной части [органа], что же касается представлений иных порядков, то индивидуум в полной мере сохраняет и свой разум и правильность своего суждения. Этот факт, который мне самому довелось наблюдать, общеизвестен. Отсюда — разного рода мании, галлюцинации, своего рода частичный бред, которым подвержено столько людей17.
Быть может, вам трудно следовать за ходом моих рассуждений, потому что они слишком новы и потому что им совершенно не уделялось внимания.
Не менее достоверно и то, что умственные акты, каковы бы они ни были, представляют собой явления органические: 1) потому что мы их наблюдаем и потому что мы можем наблюдать лишь тела, лишь свойства тел, лишь производимые ими явления; 2) потому что, когда орган, который их производит, поврежден или приведен в расстройство, эти явления больше не имеют места или оказываются соответствующим образом измененными; 3) потому что мы наблюдаем эти явления, хотя и гораздо более низкого порядка, у животных, наделенных умом, так как знаем, что у них есть представления, память, так как мы видим, что они могут образовывать суждения на основе сравнений, так как нам известно, наконец, что они способны выполнять различные акты ума.
| {592} |
| {593} |

человеческих знаний, с подразделениями и рассуждениями,
направленными на выявление степени их достоверности
их источника, их главных ветвей19
|
Уважение к истине, к справедливости, к морали. |
Как бы обширны и разнообразны ни были человеческие знания, их, тем не менее, принято было рассматривать в целом, подразделяя сначала на главные ветви, а затем на различные части, подвергая их анализу, для того чтобы обнаружить их источник, их разветвления, их взаимную зависимость.
Однако мне кажется, что выгоднее было бы рассматривать знания, о которых идет речь, с другой точки зрения. Я полагаю, что нам было бы весьма полезно подвергнуть новому исследованию самую природу этих знаний, установить признаки, отличающие знания, на которые всегда можно положиться, от тех, которые, очевидно, являются лишь вероятными, и, следовательно, отграничить везде знания действительно положительные от знаний, происходящих только из наших суждений и являющихся, в сущности, не чем иным, как знаниями, получаемыми на основе разума и мнений, способными видоизменяться в связи с приобретением новых положительных знаний. {594}
Именно из-за того, что слишком часто смешивают одни [из этих знаний] с другими, затемняют [и те и другие], истины ставятся под сомнение, создаются препятствия для их распространения, ибо ничто так не способствует искажению истины, как связывание ее с заблуждением или с тем, что может оказаться необоснованным.
Намечая здесь в общих чертах задачу, которую я имею в виду, и устанавливая ее границы, главным образом путем отграничения положительных знаний человека от знаний, происходящих из его суждений и способных изменяться, я вынужден произвести новый анализ, более пригодный для моей цели. Я, тем не менее, не собираюсь проследить все ответвления этих знаний и привести детальную и полную схему их. Научный набросок такой схемы уже неоднократно составлялся, но каждый раз по-разному и в целях, весьма отличных от моей.
В этом новом аналитическом обзоре я ограничусь рассмотрением главных ветвей знаний, о которых идет речь, и, четко установив природу знаний, образующих каждую из этих ветвей, укажу на недопустимость смешения знаний, достоверность которых ничто не может поколебать, с теми [знаниями], которые по самой своей природе никогда не бывают для нас абсолютно достоверными.
Насколько мне известно, никто еще не пытался осуществить эту задачу, и если мне удастся успешно ее выполнить, полезность ее будет для меня очевидной.
Итак, ставя себе во всем границы для более надежного достижения цели, я нигде и ни в чем не собираюсь вдаваться в детали, но в пределах главных групп этого аналитического обзора позволю себе привести некоторые рассуждения, чтобы охарактеризовать их предмет, природу и иерархию связанных с этим подразделений, не останавливаясь, однако, на них подробнее.
Я надеюсь показать, что исключительно в природе человеческие знания черпали и черпают еще по сей день свои материалы и что только она одна давала человеку представления всех родов. Можно даже заметить, что эти материалы непосредственно охватывают лишь наблюдаемые вещи и предметы и что лишь из представлений, {595} образованных нами об этих вещах или об этих предметах, произошли все те [представления], которые наш ум и наше воображение смогли создать.
Итак, стремиться познать природу, определить, что она собой представляет, что она была в состоянии создать и какими средствами она этого достигла,— вот предмет изучения, представляющий, как мне кажется, первостепенную важность, предмет, достойный наблюдений и размышлений человека, но которому недостаточно уделялось внимания и который мог бы стать более доступным освоению при помощи предлагаемого [здесь] анализа.
Эта тема уже давно меня сильно занимала, и именно результаты моих размышлений в связи с ней я намерен изложить в этом труде.
Границы, которые я поставил своей мысли при составлении этого сочинения, выражены в лозунге, или своего рода эпиграфе, помещенном после заголовка.
Говоря о человеческих знаниях, следует подчеркнуть огромную разницу, существующую между знаниями [получаемыми] на основе установленных фактов [connaissances de faits], так как эти знания всегда положительны, и знаниями, называемыми мною знаниями [получаемыми] при помощи разума [connaissances de raison], так как последние являются лишь выводами из рассуждений, хотя рассуждения, послужившие для их возникновения, сами опираются на факты.
Первые являются единственными, на которые действительно можно положиться; вторые никогда не могут сравниться с ними по достоверности, хотя некоторые и, возможно, даже многие из них могут быть вполне обоснованными.
Мне кажется поэтому, что человеческие знания следует подразделить прежде всего на две главные ветви соответственно их источнику и степени достоверности для нас, ибо знания первого рода постоянны, как сама природа, доставившая их нам, в то время как знания второго рода подвержены изменению, подобно нашим суждениям,; от которых они происходят. Затем каждая из двух ветвей должна быть последовательно подразделена на столько первичных {596} групп, сколько она включает в себя различных [категорий] предметов.
Исходя из этой точки зрения, я нахожу, что надлежит установить следующие первичные подразделения знаний.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Знания [получаемые] на основе фактов
Первая часть. Знание реальных предметов, непосредственное существование которых не имеет иного источника, кроме воли верховного творца всех вещей.
— Знание существования вселенной, природы, материи.
— Знание тел вообще, пространства, движения и времени, или протяженности.
Вторая часть. Знание отдельных тел, существующих в природе и благодаря ей.
— Знание тел, существующих вне нашей планеты и не являющихся ее существенной принадлежностью.
— Знание нашей планеты и неорганических тел, являющихся ее составной частью.
— Знание живых тел, являющихся составной частью нашей планеты.
Третья часть. Знание свойств природных неорганических тел, производимых ими явлений, законов, которым они подчиняются, одни — в своих движениях, другие — в претерпеваемых ими изменениях.
Четвертая часть. Знание различных явлений, обнаруживаемых живыми природными телами, способностей, которыми они обладают, и законов, которым они подчиняются, одни — в своих изменениях, другие — в своих действиях.
Пятая часть. Знание количественных отношений, т. е. числа и протяженности тел, которые могут быть рассматриваемы абстрактно. {597}
Шестая часть. Знание предметов, существующих благодаря всякого рода искусствам.
Седьмая часть. Знание возможного использования некоторых тел или некоторых предметов и [знание] приемов, или методов их применения, для того чтобы сделать эти тела, или эти предметы, приятными, удобными, полезными для нас.
Знания [получаемые] на основе разума
Первая часть. Знание выводов, принципов и теорий, установленных путем рассуждения и направленных на выявление в каждом предмете или в каждой совокупности предметов всего истинного, полезного и любопытного, что в них, по-видимому, содержится.
Вторая часть. Знание принципов, установленных на основе внутреннего чувства и разума и направленных к руководству поступками человека в его взаимоотношениях с себе подобными, в целях наибольшей выгоды для индивидуумов и для общества.
Третья часть. Знание человеческих воззрений на предметы, не поддающиеся обнаружению посредством чувств, и до [познания] которых человек возвысился при помощи мысли и воображения.
Знания [получаемые] на основе фактов
Первая часть. Знание наблюдаемых предметов, происхождение которых неизвестно, и т. д.
Вторая часть. Знание наблюдаемых предметов, существующих в природе и благодаря ей; знание тел вообще, их движения — перемещения с одного места на другое; наконец, знание тел, находящихся вне нашей планеты.
Третья часть. Знание земного шара, газообразной атмосферы, окружающей его, состояния его поверхности и наружной коры.
Четвертая часть. Знание неорганических тел и веществ, наблюдаемых на нашей планете, их особых свойств, их взаимодействии {598} и законов, которым они подчиняются, одни — в своих движениях, другие — в претерпеваемых ими изменениях.
Пятая часть. Знание живых тел, которые природа произвела на нашей планете, способностей, которыми они обладают, и законов, которым они подчиняются, одни — в своих изменениях, другие — в своих действиях.
Это подразделение человеческих знаний охватывает, как мне кажется, все их [виды] вообще, определяет их главные группы, благоприятствует цели, которую я имею в виду, и служит для выявления степени обоснованности, присущей каждому из них, и вызываемого ими интереса.
Можно было бы расположить человеческие знания в более увлекательном, быть может, в более естественном порядке, но, по моему мнению, едва ли можно было бы представить их более ясным и поучительным способом.
Знания [получаемые] на основе фактов
Факты относятся к природе. Лишь она одна доставляет их нам, либо непосредственно — своими произведениями, движениями и изменениями своих частей и разного рода законами, либо косвенно, именно, такими, которые возникают из ее произведений. Нет ни одного факта, который мы бы знали или были бы в состоянии узнать вне природы.
Природа, несомненно, представляет нашим наблюдениям большое количество фактов, и следует познать их, направив внимание на те, которые она непосредственно подчиняет нашим чувствам, и обдумать результат наших опытов. Однако много других фактов ускользает от нашего познания, потому что мы в состоянии познать их только при помощи чувств, а наше положение и ограниченность наших способностей делают это знание невозможным.
Итак, человеческие знания, безусловно, крайне ограничены, потому что они находят материалы [свое содержание] только в природе {599} и потому что число фактов, представляемых природой, вероятно, незначительно по сравнению с огромным количеством фактов, которые из-за отдаленности самих объектов и их положения недоступны нашим средствам [познания].
Несмотря на эти ограничения, которые пришлось признать, количество фактов, установленных человеком путем наблюдений и экспериментов, так велико, что его память уже не в состоянии справиться с ними, он не в силах охватить всей их совокупности своей мыслью и может пользоваться ими в своих суждениях, лишь прибегая к анализу и изобретенному им методу соподчинения.
Ввиду того что факты относятся к природе и что человек отдает себе отчет в них лишь путем познания,— те из них, которые он в достаточной мере установил, являются положительными и неизменными знаниями, всегда заслуживающими его доверия, каковы бы ни были его дальнейшие открытия. Что поистине прочно в человеческих знаниях, это — знание фактов, точно установленных путем наблюдения или эксперимента.
Так как знания [получаемые] на основе фактов крайне разнообразны, я опишу их в общих чертах, последовательно и методически, в ниже приведенных семи частях.
Среди предметов, о которых мы имеем положительные знания, есть такие, непосредственное происхождение которых нам хорошо известно; есть другие, относительно происхождения которых мы имеем основание высказывать предположения, несмотря на то что не имеем возможности наблюдать их возникновение или образование; наконец, есть такие [предметы], происхождение или источник существования {600} которых абсолютно непостижим, потому что этот источник лежит вне природы и потому что мы знаем лишь то, что к ней относится. В первой части будет идти речь исключительно об этих последних предметах, и, как бы велика ни была важность этих вопросов, здесь я лишь бегло коснусь того, что их касается, ибо разум требует останавливаться там, где у нас иссякают средства.
Так как в этом труде речь идет только о знаниях человека, то знание вещей сводится для него безусловно к знанию [тех] предметов, которые он может познать с достоверностью, но отнюдь не охватывает всего, что вообще может существовать. А несомненно, существует много вещей, познать которые непосредственно и точно он не имеет никакой возможности.
Например, предметы, которые из-за их отдаленности, положения или состояния находятся за пределами наблюдений [человека], не могут относиться к числу вещей, познанных им.
Так, мы знаем о существовании Сатурна, Юпитера и т. д., но не можем знать частей, из которых эти тела состоят, мы находим большое сходство между Солнцем и звездами, но вынуждены пребывать в неведении относительно природы и состояния веществ, их образующих, иными словами,— не можем знать, встречаются ли в сфере действия каждой звезды обращающиеся вокруг нее планеты, каковы эти планеты и из каких частей состоит их масса. Мы даже не знаем, какие вещества, какие тела образуют внутреннюю часть обитаемой нами планеты, ибо можем наблюдать лишь те из них, которые находятся на ее поверхности и в небольшой части коры, или ее наружной толщи.
Таким образом, может существовать много предметов, много тел, познать которые у нас нет возможности.
Несомненно, так же обстоит дело с продуктами разума [etres de raison], т. е. с теми, которые человек сумел создать при помощи воображения, путем противопоставления известных [ему] образцов или при помощи предположений на основе рассуждений. Какими бы правдоподобными они ни казались, даже какой бы реальностью ни обладали — человеку никогда не удастся получить о них положительных знаний.
| {601} |
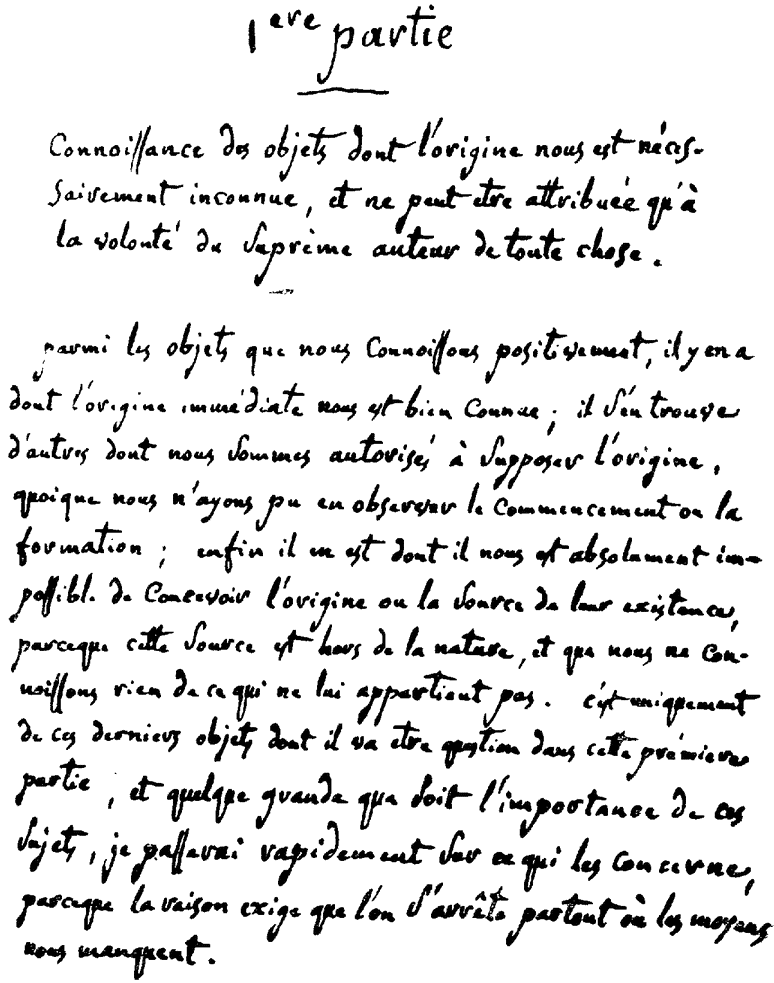 |
Автограф Ламарка. Страница из рукописи «Аналитический обзор» |
| {602} |
Это — истина, давно замеченная, тем не менее всегда оспариваемая, но которая теперь не вызывает никаких сомнений, именно, что человек может иметь достоверное и положительное знание лишь о вещах, которые могли и могут воздействовать на его чувства, следовательно, реально он может знать тела, а также относящиеся к ним частности и некоторые общие свойства, обнаруживаемые при их видоизменениях. Так как природа показывает ему только тела, и только тела открывают ему факты, то мог ли бы он получить тем или иным способом за ее пределами какие-нибудь положительные знания?!
Я указал только, что человек не может даже надеяться на то, чтобы познать все тела, существующие во вселенной. Казалось бы, что он мог бы охватить, если можно так выразиться, их все, любого размера, любой плотности, в любом положении, на любом расстоянии от него, но предельные значения этих величин и несовершенство его чувств выключают из сферы его наблюдений бесконечное число тел, несомненно, сильно отличающихся друг от друга.
Итак, это истина, обоснованность которой не вызывает у человека сомнений; он уверен в том, что видит лишь очень небольшой уголок вселенной и что лишь весьма несовершенно может знать ее части. Вот повод к тому, чтобы он был умереннее и скромнее в своих умозаключениях об этих столь возвышенных вещах. До чего дерзки или, скорее, безрассудны люди, претендующие дать объяснение вселенной, [ее] теорию, показать ее происхождение, цель и назначение!
Ввиду того, что мы можем с уверенностью познать лишь предметы, открывающиеся нашим чувствам, рассмотрим здесь представления, которые мы себе составили об их совокупности, и будем различать среди этих предметов те, непосредственное бытие которых не может иметь иного источника, кроме воли верховного творца всех вещей.
| {603} |
Первая часть
Знание предметов, происхождение которых нам, безусловно,
не известно и может быть приписано только воле
верховного творца всех вещей
Глава I. Знание существования вселенной и природы.
Глава II. Знание существования материи, ее частиц и их свойств.
Глава III. Знание пространства, движения и времени, или длительности.
Глава IV. Знание законов всех порядков, которым подчиняется природа в своих действиях.
Вселенная существует. Это факт, в котором мы убеждены; точно так же существует и природа, если только эти два предмета можно отличить один от другого. Но, прежде чем выяснить, насколько обосновано их разграничение, посмотрим, как нам удалось получить положительные знания о рассматриваемых здесь предметах, т. е. о совокупности вещей, составляющих тот и другой [предмет].
До своего рождения человек не может различить свое «я», иметь представление о нем и, следовательно, обладать чувством собственного существования, ибо всякое представление возникает из познания отношений, является результатом сравнения, и ребенок в чреве матери, не осознавая самого себя, не будучи в состоянии ничего сравнивать и не имея в этом никакой потребности, не может образовать ни одного представления.
Но с первого момента появления на свет человек всецело оказывается во власти множества различных ощущений, получаемых им при посредстве чувств от предметов находящихся вне его и вокруг него. Тогда он начинает ощущать свои потребности, они определяют направление его внимания и он начинает мало-помалу различать многие из окружающих предметов. Он научается вскоре отличать {604} свое «я» от всего, что не является им самим; с течением времени он приобретает знания с большом или меньшем количестве предметов, находящихся за пределами его «я», и тогда его мысль позволяет ему осознавать, что эти же предметы образуют совокупность вещей, в существовании которых он так же уверен, как в существовании самого себя.
Именно этой совокупности разных вещей, или предметов, человек, наблюдающий ее повсюду и на любом расстоянии от себя и размышляющий о ней, дал название вселенной. Впрочем иногда, говоря о ней, он пользуется другим выражением и тогда называет ее природой. Но содержание, вкладываемое им в это второе обозначение, когда он им пользуется, безмолвно охватывает соображения, отнюдь не выражаемые первым [обозначением]; вот то, что следует уяснить себе.
Без сомнения, вселенная и природа по существу представляют одно и то же, ибо и то и другое обозначение, взятое в самом общем смысле, выражает совокупность всего того, что существует. Тем не менее, слова вселенная и природа не всегда действительно являются синонимами в том смысле, который мы им даем. Очень часто мы связываем с каждым из них особые представления, и нам во многих случаях приходится делать это, чтобы выразить свою мысль.
Пользуясь первым из этих слов (вселенная), мы собираемся говорить лишь о самих вещах, т. е. о существующих материальных предметах или телах, тогда как при помощи второго слова (природа) мы хотим одновременно выразить как [представление] о всех этих вещах, так и, кроме того, движение, законы, порядок и гармонию, постоянно царящие среди них, а также вечно активное и производящее действенное начало, являющееся их результатом20. Рассмотрим эти два выражения.
Знание вселенной. Путем наблюдения человек убедился, что вселенная существует, ибо он знает многие из ее частей и сознает, что должно существовать еще много других, находящихся за пределами его наблюдения. Поэтому знание, которое он составил себе о вселенной, является одним из наиболее возвышенных знаний, достигнутых {605} им посредством мысли. Человек знает о вселенной только то, что она существует, и его положительные знания о ней ограничиваются лишь знанием тех ее частей, которые он замечает и может наблюдать. Он не может скрыть от себя, что его «я» представляет собой реальную, хотя, конечно, весьма малую часть вселенной и, несомненно, он может иметь о ней лишь весьма ограниченное представление.
Наблюдение, однако, научило его, что части вселенной беспредельно многообразны и отличаются одна от другой во всех отношениях, что все они существуют в пространстве ограниченно или безгранично. Но существует ли абсолютная пустота между границами главных из ее частей,— это ему неизвестно и об этом он может строить лишь предположения.
Не зная и не имея возможности познать ни происхождения, ни протяженности, ни устройства, ни назначения этой вселенной, благоразумный человек рассматривает ее существование как продукт воли верховного творца всех вещей и ограничивается такого рода ее определением:
Вселенная есть совокупность существующих тел и веществ [substances].
Хотя все то, что человек может с полным правом сказать о вселенной, сводится к весьма немногому, все же положительные знания, которые он мог приобрести об этой совокупности предметов, делают ему честь, так как, вероятно, он является единственным существом на земле, сумевшим осмыслить эту совокупность предметов и подняться мыслью [до ее понимания]. Еще больше чести будет для него, если он сумеет удержаться [на этой высоте].
Знание природы. Это — самое высокое из положительных знаний человека, то [знание], для приобретения которого потребовались наибольшие усилия и наибольшее внимание с его стороны, наконец,— то знание, которое может быть уделом лишь немногих.
Природа — это общий порядок существующих вещей и в то же время — могущественное начало, вечно действующее, неисчерпаемое как в своей активности, так и в своих средствах, обладающее {606} способностями, ибо оно производит непрерывно, не будучи в состоянии ничего сотворить21.
Вселенную, напротив, рассматривают как совокупность существ [l'ensemble des etres], и поэтому понятно, что ее можно резко ограничить от природы.
Если, как это уже было сказано, слово вселенная означает совокупность существ [etres qui existent], т. е. множества тел и частей, образующих ее, то понятно, что в этом обозначении имеются в виду именно эти тела и эти части, каковы бы они ни были, и что речь идет о более или менее длительном существовании этих предметов, т. е. обо всем, что они образуют.
Но имеется и нечто иное, достоверно известное, помимо предметов, образующих части вселенной.
Движение, время, или длительность, пространство, даже законы, вносящие незыблемый порядок в движения и изменения, претерпеваемые телами, отнюдь не являются существами и все же это вещи существующие и известные. Итак, эти вещи являются существенными частями природы и ее средствами, ее могуществом и наделяют ее известными нам способностями.
В самом деле, наблюдение нас учит тому, что среди частей вселенной, которые нам удалось заметить, движение, присущее в большей или меньшей степени всякому природному телу, распространено повсюду и постоянно поддерживается или возобновляется; что источник его неистощим, а само оно бесконечно изменчиво, смотря по тому, в каких частях оно производится; что ему подчинены все части вселенной, хотя и различным образом, как большие, так и малые, и что в результате этого они подвергаются изменениям, то быстрым, то медленным и относительным, наконец,— непрерывно и последовательно меняют место, размеры, массу, форму, состояние, природу и т. д. и т. п.
Именно благодаря достоверным наблюдениям нам стало известно движение, распространенное в частях вселенной, мы убедились в его существовании и увидели, что его источник неистощим. Но наши средства слишком ограничены для того, чтобы заметить непрерывно производимые им повсюду изменения. В самом деле, крайняя медленность {607} этих изменений не позволяет человеку, Жизнь которого ничтожно коротка, их улавливать и отмечать. Он может недопонимать, даже отрицать их, если этого требуют его взгляды.
Убежденный в единстве плана общего порядка всего существующего и законов, управляющих всеми изменениями, всеми движениями, происходящими в этой огромной совокупности вещей, я полагаю, что ни одна из частей вселенной не отличается абсолютным постоянством, в то время как сама она, т. е. совокупность, которая ее образует, неизменно обладает наиболее совершенными целостностью и постоянством. Все ее части, хотя они и подвергаются беспрестанно изменениям, столь же разнообразным, как они сами, встречаются всегда в этой совокупности, потому что возобновления, происходящие в других частях, возмещают части, подвергшиеся изменениям. В действительности во вселенной ничто не уничтожается, и только она одна совершенно не изменяется, но остается всегда такой же22.
Движение, которое, по-видимому, оживляет везде эту совокупность вещей, можно в некоторой степени сравнить с особого рода жизнью. Это, однако, лишь видимость, ибо этому роду жизни совсем не присущи известные нам способности, характерные для жизни живых тел, и он не ведет обязательно к разрушению всей совокупности частей, обладающей жизнью.
Наблюдение, давшее нам возможность познать движение, распространенное в частях вселенной, не ограничилось этим единственным проблеском. Оно убедило нас также в том, что всякого рода движения и изменения, имеющие место в частях вселенной, управляются неизменными законами различных порядков.
Из этого нового факта следует, что в этой совокупности вещей всегда царят нерушимые порядок и гармония, что все без исключения наблюдаемые факты являются результатом упомянутого выше движения и законов, управляющих им в каждой части, соответственно ее природе и ее состоянию; что слово случай выражает только [наше] незнание причин, наконец, что то, что кажется нам нарушениями, нереально для природы и является не чем иным, как фактами, касающимися отдельных объектов, интересы самосохранения которых безусловно {608} несовместимы с общим порядком и с законами, управляющими всеми движениями, всеми видоизменениями, всеми действиями23.
Теперь поняли, что природа является на самом деле могущественным началом, потому что она совершает действия, производит, разрушает, изменяет, образует и преобразовывает, наконец, беспрестанно соединяет и разлагает всевозможные тела, представляющие части вселенной.
Природа, разумное ли это начало [intelligence], т. е. особое существо, обладающее индивидуальностью [etre particulier individuel]? Несомненно, нет. Она сама — не что иное, как порядок вещей, но этот порядок вещей образует могущественное начало, потому что у него есть способности и потому что оно их неукоснительно упражняет. Жизнь, имеющаяся у некоторых тел, напоминает в какой-то степени природу — тем, что она вовсе не является существом [etre], но порядком вещей, тоже обладающим способностями, и в силу необходимости упражняющим их до тех пор, пока этот порядок сохраняется.
Думали, однако, что природа — это сам бог, и — странная вещь: не отличали произведение от его творца. Этот взгляд непоследователен и не продуман глубоко, так как высшая сила, сотворившая природу, несомненно, беспредельна и не подвластна никаким законам. Она способна изменять эту природу и даже уничтожить ее.
Если бы природа была разумным началом [intelligence], она могла бы желать, она могла бы изменять законы, или, вернее, вовсе не имела бы законов. Но дело обстоит не так: в своих деяниях природа подчиняется постоянным законам, над которыми она не имеет никакой власти, так что, несмотря на то что ее средства беспредельно разнообразны и неисчерпаемы, она действует всегда одинаково.
Было бы истинным заблуждением приписывать природе в ее действиях цель и намерение. Она не может обладать ими, потому что не является разумным началом, особым существом. То, что она совершает, она делает в силу необходимости. И если результаты ее действий часто кажутся плодом заранее поставленных и обдуманных целей, то лишь потому, что разнообразие обстоятельств, представляемое со всех сторон существующими предметами,— разнообразие, управляемое {609} постоянными законами, приводит к результатам, гармонирующим с законами, которым подчиняются все виды изменений.
Полагали, что именно у живых тел можно заметить цель в действиях природы. Между тем здесь, как и везде, эта цель только кажущаяся, а не реальная. В самом деле, на каждой отдельной [ступени] организации этих тел, порядок вещей, давно уже подготовленный причинами, постепенно устанавливавшими его, приводит, путем последовательного развития, к тому, что нам кажется целью, по что в действительности является лишь необходимостью24.
Человеку наблюдающему и мыслящему картина природы, несомненно, представляется очень внушительной, способной взволновать, поразить воображение и возвысить дух до [познания] высоких идей. Все то, что он видит, проникнуто движением, то действительным, то сдерживаемым находящимися в равновесии силами, и представляется ему как бы проникнутым жизнью. Он замечает повсюду различного рода взаимодействия между телами, движения, перемещения, всевозможные превращения и изменения, разрушение и образование новых тел, подобных прежним и в свою очередь разделяющих, то более, то менее быстро, участь прочих; он видит также непрерывное воспроизведение, подчиняющееся влиянию обстоятельств, обусловливающих изменение его результатов, иными словами,— он видит следующие друг за другом быстро сменяющиеся поколения, как бы погружающиеся в бездну времен.
Природа, всегда деятельная, всегда бесстрастная, как о ней говорят, возобновляя все, не предохраняя ничего от разрушения, раскрывает перед нашим взором величественное, неизменное и необъятное зрелище; она совершает свои деяния лишь в силу необходимости и может осуществлять лишь те действия, которые она представляет нашему наблюдению.
Я полагал, что должен раскрыть содержание, которое надлежит вкладывать в слова вселенная и природа, т. е. в эти два различных выражения, столь часто употребляемых в трудах физиков и натуралистов, и мне кажется, что я достаточно ясно охарактеризовал эти выражения, сказав, что вселенная — это совокупность существ [etres]; {610} а природа — могущественное начало, подчиняющееся законам, наделенное по самой своей сущности способностями и действующее непрерывно.
Итак, нашими положительными знаниями первостепенного значения являются: 1) знание существования вселенной; 2) знание порядка вещей во вселенной, образующего могущественное, всегда активное начало, которое мы называем природой.
Ничто в наших представлениях о существовании этих высоких предметов не является простым предположением, ничто не является плодом нашего воображения. Мы столь же непоколебимо убеждены в верности своих представлений обо всем этом, как и в том, что мы сами существуем.
Здесь был бы положен предел нашим знаниям, если бы мы не обладали способностью при помощи наблюдения познавать до некоторой степени многие из тел, являющихся частью вселенной, изучать их, следить за их движением, их изменениями и понимать многие из частных законов природы, управляющих этими движениями, этими изменениями, какого бы рода они ни были.
Первопричины и законы поистине первостепенного порядка, несомненно, лежат за пределами наших наблюдений.
Если бы мир стал доступен исследованиям, созерцанию и мысли человека, то, по-видимому,— для того, чтобы он научился осознавать собственное бессилие и ограниченность своих средств25.
Тем не менее человек сумел подняться до высокой мысли, делающей ему честь, и, бесспорно, утвердившей его превосходство.
В самом деле, человек осознал, что природа вовсе не является разумным началом, что она вовсе не индивидуальное и свободное существо [etre individuel et libre], но только неизменный порядок вещей. Он понял, что этот порядок вещей не мог обусловить своего существования, что безгранично могущественная и свободная причина сделала его таким, каким оп есть, что она одна могла изменить его и уничтожить, наконец, что она же является действительной причиной всего существующего, хотя лишь косвенно служит причиной изменяющихся частей этого огромного целого26. {611}
Эта высокая мысль человека, не будучи знанием факта, является, тем не менее, общепризнанной истиной. К ней мы еще вернемся в надлежащем месте настоящего труда.
Указав два вида положительных знаний первостепенного значения, которые человек сумел приобрести, а именно: знание о существовании вселенной и знание могущественного действенного начала [activite puissante], управляющего частями вселенной и названного нами природой,— перечислим теперь знания, также положительные, имеющиеся у нас о некоторых предметах, существование которых совершенно не зависит от природы и которые не имеют иного происхождения, как только — всемогущую волю творца.
Мы уверены в том, что материя существует, ибо знаем, что, по существу, вое тела из нее образованы и что они являются лишь результатом объединения [reunion] ее частиц. Тем не менее, несмотря на подлинную реальность ее существования, мы познаем ее до некоторой степени метафизически27.
В самом деле, мы знаем тела, по крайней мере — многие из них, но мы совершенно не знаем материи, которая их образует путем скопления частиц, так как эти частицы чрезвычайно малы и так как ограниченность чувств лишает нас возможности различать их.
Мы достоверно знаем, что все тела, которые нам известны или которые мы можем наблюдать, вообще являются массами делимыми, следовательно, составленными из частей. Мы уверены, таким образом, что материя, какова бы она ни была, сама делима на части и что эти ее части до крайности малы, поскольку мы не в состоянии их увидеть, различить. Частицы материи, о которых идет речь, известные нам только умозрительно, но в существовании которых мы уверены, это — атомы древних философов, которыми они столь злоупотребляли, {612} чтобы объяснить при помощи воображения все то, чего о возникновении тел и даже самой вселенной они не могли знать и что не в состоянии были объяснить.
Современная философия, напротив, требует, чтобы мы никогда не переступали пределов реального, а останавливались там, где наши Средства иссякают.
Итак, в отношении частиц материи, или атомов, все сводится к знанию того, что они существуют, что из них образованы тела и что мы не можем непосредственно познавать их.
Эти частицы материи являются истинными элементами тел, поскольку из них вообще состоят все тела. Поэтому я буду называть их элементарными частицами.
К этим фактическим истинам можно добавить еще, что если массы, образующие тела, вообще делимы, то частицы материи, или атомы, не должны иметь частей и, следовательно, должны быть неделимыми, потому что, если бы это было иначе, то именно их части имелись бы в виду при обозначении элементарных частиц.
Тельца, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе наших жилищ и становящиеся видимыми, когда их осветит луч света,— не что иное, как пылинки, как действительно делимые тела, но они отнюдь не являются частицами, о которых речь идет здесь и которые мы не можем увидеть.
Существует ли несколько видов материи? Вот вопрос, на который мы не в состоянии ответить, потому что не можем ни наблюдать, ни исследовать ни одной из существующих элементарных частиц материи. Мы можем только думать, что если огромное разнообразие тел вызвано не существованием различных видов материи, то оно должно быть вызвано разнообразием формы ее частиц. Мне кажется, что на самом деле в природе существуют различные виды элементарной материи.
Неотъемлемыми свойствами частиц материи, о которых идет речь, во всяком случае, являются протяженность, как бы мала она ни была, и форма. Сюда же следует добавить вес, как общее свойство даже самых мелких частей тел. {613}
Природа не принимала и не могла принимать никакого участия в существовании материи, ибо она не может ничего сотворить, а частицы материи, не являющиеся скоплением [других] частиц, для того чтобы они могли существовать, должны быть сотворены. Могущество природы, умеющей использовать упомянутые частицы, заключается в образовании различного рода масс, называемых телами, в их непрерывном изменении и превращении, но сама она не может ни сотворить, ни уничтожить никакой части материи. Могущественное начало, сотворившее природу,-— единственная сила, которой следует приписывать существование материи, единственная сила, которая может ее уничтожить.
Если добавить, что число существующих частиц материи бесконечно, хотя в действительности оно должно быть конечным, то мне, несомненно, удалось перечислить все то, что нам достоверно известно о материи28.
Здесь идет речь не о каком-то материальном существе [etre materiel], не об особых свойствах какого-либо тела, но о некоторых общих свойствах того порядка вещей, который составляет природу и познать который нам позволило наблюдение над телами в их изменениях.
Эти предметы, вполне реальное существование которых имеет такие же пределы, как и существование природы, и которые, тем не менее, не являются материальными существами,— это пространство, движение и длительность. Они являются неотъемлемой принадлежностью природы, составляют часть той совокупности вещей, которая образует ее могущество и ее средства. Наконец, они обязаны своим существованием той же причине, которая дала бытие ей самой.
Знание пространства. Мы получили верное понятие о пространстве, рассматривая его, как место, занимаемое телами, то действительное, то возможное. {614}
Наблюдение над телами, позволяя нам определять место, занимаемое ими, и показывая, что они могут занимать и другие места, дало нам знание пространства.
Заметив, в самом деле, что все тела конечны, что они обладают формой и измеримой протяженностью, мы признали, что место, занимаемое телом, ограничено со всех сторон наружным контуром этого тела, что оно передает его форму и обладает такой же конечной и измеримой протяженностью. Тем самым мы получили возможность разделять пространство на разные части.
Если, как мы это увидим, протяженность является одним из общих свойств тел, то знание, приобретенное об этих телах, показало, что это свойство не является их исключительной принадлежностью, но что оно также присуще и пространству. Но протяженность тела безусловно ограничена, тогда как протяженность пространства для нас безгранична и не имеет конечных частей, за исключением места, занимаемого телами, промежутков, которые их разделяют, наконец — его конечных частей, получающихся в результате измерений тел и мест, которые эти тела могут последовательно занимать при перемещении.
В отличие от тел, пространство неподвижно и повсюду проницаемо. Оно отнюдь не является существом [etre], но, тем не менее, оно существует. Это — одно из средств природы, без которого она не может ничего совершать. И действительно, она не выполняет ничего без [участия] движения, но без пространства невозможно никакое движение.
Знание движения. Так же как и пространство, движение не является материальным существом [etre substantiel]. Это — не что иное, как видоизменение перемещающегося тела29.
Если бы человек не получил знаний ни об одном теле, он никогда не смог бы создать себе представление о движении, никогда не смог бы познать пространство.
Но, научившись отличать тела вне себя и даже собственное «я», наблюдая, например, перемещение небесных тел, во всяком случае — по отношению к [самому] себе, наконец, заметив перемещение тела с одного места на другое, то когда оно падает, то когда оно получает {615} импульс или толчок и т. д., человек осмыслил это своеобразное видоизменение непостоянного положения тел, которому он дал название движения.
Движение не является чем-то, присущим самой природе тела: всякое тело, обладающее движением, приобрело его тем или иным способом; оно сохраняет его, если никакая причина не лишает его движения. Оно расходует и утрачивает его, когда сообщает его [другому телу].
Тем не менее движение, понимаемое в широком смысле, существует в природе постоянно и источник его неисчерпаем. Оно является одним из самых главных ее средств и даже самым необходимым средством ее могущества. Если бы движение прекратилось, природа сразу перестала бы существовать, она приостановила бы все свои действия, она перестала бы быть самой собой. Таким образом, движение имеет своим источником ту же причину, которой обязана своим существованием природа.
Итак, если рассматривать движение в широком смысле слова, то оно представляет установленный и реальный факт, потому что без него не могут осуществляться действия природы и потому что она непрерывно выполняет его у нас на глазах. При рассмотрении явлений, обнаруживаемых нами в телах, мы еще вернемся к движению и определим различные виды его.
Знание длительности. Длительность, или время,— это предельная или беспредельная непрерывность либо движения, либо последовательного существования вещей.
Только познав движение, мы смогли составить себе представление о длительности, и лишь движение служит нам ее мерилом.
В самом деле, всякое тело, находящееся в движении, чтобы попасть с одного места на другое, перемещается лишь последовательно, так как, не имея возможности занимать несколько мест одновременно, оно вынуждено заполнять их одно за другим, иными словами, оно вынуждено последовательно занимать все промежуточные точки.
Именно знанию этой последовательности перемещений тел мы {616} обязаны знанием длительности. Если наблюдение показывает, что рассматриваемое движение вызывается одной и той же силой, мы убеждаемся в том, что оно равномерно; таким образом, для всякого перемещающегося тела, проходящего последовательно все точки линии,— если его движение равномерно, — нам очень легко измерить длительность отрезками линии, пройденными телом.
Именно так мы пришли к измерению и делению времени и создали представление о конечной и относительной длительности.
Путем последовательных измерений конечной длительности при перемещениях тел мы получили представление о скорости.
Наконец, ввиду того, что мы не в состоянии определить границы непрерывного перемещения некоторых тел, мы создали представление о безграничной длительности.
Время, или длительность, является одной из существенных составных частей порядка вещей, образующего природу. Это одно из главных средств природы, которым она пользуется при выполнении своих действий. В самом деле, она ничего не может осуществить без помощи времени. Без него она не могла бы даже произвести молнию. Она пребывала бы в небытии, если бы была лишена времени.
Могло ли бы существовать движение без длительности? Могло ли бы оно происходить без пространства? Время, движение и пространство являются существенными частями природы, составляющими ее могущество, ее средства и имеющими такое же происхождение, как она. Верховному творцу всех вещей надлежит приписывать непосредственное бытие этих великих предметов30.
Мы видели (глава 1), что природа вовсе не существо, но установленный порядок вещей, что над самой собой она не имеет никакой власти, что она не может ничего желать, наконец, что она не способна действовать по собственному произволу. {617}
Она действительно подчиняется законам различных порядков, постоянным и неизменным, как она сама, законам, которые она создала не сама, в отношении которых она бессильна и которые всегда управляют ее действиями.
Каковы бы ни были все эти действия, они предначертаны законами, о которых идет речь, таким образом, что при одинаковых условиях природа не может изменить ни одного из них и при одних и тех, же обстоятельствах действует всегда одинаково, как машина.
Существование законов, управляющих природой во всех ее действиях, не подлежит сомнению, ибо раскрываемые ею перед нами факты настолько отвечают определенному порядку, что изменяются, как мы это видим, лишь при изменении обстоятельств, вызывающих соответствующие отклонения в тех [изменениях], которые могут быть произведены. Таким образом, даже изменения ее действий в свою очередь подвластны законам, которым она подчиняется во всем31.
Мы очень далеки от познания всех законов, которыми природа вынуждена руководствоваться во всех своих действиях,— законов, являющихся частью совокупности вещей, ее составляющих. Мы недостаточно изучили ее самое в раскрываемых ею перед нами фактах, особенно в том постоянном порядке, в котором она должна их производить.
Между тем многие из этих законов сделались доступными нашему познанию и это именно они свидетельствуют о присущем им постоянстве, таком же, как и постоянство природы.
Так, нам уже достоверно известны законы движения, составляющие содержание механики.
Законы всемирного тяготения, или взаимодействия тел, удаленных друг от друга, также установлены и признаны; то же можно сказать о многих законах молекулярного притяжения, составляющего часть причины химического сродства.
Также известны нам многие из законов, касающихся явлений света.
То же относится к законам, управляющим явлениями, происходящими в живых телах, и т. д. и т. д. {618}
Мы обладаем, таким образом, уверенностью, что все действия природы, все факты и явления, раскрываемые ею перед нами, что даже действия тех живых тел, которые их производят, являются неизменным результатом ее могущества, а также тех постоянных, хотя и различных законов, которые везде ими управляют.
Неоспоримо и следует даже отнести к числу очевидных истин то — что могущественное начало, создавшее природу, является, вместе с тем, началом, предписавшим ей все законы, которым она вынуждена подчиняться в своих действиях, одним словом,— началом, установившем образующий ее порядок вещей. Иначе пришлось бы предположить, что природа вечна, что она не имеет творца32.
Предметы, которые мы собираемся теперь рассматривать, относятся к иному порядку. Природа сделала их такими, какие они есть, потому что она могла и даже была вынуждена это сделать. Но если [все] они непосредственно обязаны ей своим существованием, своими изменениями, пределами бытия и воспроизведением, то эти же предметы, в разных их состояниях, в неменьшей мере являются реальными результатами воли верховного творца всего существующего, ибо Природа — не что иное, как путь, которым он пожелал следовать, чтобы сотворить все эти проявления бытия, все эти изменения.
Глава I. Знание тел вообще.
Глава II. Знание тел, существующих на нашей планете.
Глава III. Знание общей газообразной оболочки, окружающей нашу планету.
Глава IV. Знание тонких видов материи, невидимых, неспособных служить содержимым, находящихся на нашей планете, проникающих внутрь ее, распространяющихся и движущихся в ее частях или между ними. {619}
Глава V. Знание живых организованных тел, наблюдаемых на поверхности нашей планеты и в жидких водах.
Глава VI. Знание земного шара, состояния его поверхности и наружной коры.
Глава VII. Знание неорганических тел земного шара соответственно их особым различиям.
Предметы, которые мы теперь будем рассматривать, относятся к иному порядку, нежели те, о которых была речь. В этом легко убедиться.
В самом деле, среди предметов, в существовании которых мы уверены, несомненно имеются такие, происхождение которых мы не в состоянии установить, ибо очевидно, что природа не участвовала и не могла участвовать в их происхождении. Это именно те предметы, которые были рассмотрены в первой части настоящего труда.
Иначе обстоит дело с предметами, которые я намерен рассмотреть в этой второй части, потому что мы были свидетелями того, что одни из них были созданы самой природой; что же касается других, то, хотя у них и не удалось наблюдать такого способа возникновения из-за того, что медленность их изменений не допускает подобного наблюдения, у нас нет никакого повода отказывать природе в способности изменять, разрушать, возобновлять эти тела.
Если, действительно, природа не принимала ни малейшего участия ни в своем собственном возникновении, ни в возникновении средств, которыми она располагает для своих действий, если то же можно сказать о движении, на котором зиждется ее активность, о времени и пространстве, также являющимися ее средствами, наконец, о законах, управляющих всеми ее деяниями, то не приходится сомневаться в том, что все отдельные тела, как большие, так и малые, которые мы способны замечать, действительно являются ее созданиями.
Убедившись в том, что все тела, полную длительность существования которых мы могли проследить, обязаны природе своим образованием, {620} изменениями, разрушением и возобновлением, мы должны думать, что и другие наблюдаемые нами тела, кажущиеся всегда одними и теми же, являются ее созданиями, как и первые, и подчиняются, подобно им, воздействиям ее постоянной активности. Мы сознаем, что она наделена такой властью, и этого достаточно.
Таким образом, среди всех предметов, которые мы замечаем в природе, как, например, тела всякого рода, размера, природы, массы и формы, наконец, сложные вещества, те тела, о которых человеку удалось получить достоверные знания,— составляют, несомненно, гораздо меньшее число по сравнению с теми, которые существуют вообще, и все же их число почти необъятно!
Между тем из этих многочисленных предметов, ставших доступными его познанию, относительно одних он знает только то, что они существуют, а также некоторые их качества, благодаря которым он мог их обнаружить; о других он знает больше, не изучив, быть может, во всех отношениях ни одного из них.
Эта последняя мысль, хотя и высказанная здесь с сомнением, обладает для меня, а может быть и для многих других, полнотой истины и надолго сохранит ее, хотя в ней нет ничего лестного для тщеславия человека.
Когда я говорю, что все предметы, о которых здесь идет речь, встречаются в природе и существуют в ней благодаря ей самой, [я утверждаю это] потому, что с помощью способностей, полученных его от верховного могущественного существа, давшего ей бытие, она заставляет их быть в каждый данный момент тем, чем они являются в действительности; но сама природа, поскольку она представляет собой лишь путь, который угодно было использовать верховному творцу всех вещей для того, чтобы каждая из них была тем, чем она является в каждый определенный момент, сама она — лишь причина каждой вещи, но не ее первопричина.
Для того чтобы внести порядок в наши представления, определим сначала, чем являются для нас тела, которые мы замечаем, и будем различать тела, существующие вне нашей планеты, и тела, составляющие ее неотъемлемую часть.
| {621} |
Все, чему нас могло научить наблюдение над телами, которые мы можем изучить, это что они представляют собой более или менее плотные скопления частиц материи, различным образом объединенных, расположенных и координированных в зависимости от особой природы каждого из них.
Мы уверены, что тела вообще образованы материей, потому что они сами материальны, конечны и могут воздействовать на наши чувства, и мы вынуждены признать, что они возникли в результате скопления материальных частиц, ибо для нас они всегда делимы.
Тела представляют собой не только объединения элементарных материальных частиц, но являются в то же время объединением составных молекул, большая часть которых, а может быть и все, отнюдь не являются элементарными, но образуются из соединения элементарных частиц.
В самом деле, составная молекула какого-либо вида тела — это молекула, определяющая природу этого тела, так как объединения этих молекул, образующие массу каждого из этих тел, могут иметь большую или меньшую величину, что совершенно не отражается на их природе. Но поскольку составные молекулы, о которых идет речь, почти всегда сами являются сложными, они оказываются делимыми при разложении, что резко отличает их от материальных элементарных частиц, которые никогда не бывают делимыми.
Хотя составные молекулы тел и состоят из соединенных элементарных частиц, для нас они не более видимы, чем элементарные частицы любого вида тел, потому что их размеры все же чрезвычайно ничтожны. Мы можем видеть лишь массы, которые эти молекулы образуют при объединении, но не их самих.
Когда я вижу известковую массу и раздробляю ее механически, я нахожу всегда в образовавшихся кусках такие же известковые массы, но более мелкие. Мне становится ясным, что каждая из таких масс происходит благодаря объединению скопившихся известковых {622} составных молекул. Однако я знаю, что эти известковые составные молекулы сами состоят, по мнению химиков, из извести и соединенного с ней газа и что, следовательно, при разложении они делимы.
Таким образом, всякое тело, какого бы вида оно ни было, представляет собой объединение элементарных материальных частиц и, помимо того, оно почти всегда или, быть может, даже всегда является результатом объединения сложных составных молекул, природа которых определяет природу этого тела.
Эти соединения, получившиеся путем объединения, размещения, сцепления, скопления или связей своих частей, образуют тела, наблюдаемые нами в виде различных масс, то однородных, то разнородных, то твердых, то жидких, то газообразных или парообразных. Но ограниченность чувств никогда не позволяет нам различать ни элементарных материальных частиц, ни состоящих из них составных молекул.
Все тела конечны и обнаруживают себя формой и цветом. Эти качества, как бы разнообразны они ни были, являются первыми, которые мы у них замечаем, и именно они позволяют нам отличать [тела] от пространства, не имеющего ни формы, ни цвета.
Наблюдая тела, мы узнаем, что образуемые ими массы составляют сумму их материальных частей. Рассматривая отношение этой суммы материальных частей тела к его объему, мы получим представление о плотности тела.
Природа, благодаря своей неизменной активности и своим могущественным средствам, непрестанно изменяет, превращает, разрушает и возобновляет тела всякого рода, вида и величины. Если она не обладает такого рода могуществом по отношению к элементарным материальным частицам, которыми она пользуется, все же можно быть уверенным в том, что она обладает такой же властью по отношению к составным молекулам и к телам, образуемым этими молекулами при их объединении. Итак, тела, каковы бы они ни были, большие или малые и т. д., вообще являются непосредственными созданиями природы.
| {623} |
Наблюдение, давшее нам возможность познать тела, показало, что, помимо свойств, присущих только определенным телам и позволяющих отличать одни тела от других, эти тела обладают многими свойствами, общими всем им. На основании этого их и назвали общими свойствами. О них именно я и скажу в настоящей главе несколько слов, для того чтобы показать, что здесь снова речь идет о реальных, следовательно — о достоверных фактах.
Знание свойств, о которых говорится, не играет никакой роли при различении тел друг от друга, но оно необходимо для получения наиболее полного представления, которое мы можем составить о телах вообще.
Общих свойств у тел пять, а именно: протяженность, непроницаемость, подвижность, инерция, делимость.
Протяженность. Это первое из общих свойств тел, предусматривающее необходимость границ и размеров. В самом деле, всякое тело конечно, обладает формой, имеет размеры, которые принято определять трояко — длиной, шириной и глубиной. Иногда, впрочем, два размера сливаются и их нельзя отличить друг от друга.
Хотя протяженность — свойство, общее всем телам, она не является исключительной принадлежностью только их, поскольку она присуща также пространству; у всякого тела протяженность безусловно конечна.
Протяженность тела поддается сравнительному измерению, ее границы во всех направлениях определяют форму тела, а путем наблюдения размеров познается объем тела.
Непроницаемость. Пространство всегда и везде проницаемо, потому что оно доставляет [телам] место, которое они занимают или могут занимать, но сами тела непроницаемы, потому что всякое тело безусловно исключает наличие другого тела в занимаемом им месте. Известно также, что, как бы ни были сближены два тела, они никогда не занимают меньшего пространства, чем каждое из них в отдельности. {624}
Все доступные нашему исследованию тела обладают пористостью, обусловленной тем, что все они представляют собой не что иное, как соединения материальных частиц, не соприкасающихся непосредственно во всех точках друг с другом, а также тем, что тела, образующие твердые массы, возникли путем сцепления или соединения составных молекул, к которым также относится все то, что было сказано выше. Таким образом, пористость, о которой идет речь, и способ увеличения объема тела, позволяющий различным веществам проникать, смешиваться или объединяться в единую массу, отнюдь не исключают установленной непроницаемости тел. В той смеси, или в том объединении, которые они образуют, каждое из тел занимает место или часть пространства, которое оно должно заполнить, и ни одно из них действительно не проникает в другое.
Подвижность. Поскольку всякое тело перемещаемо, оно обязательно подвижно. Оно способно получать и сообщать движение. Приобретенное нами знание о том, что всякое тело перемещаемо, т. е. может изменять местонахождение, позволило прийти к познанию движения. Затем наблюдение за временем, обязательно затрачиваемым всяким телом на перемещение, дало нам представление об относительной длительности, а путем сравнительного измерения относительной длительности при наблюдаемых перемещениях тел мы получили представление о скорости. Наконец, ввиду того, что нельзя установить предела длительности перемещения некоторых тел, мы создали представление о безграничной длительности.
Таким образом, именно знание тел привело нас к знанию пространства, движения, скорости и времени.
Сравнивая тела и пространство, мы признали, что пространство проницаемо и неподвижно и что тела, напротив, подвижны и непроницаемы.
Инерция. Это — сопротивление, оказываемое массой самого тела изменению состояния, в котором оно находится. Если, например, это тело находится в покое, оно может утратить это состояние только под действием причины, лежащей вне его, достаточно мощной, чтобы преодолеть упомянутое выше сопротивление и сообщить (этому телу {625} движение. Если, наоборот, это же тело было приведено в движение, то для того, чтобы ускорить, замедлить или даже совершенно лишить его полученного движения, необходимо, чтобы вступила в действие вне его лежащая сила.
Известно, что всякое движение, сообщенное массе, всегда происходит по прямой линии и что оно имеет равномерную скорость до тех пор, пока посторонняя причина не изменит ее. Известно также, что всякое находящееся в движении тело, преодолевшее посредством толчка сопротивление другого тела, пребывающего в покое, само теряет количество движения, равное тому, которое оно сообщает. Таким образом, сопротивление изменению состояния тела, по-видимому, само является силой, потому что оно отнимает у всякого тела часть сообщаемого им движения.
Делимость. Ввиду того, что тела представляют собой соединения материальных частиц, что эти соединения сами образуют составные молекулы каждого вида и что единственные тела, которые мы можем наблюдать,— это массы, образующиеся в результате объединения составных молекул одного или нескольких видов,— тела действительно делимы, так как все они состоят из частей.
Поскольку несовершенство наших чувств никогда не позволяет нам различать ни материальные или элементарные частицы тел, ни даже составные молекулы [различных] видов [тол], мы могли приобрести лишь одно положительное знание относительно этих двух родов частей тел.
Мы действительно знаем, что составная молекула любого вида делима, поскольку она является соединением объединенных или связанных материальных частиц, но мы также знаем, что ни одна составная молекула не может быть разделена без утраты своей природы, т. е. что она делима лишь при распаде. Это факт, установленный экспериментальным путем.
Что касается материальных или элементарных частиц, образующих составные молекулы, мы вынуждены оставаться в неведении относительно того, что они собой представляют. Мы можем только думать, что они, не будучи составлены из частей, неделимы, и можем {626} даже добавить, что эти частицы совершенно не обязаны своим существованием природе, что они неразрушимы и что лишь сотворившее их могущественное начало является единственной силой, которая может их изменить и уничтожить; мне кажется, что эти мысли по крайней мере правдоподобны.
Пять общих свойств тел, рассмотренных мною, представляют собой достоверные и, несомненно, хорошо известные факты, но их значение вынуждает нас коснуться этого вопроса здесь.
Прежде чем говорить о газообразной оболочке, образующей земную атмосферу, уместно заметить, что планета, на которой мы обитаем, представляет собой лишь чрезвычайно незначительную часть вселенной, поэтому наиболее многочисленные и разнообразные тела, которые смогла создать природа, без сомнения, должны находиться вне этой планеты.
Мы, однако, видели, что в отношении предметов, не являющихся неотъемлемой частью земного шара, все сводится для нас к тому, чтобы:
1) знать о существовании бесчисленного множества звезд, рассеянных на неодинаковых расстояниях и о которых, к тому же, мы ничего не можем узнать;
2) иметь некоторые особые познания о Солнце и планетах, входящих в его систему [действия];
3) знать, что свет, как испускаемый, так и распространяющийся путем колебаний, существует между этими различными телами и делает их видимыми для нас. {627}
Но познания, которые человеку удалось приобрести о предметах, относящихся к обитаемой им планете, несравненно обширнее и охватывают гораздо больше отношений, гораздо больше предметов, чем его познания, касающиеся небесных тел.
В самом деле, здесь ему не приходится ограничиваться свидетельством своих глаз, и чаще всего, в исследовании, которому он подвергает эти предметы, он осязает, непосредственно измеряет и подразделяет их; он изучает их состояние, форму, строение, организацию, состав, отношения и т. д., наконец, он собирает об этих предметах множество сведений, которые руководят его суждениями и мыслями и большей частью бывают очень полезными для разных его потребностей.
Чтобы охватить эту совокупность столь различных предметов, относящихся исключительно к земному шару, я счел уместным начать с изложения имеющихся у нас познаний об общей газообразной оболочке земного шара, ибо она является в некотором роде промежуточной [средой] между небом и Землей и представляется нам принадлежащей скорее небу, чем Земле.
Перечислим природу этих, опирающихся на факты знаний и укажем те из них, которые мы еще можем приобрести в этой области.
Знания, относящиеся к земной атмосфере
Почти все планеты окружены газообразной атмосферой. Хорошо известна атмосфера Марса, Венеры и др. Земля, в свою очередь, являющаяся планетой, также имеет атмосферу.
Известно, что земная атмосфера представляет собой состоящую из флюидов оболочку, почти невидимую для нас, если ее прозрачность ничем но нарушена, окружающую со всех сторон обитаемую нами планету. Она состоит главным образом из атмосферного воздуха, из газообразных веществ, поднимающихся с поверхности земли, и из некоторых тонких флюидов, распространяющихся в ее массе и движущихся или циркулирующих в ней с разными изменениями.
Эта состоящая из флюидов газообразная оболочка нашей планеты* на основании данных преломления проходящего сквозь нее света, исчисляется примерно в 6 или 7 мириаметров (15—18 лье) толщины, {628} считая от поверхности земли или от уровня морских вод до ее верхней границы35. Нельзя, однако, утверждать, что приведенные данные не выходят за эти границы.
Все, что достоверно известно и может быть известно относительно атмосферы, должно распадаться на два рода знаний, из которых:
первые охватывают знания, касающиеся самой атмосферы и образующих ее и содержащихся в ней веществ, а также знание явлений, наблюдаемых при ее изменениях;
вторые имеют своим содержанием знание общих и частных причин изменений, претерпеваемых атмосферой в разное время и в различных ее областях.
Много неудобств возникает для нас, если смешивать, как это бывает, эти два рода знаний, предмет которых весьма различен.
Знание атмосферы, веществ, которые ее образуют и содержатся в ней, а также явлений, происходящих при ее изменениях. Здесь наши положительные знания сильно подвинулись вперед в связи с тем, что их объекты специально изучались.
Так, например, многочисленные, ставшие уже известными факты об атмосферном воздухе — этой главной составной части атмосферы, о его природе, составе, особых свойств и явлениях, производимых им при движении его массы, при изменениях его температуры, при поглощении и образовании им воды, наконец, при [процессах] разложения и соединения, происходящих в его внутренних частях,— стали содержанием той части физики, которую следует назвать физикой атмосферы.
Сжимаемость атмосферного воздуха, по причине которой нижние слои атмосферы оказываются все более и более плотными, чем верхние, вес которых они выдерживают, эта сжимаемость, вызывающая колебания при всяком движении, происшедшем в какой-либо части его массы, наконец, наличие инородных веществ, проникающих во внутренние части атмосферы, движущихся в них или остающихся там во взвешенном состоянии, одним словом,— всякого рода метеоры, столь часто наблюдаемые в атмосфере, все это хорошо известные явления, также составляющие содержание физики атмосферы. {629}
Знание общих и частных причин, вызывающих изменения, претерпеваемые атмосферой в разное время и в различных ее областях. Здесь уже собрано много достоверных фактов, но много других еще предстоит узнать, потому что, в отличие от вопросов, о которых была речь в предыдущем параграфе, этими вопросами совершенно не занимались.
Приведем несколько известных нам, точно установленных фактов из этой области:
1. Состояние, в котором находится атмосфера, перед восходом или заходом солнца, претерпевает некоторое, однако всегда заметное, изменение, так что ее состояние в середине дня и в середине ночи совершенно не похоже ни на то, которое бывает утром, ни на то, которое наблюдается вечером.
2. Солнце, пересекая экватор и переходя в другое полушарие, постоянно оказывает на атмосферу влияние, характеризующееся наблюдаемыми при этом явлениями. Это влияние обычно тем более заметно, чем дальше отстоят от экватора области атмосферы, в которых оно проявляется. В результате этого состояние атмосферы при приближении Солнца к тропикам всегда отличается от того, которое бывает, когда Солнце находится вблизи линии равноденствия.
3. Всякий раз, когда господствующий ветер изменяет направление и даже когда увеличивается или уменьшается его скорость, состояние атмосферы претерпевает заметное изменение. При этом значительно изменяются ее температура, степень влажности и вес, и можно видеть, что ее прозрачность либо уменьшается, либо восстанавливается.
4. [Установлено, что] положение соседних морей и обширного континента оказывает непрерывное влияние на образование воздушного течения, появляющегося то с одной, то с другой части поверхности земного шара.
Также в Европе, особенно вблизи гор, когда ветер устанавливается в восточной полуокружности и изменяется там, не выходя из нее в продолжение многих дней подряд, он вызывает в атмосфере состояние, сильно отличающееся от того, которое всегда наблюдается при {630} переходе в западную полуокружность, когда он изменяется там, не выходя из ее пределов.
5. Луна непрерывно и многообразно воздействует на атмосферу, особенно в нашем климате. Ее действие на атмосферу особенно усиливается во время нахождения в крайних точках, называемых лунными точками [points lunaires], четырех, очень различных систем их влияния. Это — система фаз, система апсид, система узлов, система склонений.
В связи с непрерывным их перемещением в результате неодинаковости периодических обращений и изменяющегося взаимодействия устанавливается для каждого рассматриваемого времени основное расположение лунных точек, делающее их особое воздействие то более, то менее интенсивным.
Чтобы признать этот факт воздействия Луны на атмосферу, воздействия, изменяющегося и имеющего крайние точки и точно установленного моими наблюдениями, достаточно подвергнуть его длительным и сравнительным наблюдениям.
6. Определенно известно, что причины, воздействующие на атмосферу и обусловливающие изменение ее состояния, не всегда пропорциональны производимому ими эффекту, результаты всегда зависят от состояния вещей, существующего в атмосфере в период их действия.
7. Плотность нижних слоев атмосферы гораздо больше, чем плотность верхних, как вследствие давления, которое эти нижние слои должны выдерживать, так и потому, что они всегда содержат пары во взвешенном состоянии в своих глубинах [sein]. Это является причиной того, что действие Солнца и Луны достигает эффективности исключительно в нижних частях атмосферы. Поэтому вполне достоверный факт: воздушные и водяные метеоры, т. е. ветры, тучи, дожди и т. п., образуются в развиваются только в этой нижней части атмосферы.
8. Из-за большой сжимаемости воздуха всякое движение, сообщенное какой-либо части атмосферы, всегда сопровождается противоположными или почти противоположными движениями, создающими {631} последовательный ряд колебаний [oscillations], больших или малых, в зависимости от величины массы, перемещенной во время первого движения. Те колебания, которые возникают в результате воздушного течения, вызывают сильные атмосферные отклонения [balancements], воздействующие как на состояние атмосферы, так и на барометр; длительность наименьшего из Этих отклонений составляет по крайней мере двенадцать часов, тогда как наибольшее продолжается около сорока часов.
В результате этих значительных колебаний, происходящих очень часто в определенные периоды и реже — в другие, наблюдается смена хорошей или посредственной и неприятной, иногда даже очень плохой погоды, что дает повод смешивать их отрицательные проявления с влиянием наступления лунных точек.
Эти восемь достоверных фактов, на которые можно положиться, составляют главное содержание очень важной, хотя лишь совсем недавно созданной науки, которой дали название метеорологии.
Метеорология, столь сильно отличающаяся от физики атмосферы, стремится путем последовательного и сравнительного изучения изменений атмосферы познать первопричины главных из этих изменений, установить порядок действия этих причин, различить среди множества разных причин низших порядков, затемняющих результаты действия первопричины, те, которые представляют наибольшую важность и легко определимы; наконец, путем наблюдения выяснить обстоятельства, при которых эти особые причины преимущественно проявляют свое действие.
С помощью такого изучения этих непрерывно и надлежащим образом проводимых исследований, в особенности с помощью сравнительных наблюдений, производимых в различных точках поверхности земного шара, человек может приобрести массу знаний, имеющих для него огромное значение, ибо при их посредстве он сумеет осуществлять акты предвиденья, т. е. принимать меры предосторожности в определенные периоды против пагубного действия некоторых атмосферных явлений, столь часто наносящих ущерб различным его интересам и даже угрожающим его жизни. {632}
Задачи метеорологии были бы совершенно бесполезными, несолидными, необоснованными, если бы было верно, что может существовать какая-либо часть природы, в которой возможны нарушения [порядка], которая в своих движениях, изменениях состояния, в каких-либо своих превращениях не подчинялась бы постоянным законам, если бы было верно, что то, что называется случаем, могло быть реальностью.
Лишь тот, кто не знает природы, кто никогда не наблюдал и не следил за ее действиями и кто не замечает ни порядка, ни законов, от которых она нигде не в состоянии отступить, способен так думать, иными словами,— так может думать лишь тот, кто сумел убедить себя в том, что в основных изменениях атмосферы нет постоянного и поддающегося определению порядка.
Без сомнения, изучение метеорологии представляет большие трудности, требует много терпения, неослабевающей настойчивости в исследованиях, продуманного выбора средств и обещает лишь поздние плоды. Но ценность этих плодов, наслаждение ими вполне искупают огромные трудности, сопряженные с их выращиванием. И разве не были приложены в других областях природы невероятные усилия для того, чтобы извлечь из них гораздо менее полезные знания!36
Вопросы, которые рассматриваются в настоящей главе, представляют для нас огромную важность, ибо здесь речь идет не о том, чтобы различить какое-нибудь отдельное тело, но о самой планете, на которой мы обитаем, об ее общей форме и об ее отношениях с небесными телами; о состоянии ее поверхности, как не покрытых водой частей, так и жидких вод, ее составляющих, [наконец], о состоянии наружной коры — о природе и размещении находящихся в ней тел. {633}
Знания, которые нам уже удалось приобрести об этих важных вещах, имеют очень большое значение для изучения естественной истории. Заложить основы философии отдельных наук, связанных с ними, можно, только если принимать во внимание реальные факты. Для того чтобы дать ясное представление об этих знаниях, разделим их следующим образом:
1. Знание земного шара.
2. Знание состояния поверхности земного шара.
3. Знание состояния наружной коры земного шара — природы и-размещения образующих ее тел.
Все эти вопросы относятся к [области] естественной истории, даже сокращенной; объекты их рассмотрения составляют ее содержание, и, тем не менее, обычай, которому во всем принадлежит решающая и преобладающая роль, мешает распознавать истину и чаще всего отрывает эти знания от нее.
Знание земного шара. Наблюдение показало, что планета, о которой идет речь, представляет собой шар, слегка сплюснутый у полюсов, что этот шар совершает суточное обращение вокруг своей, оси, вследствие чего нашим глазам кажется, что все части неба движутся с востока на запад, что планета совершает и другое — годичное врашение вокруг Солнца, обусловливающее кажущееся постепенное смещение созвездий, замечаемое нами в каждое время года; наконец, что земная ось, вместо того чтобы быть перпендикулярной к плоскости орбиты годичного вращения, расположена наклонно к ней, что является причиной различия времен года для разных частей ее поверхности. Все эти установленные факты стали содержанием науки, получившей название космографии.
В этой науке рассматриваются отношения земного шара к другим планетам солнечной системы, причины сохранения его положения в пространстве, причины, заставляющие его совершать годичное обращение вокруг Солнца, и т. д. Пришлось, однако, признать, что многие из этих причин нам не известны, что они, по-видимому, лежат за пределами могущества природы и что их должно связывать с верховным творцом всего существующего, например,— причину движения, {634} полученного Землей под влиянием импульса или толчка и сочетающегося и находящегося в равновесии с движением, которое ей сообщает очень сильное притяжение Солнца; наконец,— причину, заставляющую ее ежедневно вращаться вокруг своей оси37.
Знание состояния поверхности земного шара. Различные потребности, побудившие человека перемещаться, путешествовать, заниматься торговлей и т. п., сделали для него необходимым знание состояния поверхности земного шара. Он пристрастился повсюду наблюдать ее и описывать.
Это описание состояния поверхности Земли составляет предмет географии, и известно, что эта область наших знаний охватывает только факты, которые подразделяются и рассматриваются с различных сторон.
Познания в области географии учат нас, каковы природа и взаимное расположение частей поверхности Земли, протяженность вод, занимающих наибольшую часть этой поверхности, среди которых различают моря, озера, реки и тому подобные объекты гидрографии; каковы очертания и расположение частей земной поверхности вне водного пространства, т. е. тех, которые образуют континенты и острова; [эти знания] дают нам представление о равнинах, плоскогорьях, разного рода горах и их главных цепях, о бассейнах рек и т. п., наконец, в зависимости от различного положения Солнца, они определяют климат, долготу и широту различных частей всей этой поверхности и т. д.
Все эти точно установленные факты, образующие географические познания, устойчивы, однако не так обстоит дело с знаниями, являющимися содержанием так называемой политической географии.
Знание состояния наружной коры земного шара в отношении природы и размещения образующих ее тел. Здесь мы снова оказываемся в области естественной истории. В самом деле, речь идет об одном из самых интересных ее разделов, который имеет своим содержанием теорию земли, одним словом,— об установленных путем наблюдения фактах, относящихся к состоянию наружной коры нашей планеты и являющихся предметом особой науки, получившей название геологии.
Геология, несомненно, должна охватывать изучение всех объектов, {635} участвующих в образовании массы земного шара. Однако, ввиду того, что мы лишены возможности глубоко проникнуть в толщу этой массы и вследствие этого не можем знать, что представляют собой вещества, образующие ее внутреннюю часть, то для того чтобы выяснить причины, приведшие земной шар в то состояние, в котором он находится теперь, пришлось ограничиться изучением его наружной коры, исследованием различных тел, образующих ее толщу, наконец,— рассмотрением порядка и размещения этих тел.
Ввиду того, что здесь речь должна идти лишь о фактах, и мы не должны в этой связи вовсе заниматься рассуждениями, еще остается открытым вопрос о том, обязательно ли содействовали остатки всякого рода живых тел приданию наружной коре земного шара особого состава и состояния вещей [etat de choses],— состояния, существование которого во внутренних частях земного шара совершенно неправдоподобно. Перечислим теперь некоторые из главных фактов, установленных путем наблюдения и составляющих часть наших положительных знаний об этих важных вопросах.
При исследовании, произведенном над корой обитаемой нами планеты, установлено:
1) что на наружной поверхности этой коры выступают над водами обширные континенты неправильного очертания и расположения и всевозможные острова;
2) что необъятные моря, воды которых — то соленые, то солоноватые, заполняют пространства между континентами и островами;
3) что на материках и на большей части островов воды в основном пресные, одни — стоячие, тогда как другие — текучие, направляются к пониженным местам, непрерывно несут с собой отторгнутые ими частички тел, образующих эти континенты и эти острова, и впадают в соседние моря;
4) что на континентах и на большей части островов беспорядочно возвышаются над равнинами огромные горы, состоящие из различных каменистых масс, то более, то менее древней формации и чаще всего нагроможденные слоями; они образуют горные цепи неправильной формы, простирающиеся в различных направлениях и покрытые, {636} по крайней мере у своего подножья, почвой, пригодной для произрастания растений;
5) что слои, образующие основу континентов, островов и находящихся на них гор, то расположены горизонтально, как почти на всех равнинах, то различным образом наклонены к горизонту, как в большинстве гор, то — неправильно, так что их направление почти не поддается определению и они не одинаковы по составу и мощности;
6) что многочисленные остатки всевозможных морских тел залегают почти повсюду в сухих частях поверхности земного шара, даже в центре континентов и больших островов и даже на вершинах самых высоких гор, и свидетельствуют о древнем пребывании моря в этих частях нашей планеты;
7) что на континентах и на больших островах, то тут, то там, действующие подземные огни вызывают через известные промежутки) времени извержения, видоизменяют вещества, подвергшиеся их действию, и от времени до времени производят землетрясения, разрушения и местные катастрофы, тогда как такие же, но давно потухшие огни оставили в различных областях следы, указывающие на их: древнее происхождение;
8) что дождевые воды, при совместном действии смены низкой и высокой температуры, непрерывно изменяют сухие части поверхности земного шара, постепенно разрушают, точат и мало-помалу снижают даже самые высокие горы, нивелируют уровень равнин, углубляют и расширяют бассейны рек, наконец, незаметно увлекают в пониженные места, а затем в море все отторгнутые ими частички;:
9) что морские воды под влиянием Луны и Солнца поднимаются два раза в продолжение каждых четырех часов на двух противоположных точках, в результате чего образуется постоянное колебательное движение, заставляющее их отбрасывать к берегам получаемые ими наносы и сохранять неизменными свое ложе и глубину («Hydrogeologie»);
10) что общее и постоянное течение, хотя и прерывающееся в некоторых областях, заставляет экваториальные моря непрерывно {637} перемешаться в одном и том же направлении, точить и размывать континенты, наступать на территории и затоплять их и отступать от противоположных [берегов], оставляя их обнаженными, что благоприятствует развитию растительности, наконец,— перемещать мало-помалу ложе морей, однако не разрушая его («Hydrogeologie»)38.
Вот десять основных фактов, установленных путем наблюдения, которым обязательно подчиняются все мелкие факты, касающиеся (различных деталей. Именно эти великие положения геологии, открывшиеся теперь проницательности нашего ума, должны быть положены в основу философии [этой] науки.
Создания, которые природа непрерывно производит, разрушает и возобновляет на нашей планете, рассматриваются в настоящей, четвертой части не в отношении их расположения, или масс, которые они образуют или могут образовать, но только в отношении их природы, признаков, свойств, воздействий, оказываемых ими друг на друга, и даже — их происхождения.
В связи с тем, что эти создания [природы] весьма разнообразны, следовательно, охватывают множество видов, в результате наблюдения их существования, их отличительных признаков, их особых свойств и происходящих в них явлений накопилось множество установленных достоверных фактов различного порядка, которые являются предметом различных наук.
Понятно, что изложение этой части могло бы представить большой интерес, особенно если вникать в детали множества охватываемых ею объектов, однако в мой план не входит составление подобного труда. Мне приходится поэтому представить здесь лишь существенные {638} разграничения, подразделяющие эти многочисленные предметы на несколько главных групп, охватывающих материалы, [изучаемые] минералогией, физикой и химией.
Итак, я разделяю эту четвертую часть на два раздела, а каждый из этих разделов — на несколько глав в указанном ниже порядке.
Деление четвертой части
Первый раздел. Знание неорганических тел и видов материи, рассматриваемых в их целостности, как в отношении их существования и отличительных признаков, так и в отношении их свойств и производимых ими явлений, не сопровождающихся изменением их природы.
Глава I. Знание твердых, или плотных неорганических тел нашей: планеты.
Глава II. Знание флюидов, как жидких, так и упругих, наблюдаемых на нашей планете, части которых могут быть собраны и сохранены в закрытых сосудах.
Глава III. Знание тонких, невидимых видов материи, не способных служить содержимым [incontenables], встречающихся на нашей планете, которые проникают, распространяются или движутся то в промежутках между телами, то в мельчайших пустотах этих последних.
Второй раздел. Знание тел и веществ, рассматриваемых в отношении составляющих их частей, в отношении внутреннего взаимодействия, оказываемого ими друг на друга, в отношении законов, управляющих их соединением, разложением, их различными изменениями, наконец, в отношении явлений, возникающих в результате этих действий и этих законов.
| {639} |
В важном для нас изучении всех окружающих предметов, главным образом тех, которые мы можем наблюдать на нашей планете, нам следовало бы прежде всего ознакомиться с существованием тех из них, которые мы имеем возможность замечать; отличать те, которые действительно различны, наконец, путем наблюдения и опыта убедиться в особых свойствах каждого из них. Для всего этого необходимо было рассмотреть их в целостности их природы.
Таково содержание первого раздела. Предметы, относящиеся к нему, многочисленны, интересны с разных точек зрения, а познание их полезно, так как они как бы рассеяны и нагромождены вокруг нас и большей частью служат нам для многих целей. Именно они образуют почти всю массу нашей планеты.
Для того чтобы легко было отличать друг от друга эти различные предметы, мне представляется полезным и удобным разделить их либо по состоянию соединения составных молекул в образуемых ими массах, либо по состоянию разъединения их масс, способных и не способных служить содержимым сосудов.
Итак, я делю их на три главные группы, а именно:
1) на образующие неорганические тела — твердые, или плотные;
2) на составляющие флюиды, то жидкие, то упругие, но всегда способные быть содержимым;
3) на невидимые, тонкие формы материи, не способные служить содержимым [incontenables].
| {640} |
Флюиды40, о которых мне придется говорить здесь, так сильно отличаются от твердых тел, рассмотренных в предыдущей главе, что их текучесть, которой я пользуюсь как отличительным признаком, никого не должна поставить в тупик. Достаточно будет, если я изложу все, что касается предметов, о которых здесь идет речь, чтобы привести ряд положительных фактов, познаваемых нами путем наблюдения каждого из этих флюидов.
Таким образом, на обитаемой нами планете, помимо твердых тел, о которых я уже упоминал, образуются, в особенности в ее наружной толще или на поверхности, различные флюиды, наблюдаемые в большем или меньшем количестве, природу которых мы можем легко исследовать, потому что они могут быть собраны в закрытых сосудах и в них подвергнуты экспериментам.
Эти виды материи, чрезвычайно подвижные и с весьма делимыми частями массы, могут распространяться, как только наклон поддерживающих их поверхностей или вместилищ делается ниже их уровня. Их составные молекулы совершенно не обладают сцеплением, которое могло бы мешать им подчиняться силе тяготения. Они свободно носятся друг над другом и, по причине своей тяжести и несвязанности [свободы], оказывают равномерное давление во всех направлениях и перемещаются на уровень верхней границы образуемой ими массы.
Эти флюиды естественно разделяются на жидкие и упругие, или газообразные. Первые обладают свойствами, резко отличающимися от свойств вторых.
Жидкие флюиды земного шара. Среди жидких флюидов, известных на нашей планете, я назову лишь один, как основной, рассмотрение которого является наиболее важным.
Вода, если рассматривать ее в обычном состоянии, как известно, представляет собой жидкий флюид, в огромных количествах и широко распространенный на нашей планете. {641}
В самом деле, этот вид материи, скопившейся в огромных массах в необъятных впадинах наружной части земного шара, образует там моря, занимающие больше половины его поверхности, и мы видим, что на материках и на большей части островов этот жидкий флюид образует озера, большие и малые реки, потоки, ручьи и т. д. Даже атмосфера никогда не бывает лишена ее, хотя вода пребывает в ней в особом состоянии. Наконец, она изливается в значительном количестве на поверхности земного шара в разные времена, в разных местах и в разных формах.
Благодаря различного рода влияниям вода почти повсюду способствует возникновению явлений, наблюдаемых в различных частях нашей планеты, она входит в качестве составной части в большинство сложных соединений, образующих тела этой же планеты; она является одной из существенных составных частей живых тел: без нее ни одно из них не могло бы жить, не могло бы существовать, наконец, именно здесь, в ее лоне, зародилось большинство животных, которые постепенно изменялись и обитают там и поныне.
Таким образом, вода, в ее обычном жидком состоянии, предоставляет нам положительные знания о себе самим фактом своего существования и тем, что она встречается в огромном количестве на нашей планете.
Что касается сущности этого вещества, то вода является частью природы, так как состоит, как показывают опыты химиков, из кислорода и водорода; она вынуждена беспрерывно образовывать и выделять их при различных действиях.
Особые свойства воды и явления, которые они вызывают, - вот другие положительные факты, которые мы рассмотрим в дальнейшем. Итак, помимо жидкого состояния, мы наблюдаем воду в твердом состоянии или в состоянии отвердевания, в состоянии пара и, наконец, в состоянии соединения с основными началами различных тел.
Кроме воды, о которой была речь, в различных частях земного шара находят некоторые другие жидкие флюиды, но в незначительном количестве, как, например, жидкие битумы41.
| {642} |
На обитаемой нами планете известно только очень небольшое число жидких флюидов, но один из них, встречающийся повсюду в изобилии, особенно заслуживает быть рассмотренным с точки зрения его свойств и вызываемых им явлений.
Жидкость, о которой идет речь, это вода, рассматриваемая в ее обычном состоянии, и, как мы видели, именно в этом состоянии она встречается в наибольших массах.
Свойствами воды в жидком состоянии являются: прозрачность, бесцветность, отсутствие вкуса и запаха, несжимаемость.
Помимо этих свойств, из которых почти все распознаваемы с первого взгляда, она обладает также следующими свойствами:
смачивать, благодаря своей незначительной вязкости, большую часть тел, с которыми она соприкасается;
быстро проникать внутрь пористых тел;
энергично взаимодействовать с теплородом, вызывая разложение сложных веществ, даже наиболее твердых;
постепенно разрушать соединение составных молекул твердых каменистых веществ, перемещать их, нагружаться ими, как средство передвижения [для их переноса] и последующего отложения, особенно если она находится в спокойном состоянии;
растворять большую часть солей;
соединяться в качестве составной части с различными телами;
быть одним из пяти существенных действующих начал вегетации;
быть необходимым элементом питания всех животных;
образовывать с теплородом упругий, совершенно нестойкий флюиду который не может быть собран в какой-либо сосуд;
превращаться в твердое тело при потере части теплорода, удерживавшего ее в жидком состоянии, и при смешении с воздухом;
быстро и легко поглощать теплород до определенного предела и способствовать его расширению;
служить одним из хороших проводников электрического флюида; и т. д. и т. д. {643}
Все эти свойства, как и обусловливаемые ими явления, представляют собой факты, которые физические теории пытаются объяснять или же сделать нам понятными их причины.
В различных частях нашей планеты наблюдаются разного рода упругие — газообразные или парообразные — флюиды, большей частью невидимые или почти невидимые, но которые, тем не менее, могут быть собраны, подвергнуты сжатию [coerces] и сохранены в закрытых сосудах.
Можно думать, что молекулы масс этих воздухообразных, чрезвычайно упругих и сжимаемых видов материи совершенно не соприкасаются между собой, так как они разъединены теплородом окружающей среды, удерживающим их в газообразном состоянии. У различных тел они, по-видимому, соединяются с основными началами последних, так как при разложении этих тел природа выделяет, во всяком случае, большую часть их. В этом отношении искусство умеет подражать природе и даже может восстанавливать некоторые соединения, которые оно разрушило, возвращая им выделенный из них упругий флюид.
Из числа известных упругих флюидов, способных служить содержимым [contenables], я назову только наиболее широко распространенные на нашей планете и в телах, которые она содержит:
1) атмосферный воздух;
2) газ кислород;
3) газ водород;
4) газ азот;
5) углекислый газ.
Воздух, или атмосферный газ, вовсе не ограничивается тем, что образует атмосферу, так как, в связи с тем, что эта атмосфера давит на Землю и опирается на нее, он встречается во всех ее углублениях, в промежутках между телами и даже в мельчайших пустотах внутри многих из них. Этот хорошо известный упругий флюид сам состоит, {644} по наблюдениям химиков, из газов кислорода и азота, и весьма возможно, что он часто доставляет свои составные начала для образования многих тел.
Газ кислород, хотя и встречается в свободном состоянии, когда природа выделяет его из какого-нибудь вещества, никогда и нигде не был обнаружен в чистом виде, несомненно потому, что он тогда невидим и недолго сохраняет состояние свободы, однако его можно собрать, выделяя из какого-нибудь вещества, где он был в состоянии соединения. Предполагают, что этот газ получается из основания, называемого кислородом, при его соединении с веществом, образующим из него упругий флюид. Но это лишь допущение, потому что сам кислород никому не известен.
Газ водород, о котором известно, что он очень легко воспламеняется, часто встречается там, где разлагаются растения, но ввиду того, что водород легче атмосферного воздуха, он поднимается в атмосферу и часто воспламеняется там. Предполагают, что этот газ получается из основания, называемого водородом, образующего с теплородом названный упругий флюид. Имеется несколько разновидностей этого газа, образующихся в зависимости от того, соединяется ли основание с углеродом, фосфором, серой и т. д. Однако в чистом виде это основание не известно. Оно, как говорят, является одним из составных начал воды, которую оно образует, соединяясь с кислородом.
Газ азот, встречающийся иногда в чистом виде, иногда в смеси с другими газами, во впадинах Земли и выделяющийся из гниющих веществ животного происхождения, является одной из составных частей атмосферного воздуха. Его основание, называемое азотом и не известное никому в чистом виде, образует при соединении с тем или иным веществом упругий флюид, о котором здесь идет речь. Соединяясь с кислородом, он образует азотную кислоту. Менее весомый, чем воздух и даже чем газ кислород, газ азот также поднимается в атмосферу.
Наконец, углекислый газ, встречающийся в некоторых пещерах и образующийся при винном [спиртовом] брожении и при дыхании, представляет собой упругий флюид, более тяжелый, чем воздух, [а потому] {645} скопляющийся в пониженных местах. Предполагают, что он образуется при соединении кислорода с углеродом.
Существование и образование этих различных упругих флюидов, способных быть содержимым, раскрывает в каждом из них многие неоспоримые факты. Химия, овладевшая этими фактами, причисляет их к числу материалов, которыми она пользуется для построения своих выводов, принципов и теории.
Признавая, что на нашей планете существуют и непрерывно образуются различные упругие флюиды, невидимые, но способные быть содержимым, например упомянутые ниже, остается только указать здесь главные отличительные свойства каждого из этих газообразных и воздухообразных флюидов.
Известно, что эти различные флюиды обладают чрезвычайно большой упругостью и сжимаемостью, и вполне вероятно, что теплород, которым всегда проникнуты, хотя и неравномерно, все части земного шара, является главной, может быть даже единственной, причиной их состояния, их упругости и большой сжимаемости.
Разреженность этих видов материи делает их невидимыми или почти невидимыми; все же их тонкость не настолько велика, чтобы они могли проходить сквозь твердые тела, поэтому их можно собрать, подвергнуть сжатию и сохранять в закрытых сосудах.
Атмосферный воздух, являющийся наиболее широко распространенным газом на нашей планете, потому что он составляет ее атмосферу, обладает свойствами:
служить растворителем большого числа тел;
поддерживать горение горючих тел;
служить для дыхания животных;
непрерывно сжимать своим весом все тела, погруженные в атмосферу, особенно сильно — тела, находящиеся на поверхности Земли и в ее наружной коре;
Дополнения
изменять плотность и упругость в зависимости от различной степени расширения, претерпеваемого им в результате проникания в него больших или меньших количеств теплорода;
легко соединяться с водой и растворяться в ней или всегда содержать некоторое количество ее, пропорциональное его плотности;
быть плохим проводником теплорода и до известного предела противодействовать проникновению последнего в свою массу;
быть еще худшим проводником электричества.
Газ кислород, по-видимому встречающийся в изобилии на нашей планете, несмотря на то, что не удается его там обнаружить, и несмотря на то, что получить его в чистом виде можно лишь путем выделения его из какого-нибудь вещества, обладает следующими особыми свойствами:
быть существенным элементом дыхания и для этого выделяться из вдыхаемого воздуха;
облегчать и ускорять всякое горение и соединяться с продуктами горения;
соединяться, в зависимости от обстоятельств, с множеством различных тел и настолько ослаблять соединение составляющих их начал,; что делает большинство этих тел чувствительными к действию влажности, вследствие чего они становятся вкусовыми веществами: солеными, щелочными, а также мало горючими или негорючими.
Газ водород, выделяющийся при разложении организованных тел, в особенности при разложении растений, газ, который, как известно, легче воздуха и считается одним из составных начал воды, обладает следующими особыми свойствами:
легко воспламеняться;
легко соединяться с горючими телами и смесями;
связываться в организованных телах, главным образом в растениях;
усиливает преломляющую способность тел.
Газ азот, менее весомый, чем воздух, одним из составных начал которого он является, и известный только в газообразном состоянии, обладает свойствами: {647}
тушить горящие тела;
вызывать гибель животных, которые его вдыхают;
соединяться с газом кислородом при [действии] электрической искры, с образованием при этом азотной кислоты;
быть одной из составных частей веществ животного происхождения и аммиака.
Углекислый газ, образующийся, как известно, при винном брожении, при дыхании животных и выделяющийся из обычного известняка при превращении его в гашеную известь, обладает свойствами быть вредным для дыхания и вызывать удушье у тех, кто им дышит.
Не будем себя обманывать [отрицая], что мы не в состоянии познать крайние пределы как объема, так и степени разреженности или тонкости существующих тел или видов материи, потому что ограниченность наших чувств не позволяет этого. Это соображение не следует упускать из виду при формировании наших выводов и рассуждений. В самом деле, мы уже имеем доказательства обоснованности этого соображения [на примере] многих видов материи, находящейся вокруг нас и даже проникающей и проходящей сквозь нас самих, как сквозь большинство других тел.
Эти виды материи навсегда остались бы нам не известными, если бы их существование не доказывалось и не подтверждалось производимыми ими явлениями.
Мы в настоящее время убеждены, что, помимо невидимых, но способных служить содержимым флюидов, настолько грубых [grossiers], что их можно поместить в сосуды или вместилища, проникнуть сквозь стенки которых они не могут, как, например, атмосферный {648} воздух и различные газы, существует в окружающих нас средах, во всей массе земного шара много других видов материи, все или большая часть которых являются флюидами, также невидимыми и легко проникающими в другие тела, но отличающимися такой тонкостью и разреженностью, что мы совершенно не в состоянии поместить какую-либо часть их ни в один сосуд или вместилище.
Именно об этих невидимых, неуловимых и не способных служить содержимым видах материи здесь идет речь. Несмотря на то, что мы не можем их видеть, наша уверенность в их существовании, основанная на наблюдении результатов их действия и производимых ими явлений, представляет для нас знание, основанное на фактах, следовательно, вполне реальное.
Нам уже известны четыре различных вида материи, первый из которых, вероятно, является единственным, не относящимся к флюидам и не являющимся неотъемлемой частью нашей планеты, хотя мы и встречаем его повсюду. Этими видами материи являются: свет, теплород, электричество, магнитный флюид.
Эти виды материи составляют предмет изучения физики, и есть основание думать, что они резко отличаются друг от друга п отношении вызываемых ими явлений.
Не подлежит сомнению, что в различных явлениях, наблюдаемых гари образовании, соединении и разложении тел, своеобразные виды материи, о которых идет речь, играют известную роль благодаря их воздействию, их собственному видоизменению, связыванию или выделению. Но, не имея возможности ни распознавать, ни удерживать их при опытах над телами, мы вынуждены вовсе не принимать их в расчет; поэтому в выводах, которые мы делаем из результатов наших опытов, могут содержаться ошибки.
Но неужели среди тонких, незаметных, не способных быть содержимым видов материи, встречающихся на нашей планете, существуют только эти четыре рода? Полагаю, что было бы неразумным утверждать это.
Не имея возможности замечать виды материи, о которых идет речь, и зная их в сущности лишь по их свойствам и по тем явлениям, {649} которые они производят, я ограничусь здесь только упоминанием о них и перечислением их свойств, но в третьей части я приведу их основные свойства и производимые ими наиболее замечательные явления.
Эти свойства и эти явления, так же как и существование упомянутых видов материи, представляют собой факты, на которые мы можем положиться.
Знание света. Светом называют ту своеобразную материю, при посредстве которой мы видим тела, хотя самое ее мы не можем заметить. Приведенная в состояние колебания или испускаемая светящимися телами, она непрерывно наполняет части пространства, разделяющие небесные тела, или проходит сквозь них и присутствует в изобилии на нашей планете, где она часто находится в движении в различных местах ее наружной части.
Самого света мы никогда не видели. Мы знаем о нем только по-производимым им действиям и нам известно лишь то, что исключительно благодаря ему мы видим другие тела. Когда мы замечаем луч, проходящий сквозь какую-нибудь часть пространства, мы в действительности видим не свет, но разреженные и освещенные пары, а в наших жилищах — также освещенные частицы, находящиеся на линии определенных пучков лучей, изолированных по причине каких-либо обстоятельств.
Помимо того, что мы никогда не видим света, эта материя действительно не способна служить содержимым [incontenable], потому что мы не можем ни собрать, ни сохранить ни одной ее части в каком-либо сосуде.
Свет не обладает никакими свойствами флюида, так как при перемещениях он распространяется не как флюиды; он совсем или почти совсем не подчиняется силе тяготения и движется лишь по прямой линии, как при истечении, так и при отражении, преломлении или отклонении, а если он действует путем простых колебаний, то эти колебания всегда излучаются по прямой линии.
Чрезвычайная скорость его движения не имеет ничего равного в природе; то же можно сказать и о тонкости его частиц. {650}
Какова бы ни была природа этого вида материи, ученые расходятся во взглядах относительно того, каким образом он позволяет нам видеть тела.
В самом деле, они думают, что он действует только путем сообщающихся между собой волн или колебаний и что светящиеся тела лишь возбуждают эти колебания. Другие, напротив, полагают, и это мнение более правдоподобно, что свет действует лишь путем испускания его светящимися телами, непрерывно излучающими его по всем направлениям.
Что совершенно очевидно для нас, это что свет существует, что это особый вид материи, приводимый в колебание или испускаемый светящимися телами, и что только благодаря ему одному мы видим тела.
К этим положительным фактам я добавлю в третьей части перечень основных свойств света, также являющихся реальными и хорошо известными фактами.
Знание теплорода. Существование теплорода во всех частях нашей планеты, хотя и в изменчивом количестве в различных телах, различных местах и в разное время, является фактом достоверным и признанным. Этот вид материи, почти столь же своеобразный, как и свет, но гораздо менее известный, чем последний, по причине странных гипотез, существующих о нем, представляет собой невидимый и не способный служить содержимым флюид, о котором нам фактически известны только его свойства.
Хотя теплород существует во всякое время, но всегда в изменчивом количестве во всех частях обитаемой нами планеты, нам известно, поскольку мы являемся свидетелями этого, что на земном шаре благодаря различным причинам непрерывно образуются или выделяются новые количества его; нам известно также, что солнечный свет везде, где он действует, непрерывно образует теплород или вносит его; что он образуется или выделяется при брожении или разложении тел, внутри многих живых тел, при трении твердых тел друг о друга, при внезапном сжатии воздуха и т. д и т. п.
Не имея никакой надобности исследовать, имеет ли здесь место действительное образование теплорода или же простое выделение этой {651} материи со всеми присущими ей свойствами, я ограничусь утверждением достоверного факта ее существования и описанием ее проявлений, происходящих на наших глазах.
Знание электричества. Название электричества получил особый, очень тонкий, невидимый и не способный служить содержимым флюид, известный только по его свойствам и производимым им явлениям, причем последние указывают на существование двух разновидностей его,— флюид, близко стоящий к теплороду, от которого он, однако, весьма сильно отличается. Знакомство с этим флюидом является результатом недавних открытий.
Этот своеобразный флюид, обладающий гораздо большей скоростью движения, чем теплород, мгновенно скопляющийся и сгущающийся при трении некоторых тел друг о друга, более легко распространяющийся и восстанавливающий свое равновесие в одних телах, тогда как другие тела препятствуют или мешают его прохождению; флюид, при своем скоплении притягивающий или отталкивающий, в зависимости от обстоятельств своего положения или своей природы, легкие тела,— существует в изобилии на нашей планете, беспрестанно движется там, что делает изменчивыми свойства его частей. В настоящее время известно, что он же производит молнию во время грозы.
Постоянное существование электричества на нашей планете установлено при помощи опытов, делающих его ощутимым, по желанию, в любом месте и в любое время, поэтому я ограничусь приведением основных свойств этого замечательного флюида в третьей части.
Знание магнитного флюида. Именно благодаря знанию с давнего времени магнита и его способности притягивать железо, в особенности же благодаря открытию более важного свойства, которым обладает магнит, сделанному около XII века, а именно: наличию в нем двух полюсов, одного — притягивающего, другого — отталкивающего, натравленных один на север, другой на юг, наконец, благодаря способности магнита сообщать это свойство железу, был изобретен компас и научились распознавать существование особого флюида, обладающего всеми этими свойствами. {652}
Этому своеобразному невидимому и не способному быть содержимым флюиду, который, во всей вероятности, близок к электричеству, по все же отличается от него, состоящему, как полагают, из двух флюидов, действующих в каждом теле, обладающем магнитными свойствами, в противоположных направлениях, и проявляющему свое влияние на нашей планете на огромные расстояния, и дали название магнитного флюида.
Существование магнитного флюида, одинарного или двойного,— факт несомненный, ибо без него магнит и намагниченное железо не имели бы присущих им свойств. Вот все, что нам следует сказать об этом.
Мы видели, что на нашей планете существует несколько видов; материи, совершенно незаметных, действительно не способных быть, содержимым, ибо мы не можем их уловить и навсегда заключить в какой-либо сосуд. [Мы знаем также], что частицы этих видов материи, настолько разъединены, что никогда не наблюдалось, чтобы они образовывали сами по себе твердое тело. Этими видами материи являются: свет, теплород, электричество, магнитный флюид.
Здесь следует перечислить главные, установленные путем наблюдения свойства каждого из них, а также явления, которые они производят.
Свет. Это своеобразная материя, при посредстве которой мы видим тела, хотя самое ее мы не можем видеть... обладает перечисленными ниже свойствами:
отражаться, согласно постоянным законам, либо полностью, либо частично, несветящимися телами, которые ее совершенно не поглощают;
проходить сквозь прозрачные тела, как жидкие, так и твердые;
преломляться согласно особым законам, когда, проходя сквозь тела, она переходит из одной среды в другую или в ту же среду, но» обладающую иной плотностью; {653} отклоняться с расхождением или схождением лучей, в зависимости от того, падает ли она на вогнутую или на выпуклую поверхность, которая ее отражает;
вызывать ощущение белого, когда при прямом испускании или при отражении ее лучи вовсе не разлагаются;
вызывать ощущение черного, когда она более или менее полно поглощается воспринимающим ее телом;
разлагаться и разделяться на различного рода лучи, обладающие каждый различной преломляемостью и вследствие этого разделяющиеся при прохождении ее через прозрачное тело, части поверхности которого, служащие ей для входа, представляют собой наклонные по отношению друг к другу грани (призма);
быть причиной цвета тел, когда, разлагаясь на их поверхности, она отражает только определенные цветные лучи, из которых состоит;
испытывать незначительное отклонение от своего пути и даже разлагаться при прохождении весьма близко от тел, т. е. когда эти тела ее притягивают или отталкивают;
преломляться тем сильнее, чем большей горючестью обладает тело, через которое она проходит;
распространяться в своем движении всегда по прямой линии.
Теплород. Этот вид материи, влияние которой при его действии на нас общеизвестно, представляет собой невидимый и не способный быть содержимым флюид, которому присущи следующие свойства:
обладать постоянной активностью, не зависящей от активности, обусловленной силой притяжения, тем более действенной, чем больше его плотность, и ослабевающей по мере потери им своей плотности;
обладать силой, заставляющей распространяться его свободную массу, и образовывать по всем направлениям одновременно лучистое истечение [expansion rayonnante], уменьшающееся пропорционально его плотности по мере того, как это истечение происходит;
обладать лучами (своей расширяющейся массы), способными отражаться от плоских поверхностей твердых тел, на которые они падают; {654}
проникать более или менее легко в пустоты твердых тел или флюидов с силой отталкивания, стремящейся отдалить друг от друга скопившиеся или объединенные молекулы;
расширять, разжижать, испарять, вызывать улетучивание и разлагать или сжигать тела, в которые он проникает соответственно степени своей плотности, силе его расширения и природе тел, на которые он действует;
вызывать у животных, обладающих способностью чувствовать, в части [тела] которых он проникает, ощущение приятного тепла, когда его способность расширяться незначительна, и болезненное ощущение ожога, когда, при большой плотности и очень-сильном расширении, этот флюид стремится разрушить сцепление частиц;
встречать противодействие своему расширению или замедление его со стороны одних веществ (холодный, сухой воздух, невлажное дерево, уголь) и благоприятные условия, способствующие этому расширению, со стороны других тел (вода, металлы и др.);
накопляться до известного предела и в количестве, превышающем его количество в окружающей среде, в растительных маслах, растопленном жире, металлах, воде и т. д., и только медленно выделяться из них для установления равновесия с теплородом окружающей среды;
образовываться при брожении, разложении, изменении состояния! или природы некоторых тел;
обладать способностью накопляться и сгущаться при трении твердых тел друг о друга, пока это не вызовет их разложения;
накопляться и сгущаться на поверхности непрозрачных твердых тел при действии падающего на них прямого света, особенно — падающего перпендикулярно;
самому испускать свет и, следовательно, быть светящимся, когда, при очень большой плотности, его расширение бывает в первые мгновения очень велико;
связывать в определенных телах части своей массы, утрачивающие при этом состояние теплорода, когда, обладая большой плотностью, {655} он остается в соприкосновении с ними, а в то же время их разъединенные составные начала готовы восстановить состояние соединения [etat de combinaison];
возбуждать и поддерживать жизненное движение в организованных телах до тех пор, пока состояние их частей делает это движение возможным.
Все эти свойства являются достоверными, легко установимыми явлениями, большая часть которых происходит на наших глазах и которые должны быть объяснены теорией.
Количество теплорода43 в окружающей среде никогда не бываем равным нулю в какой-либо части земного шара, хотя количество его в различных местах изменяется, так как на одну половину земного шара всегда падает солнечный свет, который непрерывно вновь образует [теплород] на своей поверхности.
Отсюда следует, что теплород, возникающий при горении, брожении, трении твердых тел друг о друга, продолжает расширяться лишь до тех пор, пока не достигнет равновесия с теплородом окружающей среды.
Глава I. Знание изменений, которые могут испытывать различные приведенные в соприкосновение тела или в своем состоянии или в своей природе; знание образуемых ими соединений или претерпеваемых ими разложений.
Глава II. Знание различного сродства разных видов материи.
| {656} |
Из всех предметов, рассматриваемых в настоящем труде, бесспорно те, о которых речь идет здесь,— самые любопытные, интересные и даже самые важные для изучения.
В самом деле, вопрос идет о тех своеобразных телах, встречающихся в таком изобилии и разнообразии на нашей планете, которым дали название живых тел; о телах, которые поражают нас сложностью и организацией своих частей, совершенно особого рода движениями, осуществляющимися у них, а также удивительными явлениями, возникающими в результате состояния вещей, сохраняемого ими в продолжение ограниченного времени; о телах, несомненно, существующих лишь по воле верховного творца всех вещей, но произведенных непосредственно самой природой, ибо она наделена средствами для этого и мы являемся свидетелями ее деяний в этом отношении; наконец, о тех телах, которые благодаря их замечательным способностям представляют собой, так сказать, высший образец ее могущества, предел чудесного, чего ее средства позволили достигнуть на нашей планете.
Тела, о которых здесь говорится, наблюдаются почти повсюду на поверхности Земли и в ее жидких водах [eaux liguides]: они обитают там во всякого рода положениях и условиях и подвергаются влиянию климата, окружающей среды, местных условий, а также влиянию привычек или образа жизни, требуемых этими обстоятельствами.
Существование живых тел, их отличие от других природных тел, присущие им особые признаки, все это — положительные факты, из которых я намерен привести лишь главные.
По мере того как человек стал направлять свое внимание на то, что находится вне его, что окружает его и в особенности на предметы, оказавшиеся в пределах его наблюдения, он стал различать и признавать существование множества своеобразных тел, которые, как {657} бы отличны друг от друга они ни были, обладают общими им всем характерными особенностями. Все эти тела отличаются одним и тем же способом происхождения, определенной продолжительностью бытия и существуют лишь благодаря [особому] внутреннему явлению, которое назвали жизнью, и внутренней организации, позволяющей этому явлению осуществляться.
Именно этим поистине замечательным телам дали название живых тел, а жизнь, которой они обладают, так же как и способности, приобретаемые ими благодаря ей, существенным образом отличают их от всех остальных тел природы. Живые тела и раскрываемые ими явления составляют предмет науки, еще не созданной; однако некоторые основные положения ее мною уже были изложены в «Philosophie zoologique» и я назвал ее биологией.
Знание живых тел безусловно предполагает умение отличать эти тела от тех, которые совершенно лишены организации и вовсе не обладают жизнью. Это разграничение очень легко сделать, так как разница между теми и другими телами чрезвычайно значительна.
Все живые тела вообще обладают потребностями, способностями, ограничены в длительности своего бытия, и состояние их подвержено изменениям, влекущим за собой разницу между юностью и старостью.
Ничего подобного нет у тел неорганических: у них нет никаких потребностей, они совсем не обладают способностями, но имеют свойства, состояние их изменяется только случайно и длительность их бытия не ограничена и поддается лишь воздействиям обстоятельств.
Для того чтобы еще лучше познать живые тела, о которых идет речь, заметим, что на поверхности земного шара, в небольшой части ее наружной толщи и в ее водах наблюдается удивительное множество своеобразных тел, бесконечно различающихся между собой, у которых [особое] состояние частей и порядок вещей вызывают в продолжение ограниченного периода времени явление жизни, а также вытекающие из нее различные особые явления.
Все эти тела оживлены внутренними движениями, у одних почти не прерывающимися, пока им не препятствует состояние частей, {658} тогда как у других эти движения в той или иной мере приостанавливаются через определенные промежутки.
Эти же внутренние движения, получившие название органических, или жизненных, и их следствия образуют чудесное явление, названное жизнью. Они придают своеобразным телам, временно на деленным ими, способности, присущие только им одним.
Все вообще живые тела питаются посторонними веществами, которыми они овладевают или которые они поглощают и усваивают. Делать это они вынуждены для самосохранения. Таковы их потребности. Помимо того, все они развиваются и растут до определенного предела, присущего каждому из них, и осуществляют это при помощи интусусцепции, т. е. путем актов своей внутренней организации, что также составляет одну из их способностей; все они обладают способностью воспроизводить другие индивидуумы, подобные им самим; наконец, все подвержены неизбежному разрушению, т. е. смерти, и именно сами акты жизни мало-помалу приводят их к состоянию, ведущему к гибели.
Какая огромная разница между этими телами, одаренными жизнью, и теми, которые лишены ее!
Тем не менее первые [тела], утратив жизнь, которой они обладали, переводятся в состояние неживых тел. Их части постепенно разлагаются, теряют свои природные свойства, отделяются друг от друга, а их различные, все более и более неузнаваемые остатки или видоизменившиеся продукты [жизнедеятельности] приводят, под воздействием обстоятельств, к образованию сложных веществ, увеличивая тем самым общую массу грубых, неорганических, инертных тел — твердых, жидких и газообразных.
Живые тела, естественно, подразделяются на две первичные группы, существенно отличающиеся одна от другой по природе организации существ, входящих в каждую из них.
Одни действительно имеют раздражимые части и способны выполнять внезапные движения, которые могут повторять столько раз подряд, сколько раз будет действовать причина, возбуждающая эти движения. Это — животные. {659}
Другие, напротив, совершенно лишены подлинно раздражимых частей и не могут выполнять внезапных движений, повторяемых несколько раз подряд. Эти тела назвали растениями.
Поэтому я разделяю настоящую, пятую часть на два раздела соответственно природе объектов, входящих в каждый из них.
Первый раздел. Знание животных, т. е. живых тел, имеющих раздражимые части.
Второй раздел. Знание растений, т. е. живых тел, не имеющих раздражимых частей.
Деление пятой части
Первый раздел. Знание животных.
Глава I. Знание животных, рассматриваемых в отношении: их общих свойств, явления раздражимости, проявляющегося у всех них, явления чувствования, наблюдающегося у многих из них, и в отношении явления образования представлений — способности, присущей лишь небольшому их числу.
Глава II. Знание животных, рассматриваемых в отношении: их многообразия, различного порядка разграничений, установленных среди них, и их общего распределения соответственно [существующим между ними] отношениям и плану природы.
Глава III. Знание животных, рассматриваемых в отношении их склонностей, действий и источника этих склонностей и этих действий.
Глава IV. Знание человека, рассматриваемого в отношении его организации и способностей, приобретаемых им в связи с ней, его склонностей и действий, а также в отношении источника, из которого эти склонности и эти действия проистекают.
Второй раздел. Знание растений.
Глава I. Знание растений, рассматриваемых в отношении: их общих свойств, отсутствия у них раздражимости и способности двигаться, а также в отношении разнообразия органов, служащих для их воспроизведения. {660}
Глава II. Знание растений, рассматриваемых в отношении: их отличительных признаков различного порядка, их общего распределения соответственно [существующим между ними отношениям] и постоянному плану природы.
Животные, несомненно, являются самыми замечательными из всех созданий природы, по крайней мере — на нашей планете. Среди живых тел, обитающих на ней, они, на самом деле, больше всего вызывают наше удивление высоким уровнем явлений, которые удалось осуществить их организации. И нигде, конечно, природа не дает нам наблюдать ничего, что могло бы превзойти это высшее проявление ее способностей, ничего, что могло бы даже приблизиться к нему. Однако чудесные явления, которые она нам показывает у животных, не у всех них проявляются одинаковым образом. Существуют среди них даже такие, которые низведены до такого низкого уровня, что наделены только животной жизнью и, следовательно, обнаруживают лишь первичное и наиболее простое явление организации. В этой связи можно также сказать, что одни животные почти бесконечно отдалены от других.
Ввиду того, что в своих действиях природа совершает все лишь постепенно, она действительно должна была прежде всего установить {661} явление наиболее примитивной жизни в теле самого простого животного и создать таким путем самых несовершенных животных. Точно так же она поступила и по отношению к растениям. Вслед за этим ей необходимо было последовательно усложнить организацию животных, даже умножить число органов и.таким образом увеличить число способностей, чтобы прийти к созданию наиболее совершенных животных, раскрывающих нам все то, что имеется самого замечательного в явлениях, которые удалось произвести организации.
Состояние животных с очевидностью показывает, что природа уже создала почти четверть всех известных нам животных прежде, чем смогла установить у них органическое явление, составляющее чувствование. Об этом факте я упоминал уже в моей «Philosophie zoologique» и я приведу самые веские доказательства этого во втором издании «Беспозвоночных животных»46. В самом деле, эти первичные животные движутся и производят действия лишь в результате возбуждений извне, воздействующих на их раздражимые части. Но те животные, организация которых, достигшая большой сложности, наделила их способностью чувствовать, стали обладать с этого времени глубоко внутренним чувством существования, ставшим для них действенным началом, побуждающим их, при помощи получаемых эмоций, производить действия без участия какого-либо акта воли, на что они еще не способны.
Кроме того, состояние животных показывает еще, что только после того, как природа достигла гораздо больших успехов в создании животных, она смогла наделить животных последних классов, из числа тех, которые уже обладали способностью чувствовать, также способностью образовывать представления, составлять суждения, производить выбор, одним словом — способностью выполнять умственные акты. Эти новые способности, полученные в дополнение к тем, которыми менее совершенные животные уже обладали, не мешали им пользоваться внутренним чувством, заставляющим их посредством эмоций, которые оно способно испытывать, действовать без участия какого-либо особого акта воли. Даже сам человек часто действует подобным образом. {662}
Что действительно замечательно у животных и чрезвычайно характерно для них, это — что они являются единственными природными телами, обладающими способностью совершать действия, т. е. приводить в движение части своего тела,— способностью, позволяющей большинству из них перемещаться. Таким образом, они на самом деле совершают действия только в результате возбуждения, но не в результате сообщения им движения.
Животные, гораздо более многочисленные и многообразные, нежели прочие живые тела, раскрывают нам в своих признаках и различного рода отношениях, установленных природой между ними, в явлениях, порождаемых их привычками, наконец, в разнообразных свойствах их организации — материалы еще недостаточно развитой науки, получившей название зоологии.
| {663} |

ЗНАНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ФАКТАХ [GONNAISSANCES DE FAITS]
1. Знание вселенной, природы, а также предметов, существующих в природе и благодаря ей.
2. Знание вещей, которые существуют или могут существовать благодаря всякого рода искусствам, а также знание предметов, являющихся продуктом [деятельности] животных в продолжение их жизни.
3. Знание качеств и свойств различных природных неорганических тел, фактов и явлений, которые эти тела производят, и законов, которым они подчиняются, одни — при движениях, другие — при претерпеваемых ими изменениях.
4. Знание различных фактов и явлений, раскрываемых природными живыми телами, способностей, которыми эти тела обладают, законов, которым они подчиняются, одни — при претерпеваемых ими изменениях, другие — при своих действиях.
5. Знание отношений между различными телами и разными другими вещами, определяемых: одни — путем вычислений, другие — путем доказательства.
6. Знание применения некоторых вещей и некоторых тел, а также знание приемов или способов их употребления, для того чтобы сделать эти тела или предметы выгодными, приятными, полезными.
ЗНАНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ РАЗУМА
[GONNAISSANCES DE TtAISON]
1. Знание выводов, принципов и теорий, установленных путем умозаключений, опирающихся на факты и направленных к выявлению в каждой совокупности вещей всего истинного, полезного или любопытного, что в них заключается. {664}
2. Знание принципов, долженствующих направлять поступки человека в целях наибольшей выгоды для индивидуумов и для общества; принципов, приобретенных благодаря внутреннему чувству и разуму.
3. Знание предметов, не обнаруживаемых посредством наших чувств и до [познания] которых человек возвысился при помощи воображения.
АНАЛИЗ ЗНАНИЙ [ОСНОВАННЫХ НА ФАКТАХ]
1. Знание вещей, которые существуют или могут существовать: Знание вселенной; знание природы; знание вещей, существующих в природе и благодаря ей: вне земного шара, внутри земного шара или на его поверхности.
Знание вещей, которые существуют или могут существовать благодаря разного рода искусствам, а также являющихся продуктом [деятельности] животных в продолжение их жизни.
2. Знание качеств и свойств различных вещей, а также знание наблюдаемых фактов и явлений, которые благодаря им происходят:
а) знание постоянных качеств и свойств различных тел и явлений, которые они неизменно вызывают (предмет физики; предмет химии);
б) знание разнообразных фактов и явлений, обнаруживаемых некоторыми телами согласно законам и вследствие причин, по-видимому, им присущих (явление жизни; явление движения под влиянием возбуждения; явление чувства; явление ума; источники действий животных и человека).
3. Знание наблюдаемых отношений и знание многих обнаруженных законов природы (отношения, устанавливаемые путем вычислений или расчетов; отношения, существующие между частями или произведениями природы; отношения, определяемые измерением или количеством. Предмет математики).
4. Знание умозаключений, выводов и теорий, направленных к выявлению в каждой вещи или в каждой совокупности вещей всего, что они могут раскрыть, а именно: что представляют собой науки; полезность, развитие, препятствия, трудности науки; деление наук на астрономические, зоологические, ботанические, минералогические, географические, геологические, физические, химические, механические, гидравлические.
5. Знание возможного применения некоторых вещей, а также знание приемов и способов, которые можно использовать для того, чтобы сделать некоторые вещи выгодными, приятными, ценными, полезными — для поддержания нашего существования (пищевые вещества), для нашего удобства (одежда, жилища и т. д.), для нашего удовольствия.
Для анализа знаний, связанных с этой важной темой, приобретенных нами путем наблюдений, и для изучения их разделим эти знания на следующие группы: {665}
Первый раздел. Качества и свойства различных неорганических тел, а также наблюдаемые факты и явления, относящиеся к ним.
Глава первая. Общие и частные свойства тел, рассматриваемых в их целостности.
1) Законы движения, которое может быть им сообщено или которому они могут подвергаться.
2) Явления и факты, обязанные им своим существованием, которые благодаря им происходят. Предмет общей физики.
Глава вторая. О природе различных тел, рассматриваемых со стороны составляющих их частей; о наблюдаемых законах и явлениях при изменения этими телами своего состояния и своей природы.
1) Законы и причины изменений и превращений, испытываемых телами, а также законы и причины образуемых ими соединений и разложений.
2) О разных видах сродства различных тел. Предмет химии.
Второй раздел. О разных фактах и явлениях, обнаруживаемых живыми организованными телами, и о способностях, которыми эти тела обладают.
Глава первая. Об общих явлениях жизни.
Глава вторая. О способностях растений (об их особой организации).
Глава третья. О явлении раздражимости, наблюдаемом во всех или-только в некоторых частях [тела] животных и даже человека, и о способностях, которыми это явление их наделяет.
Глава четвертая. О явлении чувства, наблюдаемом у некоторых животных и даже у человека, и о способностях, которыми оно их наделяет (внутреннее чувство).
Глава пятая. О представлениях, запечатлеваемых в органе ума некоторых животных и человека или оставляющих в нем след в виде ощущений, и о действиях, которые этот орган выполняет над приобретенными представлениями.
Глава шестая. Об источнике действий животных.
Глава седьмая. Об источнике действий человека.
Глава восьмая. История наиболее выдающихся и наиболее значительных человеческих деяний.
Глава девятая. История главнейших воззрений человека.
1. Знание вселенной. 2. Знание природы. 3. Знание вещей, существующих в природе и благодаря ей: вне земного шара — небесные тела (звезды), свет; внутри земного шара или на его поверхности — земная атмосфера, живые {666} тела; значение неорганических тел, образующих земной шар, и различных находящихся там флюидов.
4. Знание вещей, которые существуют или могут существовать благодаря разным искусствам: свободным (или изящным) искусствам; благодаря промысловым художествам, выполняемым механическими приемами; благодаря изобретательности человека; благодаря инстинкту или привычкам или же благодаря предметам, являющимся продуктом деятельности животных.
В этой части уже не будет рассматриваться непосредственное знание какого-либо тела, существа, какой-либо материальной вещи; здесь речь идет о различных неотъемлемых свойствах этих объектов.
Таким образом, в этой второй части я буду рассматривать качества и свойства различных неорганических тел, а также наблюдаемые факты и явления, которые ими обусловлены, наконец — различные способности, проявляемые живыми организованными телами. Эта тема охватывает широкую область, разработка которой необычайно увеличила объем человеческих знаний.
Следует отметить, что знания, о которых идет речь, также являются положительными знаниями, так как они касаются только фактов. В самом деле, если каждое из различных наблюдаемых в природе тел раскрывает соответствующее число фактов, то качества, свойства и способности этих различных тел, а также и явления, вызываемые многими из них, в свою очередь являются фактами установленными путем наблюдений. Эти качества, свойства, способности, наконец, наблюдаемые явления представляют собой реальные вещи, а не результат наших суждений и умозаключений.
Вторая часть
А. Знание качеств и свойств различных неорганических тел и явлений, которые они производят.
а) Знание общих и частных свойств тел, рассматриваемых в их целостности. {667}
1) Знание законов движения, которое они могут воспринимать, если оно будет им сообщено, или движения, которому они могут подвергаться.
2) Знание явлений, которые эти тела производят. Предмет общей физики.
б) Знание природы тел, рассматриваемых с точки зрения образующих их частей.
1) Законы и причины претерпеваемых телами изменений и превращений, а также законы соединений, которые они образуют, и разложений, которые в них происходят.
2) Знание разных видов сродства различных веществ.
Б. Знание разных фактов и явлений, обнаруживаемых органическими живыми телами.
а) Знание наблюдаемых отношений (сходство или несходство сравниваемых тел или существ); отношения природы или сущности и характера тел, устанавливаемые путем вычислений или расчета: отношения между звездами; отношения между живыми телами, между неорганическими телами; отношения количества или измерения (предмет математики).
Все эти отношения могут быть установлены путем доказательства.
б) Знание многих обнаруженных или замеченных законов природы. Эти законы постоянны и подчинены иерархическому порядку. Они управляют всеми видами движения: законы, управляющие движением небесных тел, перемещающихся в пространстве или вращающихся вокруг своей оси; законы света, излучаемого светящимися телами; законы движения тонких флюидов — теплорода, электричества, магнитного флюида; законы движений, происходящих во внутренних частях живых тел; законы, проявляющие свое действие при брожении, разложении, действии сродства и т. д.
В этой третьей части рассматриваются два рода весьма отличающихся друг от друга предметов, являющихся источниками многообразных человеческих знаний.
Рассматриваются отношения, наблюдаемые между различными телами или вещами. Эти отношения созданы природой. Их существование реально, постоянно. Знание их, таким образом, является действительно реальным. Но среди этих отношений одни доступны пониманию более или {668} менее легко, а их определение всегда является следствием того или иного нашего суждения...
Никакое наше знание в этой области не является положительным, Потому что все здесь есть результат наших суждений. И вот, так как нет ничего достоверного, кроме наблюдаемых фактов, т. е. кроме существования тел, которые одни лишь могут нам раскрыть эти факты, и так как отнюдь не об этих предметах здесь идет речь,— мы будем рассматривать в настоящем разделе наши знания, основанные на мнениях [connaissances d'opinion].
Кроме суждений, касающихся количественных отношений или измерений, все остальные наши суждения, какими бы правдоподобными, какими бы вероятными они ни были, являются только гипотезами. У нас никогда нет уверенности в том, что они составляют всю совокупность элементов, необходимых для их полной обоснованности, и что не были применены никакие другие. Наконец, мы никогда не бываем уверены в том, что объекты, о которых мы судим, были рассмотрены нами со всех точек зрения.
Несомненно, мы строим суждения, всегда исходя из рассматриваемых, предметов или фактов, но, кроме того, что мы можем упустить из виду какие-нибудь отношения, не знать, недооценивать их или заменять их каким-нибудь неверно понятым посторонним элементом, помимо всего этого, между рассматриваемыми фактами и теми выводами, которые мы считаем возможным или даже необходимым извлечь из них, таится до некоторой степени скрытая гипотеза, не вызывающая, однако, сомнений. Обычно ее источником являются предрассудки, то более или менее распространенные, часто весьма древнего происхождения, иногда пользующиеся доверием, иногда поддерживаемые той или иной заинтересованностью.
1. Знание выводов, принципов и теорий, полученных путем умозаключений, основанных на фактах и направленных к выявлению в каждой вещи или в каждой совокупности вещей всего, что в них содержится истинного, полезного, любопытного. {669}
а) Философия физических наук, б) Философия химических наук, в) Философия естественных наук — геологических, минералогических, ботанических, зоологических.
2. Знание принципов, которые должны направлять действия человека в интересах наибольшей пользы для индивидуума и для общества и которые были приобретены при посредстве внутреннего чувства и разума.
Гражданская мораль:
Частная, долженствующая руководить индивидуумами в их взаимоотношениях.
Общая, долженствующая руководить установлением законов, направлять политическую и экономическую деятельность правительств.
3. Знание предметов, не подчиняющихся нашим чувствам и до познания которых человек возвысился благодаря воображению.
Религиозная мораль:
Знание наиболее высокой религиозной морали, приобретенное самыми возвышенными мыслями человека,— бог, религия, различные теогонии.
Знание духовных начал всех порядков — душа, духи, магия, предвидение.
Философия — это собрание обширного объема знаний на высоком уровне.
Они приобретаются путем привычного упражнения способности суждения, в сочетании с постоянной привычкой наблюдать, обо всем размышлять, и с непрерывным стремлением возвыситься до познания как физических, так и .духовных причин всех наблюдаемых фактов. При этом время, которое приносит опыт во всем, что нас сильно занимает, дает индивидууму, привыкшему упражнять свою способность суждения и широко менять объекты своего внимания, ту полноту знаний и ту высокую степень разума, сочетание которых образует выдающееся качество, одно лишь заслуживающее название философии.
Философию можно обрести, но ей нельзя научиться. Индивидуум усваивает ее с точением времени, в результате сочетания следующих условий: 1) природной склонности к наблюдению; 2) всестороннего упражнения способности суждения; 3) склонности к размышлению и созерцанию, порождаемой в сильном и хорошо развитом уме несчастьями и тяжелыми моральными страданиями.
Те, кто выдают себя за философов и претендуют на знание философии, ясно показывают, что они не имеют точного представления о ней, не знают {670} того, о чем говорят, одним словом, не возвысились до источника причин, наделяющих тот или иной индивидуум выдающимися качествами, образующими подлинного философа. Они величают философами людей, отличающихся от других только мизантропией, странностями и непомерным тщеславием.
Выдавать себя за философа, по моему мнению, почти то же самое, что выдавать себя за человека выдающегося ума [homme d'esprit]. Недостаточно желать быть человеком выдающегося ума, чтобы действительно быть им. Предрасположение, полученное нами от природы, а также обстоятельства в которых мы находимся, делают каждого из нас тем, чем мы являемся [на самом деле].
Науки являются совокупностью принципов, относящихся к определенным группам рассматриваемых предметов, или совокупностью вопросов, заимствованных у природы. Вне природы нет ничего, что могло бы дать человеку возможность построить какую бы то ни было науку.
Принципы, установленные и признанные для каждой науки, образуют ее-особую философию. Каждая наука зиждется исключительно на своей философии, ибо факты и наблюдения, лежащие в основе ее принципов, по существу отличаются один от другого. Никакие принципы наук, являющиеся результатом наших суждений, не могут сравниться по достоверности с обусловившими их тщательными наблюдениями и установленными фактами.
Наблюдаемые предметы и факты являются частью природы. Выводы, наблюдения, одним словом — теория, являются результатом умственной деятельности человека, иными словами, продуктом нашего ума. Они безусловно отражают нашу слабость, ограниченность наших средств.
Только математик может доказывать, тогда как логик способен лишь. рассуждать. Это не подлежит сомнению. В самом деле, выводы, которые логик называет доказательствами, в сущности являются лишь суждениями, умозаключениями, а известно, что одним умозаключениям почти всегда можно противопоставить другие. И вот, если подвергают сомнению все, что не доказано, то вполне позволительно сомневаться в обоснованности наших суждений, ибо известно, что последние являются выводами, извлекаемыми нами из сравнения нескольких объектов; ряды такого рода выводов образуют умозаключения; из рассмотрения нескольких умозаключений мы получаем выводы более общего порядка, которые превращаем в то, что называем принципами; наконец, один или несколько рядов принципов, относящихся: к определенным группам рассматриваемых объектов, образуют теории.
Именно таким путем постепенно возникли различные науки. Каждая из них приобрела для нас своего рода реальность лишь после того, как выдвинутые {671} для ее установления принципы получили либо всеобщее одобрение, либо одобрение большинства тех, кто изучает соответствующие объекты.
Однако выдвигаемые при этом принципы являются результатом суждений, а их признание есть не что иное, как следствие суждений тех, кто способствовал их установлению. Наконец, поскольку это одобрение является одобрением большинства, оно вообще представляет незначительную ценность, ибо очевидно, что во всех областях человеческих знаний более образованные люди всегда оказываются в меньшинстве.
Если я пишу об этом предмете, то для того, чтобы высказать следующую мысль:
Когда науки приобретают всеобщее распространение, когда они делаются общим достоянием, одним словом, когда всякий участвует в них, они в полном смысле слова гибнут. Ложные взгляды, самые нелепые теории берут верх; авторитет подкрепляет и поддерживает заблуждения; ничтожные идеи становятся общим достоянием. Множество сталкивающихся противоречивых умозаключений порождает замешательство. В науке в целом утрачивается связь ее частей, а самые очевидные истины погружаются во тьму. Число всевозможных ученых обществ растет; каждый городишко имеет свои ученые общества и т. п. Тщетно гений, объединяющий в себе максимум знаний, пытается противостоять потоку, поглощающему и извращающему науки. Его совершенно не слушают, его смешивают с множеством тех посредственных людей, которые беспрерывно пишут, которые, для того чтобы объединить несколько идей, проповедуют узкие, ограниченные взгляды, провозглашая их в качестве истины.
Когда науки становятся доступными всем, они не только приходят в упадок и регрессируют, но, помимо того, утрачивают всякое значение. Их прогресс является тогда не чем иным, как маскировкой. Истинная цель сводится при этом для каждого индивидуума, занимающегося науками, к чистой спекуляции.
Кто применяет спекулятивный метод, тот не может двигать вперед науку.
Всякий спекулятивный метод в науках чужд цели, которая может непосредственно служить развитию культивируемой науки. Единственная цель, которой следует руководствоваться в любой науке, в любом ее разделе, это отыскание истины в каждом рассматриваемом объекте; всякая иная цель чужда науке и является спекуляцией. Такая цель может быть полезной лишь индивидууму, ставящему перед собой эту цель. Однако редко бывает, чтобы одновременно она была полезна и для науки. {672}
Среди различных форм спекулятивного направления, побуждающих рядовых людей культивировать науки или какую-либо определенную науку, следует назвать главным образом:
1) желание приобрести громкую репутацию, иными словами — известность;
2) желание выдвинуться среди других людей и подчинить себе своих конкурентов;
3) желание приобрести отличия, наиболее высокие и выгодные должности, пенсии, награды в тех случаях, когда положение вещей благоприятствует тому, чтобы индивидуумы, занимающиеся науками, могли извлекать из нее различного рода преимущества.
Человек не в состоянии ничего сотворить, даже ни одного представления, без образца; но с помощью представлений, являющихся образцами, он может, видоизменяя и преобразовывая их силою своего воображения, составить множество новых, чрезвычайно разнообразных представлений («Philosophie zoologique», ч. III). Этим путем человек возвысился до великой идеи, до самой высокой из своих мыслей.
В самом деле, заметив, что с помощью своей изобретательности и ума он научился производить вещи, осуществимые только благодаря ему, человек понял необходимость отличать произведения от его творца, как и отличать всякое следствие от его причины.
И вот тогда, осознав, что вселенная, природа могут быть лишь делом или произведением бесконечно могущественной воли, он возвысился своей мыслью до идеи о верховном творце самой природы и, следовательно, всех вещей.
Человек, как я сказал, не может ничего сотворить. Теперь я добавлю, что сама природа, гораздо более могущественная^ чем он, по тем способностям, которые она получила от верховного существа, давшего ей бытие, все же оказывается в таком же положении. Однако она беспрерывно перемещает, превращает, видоизменяет, формирует, деформирует, искажает естественные свойства [тел], воссоединяет, разрушает и воспроизводит все, что подчиняется ее могуществу и ее законам, ничего не создавая в действительности. Что же означает, в самом деле, творить?
Творить означает производить действие, идея которого почерпнута из идеи-образца, видоизмененной человеком посредством противопоставления.
Делать что-либо при помощи чего-либо — это формировать, составлять, строить и т. д. и т. п. Все это не значит творить. {673}
Делать что-либо из ничего — это значить творить. Эта способность может быть атрибутом лишь могущества, давшего бытие самой природе. Мы не в состоянии понять этой способности, ибо природа не дает нам ни одного примера ее, а мы познаем все лишь через природу.
Нет более древней и более распространенной идеи, чем идея, допускающая существование добра и зла в природе, и мало есть вопросов, которые были бы столь популярны среди философов, как вопрос о том, преобладает ли добро над злом, или же зло берет верх, или, наконец, добро и зло уравновешивают друг друга.
Человек, относящий все к самому себе и считающий, что все было создано для него, часто имеет возможность наблюдать, что среди индивидуумов его вида одни, и такие всегда составляют меньшинство, пребывают п весьма благоприятных условиях или в завидном положении, тогда как другие испытывают всевозможные бедствия и являются жертвой несчастий и всякого рода страданий.
Если человек подумает о ходе изменений, непрерывно производимых различными причинами вокруг него и в нем самом, и если он уделит некоторое внимание тем воздействиям, которые эти причины оказывают на него и на все, что его затрагивает, как, например, влияния, оказываемые на него землетрясениями, вулканическими извержениями, эпидемиями, различными болезнями, последствиями преклонного возраста, всякого рода несчастными случаями и т. д., он убедится, что подвластен множеству неминуемых опасностей и разных бедствий, которые беспрерывно удручают его и угрожают ему.
Он будет чувствовать себя еще более достойным сожаления, если направит свое внимание на нравственное зло, которому его постоянно подвергает неизменный порядок вещей, ибо в результате столкновения индивидуальных интересов, различных страстей, неодинаково развивающихся у отдельных индивидуумов, неравенства интеллекта, образования, наконец, в результате искусства достигать своей цели, доведенного до известной степени совершенства у одних людей в то время как другие, составляющие огромное большинство, почти не подозревают о нем, человек повсюду и всегда является жертвой несправедливости, предрассудков, привилегий, зависти, произвола, опустошительных войн и т. д.
| {676} |
ПРИЛОЖЕНИЯ

| {677} |

Сто пятьдесят лет назад, в 1809 г., вышел в свет знаменитый труд великого французского естествоиспытателя Жана-Батиста Ламарка — «Философия зоологии». В этом труде было дано изложение и обоснование учения об историческом развитии органического мира. Ламарк был первым ученым, создавшим целостную эволюционную теорию.
Еще до выхода в свет «Философии зоологии» Ламарк сформулировал свою эволюционную концепцию в ряде «Вступительных лекций к курсу зоологии», начиная с лекции, прочитанной в Париже в Национальном музее естественной истории 11 мая 1800 г. После 1809 г. Ламарк продолжал уточнять и развивать свои эволюционные воззрения в других работах.
Развитие науки и философии XVIII и начала XIX вв., обусловленное общественными потребностями эпохи, создало необходимые предпосылки и для всего многогранного научного творчества Ламарка и для созданной им эволюционной теории. XVIII век накопил во всех областях биологии и особенно в области систематики большой, новый фактический материал. Материал этот требовал обобщения, в науке и в философии все яснее определялась задача, замечательно охарактеризованная Ф. Энгельсом: естествознание из науки преимущественно собирающей должно было стать наукой упорядочивающей, {678} наукой о происхождении и развитии природных тел, о связях, соединяющих процессы природы в одно великое целое.
Несмотря на метафизический характер естествознания и философии XVIII в., смелые мыслители в разных странах развивали отдельные представления, «пробивавшие брешь в окаменелом мировоззрении». Ломоносов и Радищев в России, Бюффон, Ламеттри, Дидро во Франции, Эразм Дарвин в Англии и многие другие ученые и философы делали глубокие и правильные обобщения, в той или иной мере отображавшие объективные закономерности развития природы. Более глубокая степень познания живой природы и тех закономерностей, которым подчинены органические явления, была той основой, на которой возникали и отдельные смелые обобщения эволюционного характера, отдельные неполные и подчас очень своеобразные и противоречивые элементы эволюционизма.
Ламарку удалось пойти в этом направлении дальше других мыслителей его эпохи, он не только весьма полно и логично разработал целостную эволюционную концепцию, но и приблизился к пониманию некоторых важнейших закономерностей исторического развития органического мира. В этом ему помогли и его философские, материалистические воззрения на природу и его обширный и глубокий опыт выдающегося естествоиспытателя. Ламарк-философ, материалист деистического толка в идейном отношении близок к тому великому просветительному движению, которое подготавливало в сфере идеологии почву для торжества французской буржуазной революции, к французской материалистической философии XVIII в. Ламарк-естествоиспытатель обобщил и синтезировал обширные научные материалы в различных отраслях естествознания. Ламарку принадлежат ставшие классическими исследования в области ботаники и зоологии, палеонтологии и геологии, в области построения общебиологических теорий и психофизиологии. Его эволюционное учение было не блестя щей догадкой, а составной частью общефилософской и общебиологической концепции великого натуралиста и опиралось на его разносторонние и глубокие знания фактического естественнонаучного материала. {679}
Не приходится доказывать, что особенности «общественной практики» — производственной жизни его времени, характерные черты «мыслительного материала» — философских идей эпохи, ограниченность научного, эмпирического материала,— все это не могло не наложить отпечатка на эволюционные воззрения Ламарка. Но ведь о великих деятелях прошлого мы судим не по тому, чего они не сделали или не знали по сравнению с сегодняшним днем науки и философии, а по тому, что нового и ценного они внесли в свое время, по сравнению со своими предшественниками и современниками, и что из внесенного ими в развитие человеческой мысли сохранило свое значение и до наших дней.
О Ламарке много писали, много спорили, обращая подчас внимание на какую-либо одну из сторон его воззрений. Много Ламарка и извращали. А еще больше его игнорировали, отделываясь переходившими из поколения в поколение поверхностными, трафаретными и зачастую ошибочными характеристиками его взглядов. При этом забывали французское изречение, которое любил К. А. Тимирязев: «Nous devons aux morts ce que nous devons aux vivants — la verite!» («Наш долг по отношению к мертвым тот же, что и по отношению к живым,— правдивость!»). А правда о великом естествоиспытателе-философе Ламарке гласит одно: заслуги его в истории человеческой мысли велики, его идеи представляют для нас не только исторический интерес, все прогрессивное, что содержится в его воззрениях и прежде всего в его эволюционном учении, представляет непреходящую научную ценность и навсегда вошло в сокровищницу мировой науки.
Начнем с рассмотрения большого вопроса — с характеристики мировоззрения Ламарка и философской основы его общебиологических и эволюционных концепций. Напомним прекрасные слова Ф. Энгельса о том, что без теоретического, мышления «невозможно связать между собою хотя бы два факта природы или уразуметь существующую между ними связь»*, и постараемся разобраться {680} в вопросе, какая система теоретического мышления помогла Ламарку создать первое целостное учение об историческом развитии органического мира.
Анализ трудов Ламарка и его собственные многочисленные высказывания делают ясным ответ на интересующий нас вопрос. Мировоззрение Ламарка должно быть охарактеризовано как мировоззрение материалистическое, и именно оно помогло ему создать эволюционное учение. Однако ответ, данный в такой общей форме, нуждается в уточнении: с какого рода материализмом встречаемся мы в трудах и высказываниях Ламарка? Нужно сказать, что это была несколько своеобразная форма материализма. В нем отчетливо выступают на первом месте элементы механицизма и созерцательности французского материализма XVIII в., очень явственны элементы ньютонианских воззрений, а иногда Ламарк начинает даже говорить языком античных материалистов. В общем же и целом, Ламарк примыкал к деистической форме материализма и на особенностях его деистических воззрений необходимо остановиться подробнее.
Напомним, что деисты, критикуя религию — библейские представления, утверждали, что все явления природы происходят по естественным законам и отвергали непосредственное вмешательство бога в дела природы. В этом отношении деисты занимали материалистические позиции. Вот почему Маркс говорил, что «деизм — не более, чем удобный и легкий способ отделаться от религии,— по крайней мере для материалиста», а Энгельс писал о Франции XVIII в.: «...в той или иной форме — как открытый материализм или как деизм — материализм стал мировоззрением всей образованной молодежи во Франции»*.
В то же время деисты были в той или иной степени непоследовательными материалистами, они не отбрасывали целиком представления о творце, которому отводили роль «первопричины», «законодателя», «первого толчка», давшего начало вселенной и т. п. К деизму примыкают и философские воззрения Ламарка. {681}
Говоря о деизме, нужно иметь в виду, что деизм был направлением весьма разнородным: были деисты, являвшиеся, в сущности говоря, дуалистами, а были деисты, для которых деистические высказывания служили просто прикрытием их материалистического — атеистического мировоззрения. К деистам этого последнего толка и относится в первую очередь вышеприведенная характеристика, данная Марксом и Энгельсом. Нельзя ставить знака равенства между деизмом Локка и Толанда, Монтескье и Вольтера, Руссо, Кондильяка и того же Ламарка. Заметим попутно, что вероятно эта разнородность деистического направления обусловливает значительную пестроту в оценке деизма, существующую в нашей философской литературе.
Какую же форму деизма представляют взгляды Ламарка? Рассматривать ламарковский деизм как своего рода маскировку нет никаких оснований. Неоднократно и настойчиво (даже в своих черновых заметках) Ламарк возвращается к вопросу о «первопричине» и роли «верховного творца», четко и ясно формулирует свое отношение к вопросу. Он подчеркивает даже, что считает мысль о верховном творце, о первопричине природы и вселенной логически необходимым выводом из анализа фактов и наблюдений. И в то же время, отдав дань «верховному творцу», Ламарк дальше неумолимо выдворяет его из природы, нигде не вмешивает его в дела вселенной, природу пытается объяснить «из самой себя», исходя из господствующих в ней необходимости и закономерностей, решительно возражает против любых разновидностей идеализма, против креационизма, антропоцентризма, витализма, натур-теологии и т. д. Иными словами, Ламарк в своем толковании природы выступает как ученый и философ-материалист. Это основное и решающее в оценке Ламарка. В этой связи нелишне напомнить слова Маркса: «Человек, который судит о каждом философе не по тому, что тот вносит в науку, не по прогрессивному, что было в его деятельности, но по тому, что было неизбежно преходящим, реакционным,... такой человек лучше бы молчал»*. Это, разумеется, не означает, что мы должны {682} замалчивать или приукрашивать то, что у Ламарка было «неизбежно преходящим» (а такие тенденции иногда обнаруживаются). Отдельные черты его деистической непоследовательности — отступления от материализма — должны быть указаны. Нельзя затушевывать и отдельные противоречия в исканиях и рассуждениях этого большого и интересного мыслителя.
В какие же формы и формулы облекается ламарковский деизм?
Ламарк задается вопросом, имеет ли природа (в нашем широком понимании этого слова) начало. Можно ли «предположить, что природа вечна, что она не имеет творца»?
На этот вопрос Ламарк отвечает отрицательно, считая, что имеется «могущественное начало, создавшее природу», что природа и вселенная (эти понятия Ламарк не отождествляет) имеют свою «первопричину». Существуют два «сотворенных начала»—материя, являющаяся основой физических тел, совокупность которых составляет вселенную, и природа как особый «порядок вещей», состоящий из движения, законов, времени и пространства. «Бог сотворил материю, создал различные виды ее и наделил каждый из них свойством неразрушимости — свойством, присущим всем сотворенным предметам. ...Сущность материи — служить основой вещества; это вещество, являющееся физическим телом, чрезвычайно делимо, по крайней мере, до основных молекул. Кроме того, материя по существу пассивна, инертна, лишена собственного движения и активности...»*
В различных своих сочинениях Ламарк без конца повторяет этот свой тезис о пассивности материи. «В самом деле, невозможно,— пишет Ламарк в статье «Способность»,— чтобы какой-либо вид материи сам по себе обладал какой бы то ни было способностью к движению, активностью, иными словами способностью делать что-либо»**.
Что же такое природа? На этот вопрос Ламарк отвечает следующим образом:
«Если данное мною определение природы обосновано, то из него следует, что природа не что иное как совокупность метафизических {683} категорий, следовательно, предметов, не имеющих ничего общего с частями вселенной; что источник, из которого эти предметы берут начало, непознаваем для нас и что существование их следует приписать особому творческому акту, воле всемогущего творца всех вещей; наконец, что эта совокупность образует порядок вещей, неизменно действенный, обладающий средствами, делающими возможным осуществление и упорядочение всех его проявлений. Таким образом природу составляют:
1. Движение, которое нам известно только как изменение перемещающегося тела и которое не присуще ни одному виду материи, ни одному телу, как таковому, но источник которого неисчерпаем, а само оно распространено во всех частях тела.
2. Законы всех порядков, постоянные и неизменные, которые управляют всеми движениями, всеми изменениями, претерпеваемыми телами и которые вносят во вселенную всегда изменчивую в своих частях и всегда неизменную в своем целом, нерушимые порядок и гармонию»*.
Кроме того, к природе отнесены еще два начала — пространство и время.
Позиция Ламарка в этом важнейшем философском вопросе является в сущности ньютонианской. Ньютонианские концепции вообще сильно повлияли на формирование метафизических и механистических воззрений материализма XVIII в. (хотя, как известно, ряд философов-материалистов пытался в той или иной мере их преодолеть). Утверждение, что движение не вечно, отрыв движения от материи, отрыв материи и движения от пространства и времени, представление о «первопричине» и «первом толчке» — все это характерно для указанной концепции.
Позиция эта является несостоятельной и опасной, приводящей неизбежно к отступлению от материализма. Движение мы понимаем как основное, неотъемлемое свойство материи, как форму существования материи. Вечное, несотворенное «самодвижение» — это различные {684} формы изменения самой материи, не нуждающейся ни в каком первоначальном толчке извне. Напомним известные слова Ф. Энгельса: «Движение, рассматриваемое в самом общем смысле слова, т. е. понимаемое как форма бытия материи, как внутренне присущий материи атрибут, обнимает собою все происходящие во вселенной изменения и процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышлением»*.
Мы видим, что Ламарк не поднялся до понимания движения как формы существования материи. Ламарк настойчиво подчеркивает, что движение совершенно чуждо материи, привнесено извне, материя же является чем-то «пассивным», инертным. Подобная постановка вопроса с неизбежностью ведет к поискам двигателя, находящегося вне материи, к поискам «первопричины» — верховного творца. В этом пункте неизбежен был отход деистической системы Ламарка от материализма, неизбежны были попытки найти причины изменения и развития вселенной вне материи, в сотворенных движении и законах, стоящих над материей и движением.
Не приходится доказывать, что подобное понимание закона в корне отличается от диалектико-материалистического понимания объективных закономерностей природы, как выражения необходимых, существенных, причинных связей вечно развивающейся природы, внутренне присущих самой движущейся — изменяющейся материи. «Мир есть закономерное движение материи, и наше познание, будучи высшим продуктом природы, в состоянии только отражать эту закономерность»,— пишет В. И. Ленин**.
Взгляды Ламарка в этом важнейшем вопросе резко отличаются от взглядов французской материалистической философии XVIII в., передовые представители которой при всех своих недостатках в трактовке движения пытались преодолеть ньютонианскую концепцию. Ламарк здесь делает шаг назад по сравнению с Дидро, Гольбахом и др. Сопоставим с приведенными выше словами Ламарка хотя бы {685} такие утверждения Ламеттри, Дидро и Гольбаха. «Материя содержит в себе,— пишет Ламеттри в «Трактате о душе»,— оживляющую ее движущую силу, которая является непосредственной причиной всех законов движения»*. Гольбах, говоря о вечности и неразрывности материи и движения утверждает: «Движение есть способ существования, вытекающий необходимым образом из сущности материи» и дальше: «...Если у нас спросят, откуда явилась материя, откуда появилось у материи движение, мы ответим, что по тем же основаниям она должна была двигаться от вечности, так как движение есть необходимый результат ее существования, ее сущности и таких ее первоначальных свойств, как протяжение, вес, непроницаемость, фигура и т. д.»**.
Философы-материалисты показывали, к чему приводит отрыв материи от движения. Ламеттри характеризует этот отрыв как «гипотезу, которую пытаются приспособить к данным веры»***, а Дидро говорит: «Тело, по мнению некоторых философов, не одарено само по себе ни действием, ни силой. Это ужасное заблуждение, стоящее в прямом противоречии со всякой физикой, со всякой химией. Само по себе, по природе присущих ему свойств, тело полно действия и силы, будете ли вы рассматривать его в молекулах или в массе. Чтобы представить себе движение, прибавляют они, вне существующей материи, следует вообразить силу, действующую на нее. Это не так»****.
Нельзя согласиться и с тем, как разрешает Ламарк большой философский вопрос о понятии времени и пространства в их отношении к движению. Он рассматривает пространство и время как объективную {686} реальность и в этом смысле стоит на позиции материализма. В то же время его мысли и по этому вопросу в общем сформулированы в духе ньютонианских воззрений, трактующих время и пространство, как нечто внешнее по отношению к материи и движению.
Диалектический материализм понимает время и пространство как объективную реальность, как основные формы существования движущейся материи. Напомним по этому вопросу слова В. И. Ленина: «Признавая существование объективной реальности, т. е. движущейся материи, независимо от нашего сознания, материализм неизбежно должен признавать также объективную реальность времени и пространства, в отличие, прежде всего, от кантианства, которое в этом вопросе стоит на стороне идеализма, считает время и пространство не объективной реальностью, а формами человеческого созерцания... В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени»*. Здесь же В. И. Ленин напоминает слова Ф. Энгельса о том, что пространство и время — «основные формы всякого бытия».
Особого внимания заслуживает трактовка Ламарком понятия закономерности. В трактовке законов обнаруживается противоречивость Ламарка. С одной стороны, он декларирует, что законы сотворены богом, стоят вне материи и над материей, неизменны и нерушимы, устанавливают непреложную гармонию в природе и т. п. С другой же стороны, Ламарк не только настаивает на абсолютном господстве в природе причинной необходимости, объективной закономерности, но интересно рассуждает о роли «обстоятельств» в «реализации» закономерностей. Так, в статье «Вид» Ламарк заявляет, что «законы всецело определяются теми обстоятельствами, при которых природа действует»**. В «Аналитической системе» Ламарк решительно утверждает: «В самом деле, неоспоримая истина, повсюду подтверждаемая наблюдением, гласит, что все то, что совершает природа, всегда подчинено власти обстоятельств, требуемой ими {687} необходимости». Однако несколько дальше мы найдем в одном и том же высказывании и правильные и неправильные мысли. Так, Ламарк пишет: «Признав, что природа — не что иное как безграничный, постоянный, подвластный законам порядок вещей и что ее законы всегда действенны, несмотря на то, что при всяком изменении обстоятельств новые законы заменяют те, которым все было подчинено раньше, словом, замечая, что повсюду царит нерушимая гармония и что этот прекрасный порядок вещей, в свою очередь, есть нечто сотворенное — человек приходит к возвышенной мысли о верховном творце всего существующего...»*.
Эта формулировка Ламарка противоречива. С одной стороны, здесь высказывается мысль о соотношении законов и «обстоятельств». В этом мы усматриваем некоторое приближение к историческому пониманию законов природы, идущее вразрез с фаталистическим детерминизмом. Понятие «закон» начинает терять здесь метафизический привкус. Но в то же время Ламарк склонен приписать это соотношение законов и обстоятельств гармонии, установленной творцом, т. е. он не преодолевает метафизики.
Говоря о ламарковской трактовке законов природы, нельзя не отметить характерного для него отрицания случайности. «...Разве не известно, что слово случай свидетельствует только о нашем незнании причин»,— утверждает Ламарк**.
Ламарк прав, выдвигая везде на первое место категорию объективной необходимости, объективные законы развития. Но он неправ, отрицая случайность, понимая под случайностью только наше незнание причин того или иного явления. Для Ламарка это отрицание случайности весьма характерно и вытекает из особенностей его деистической интерпретации природы, из его переоценки «гармонии». Он метафизически трактует случайность и необходимость, как две категории, взаимно исключающие друг друга. Как известно, диалектический материализм считает, что в природе и обществе {688} господствует необходимость, закономерность, но не отрицает и объективного существования случайности как формы проявления необходимости, понимание чего имеет огромное значение и в трактовке вопросов эволюции органического мира.
Таковы общефилософские воззрения Ламарка. Эти воззрения, хотя и претерпевали некоторую эволюцию на протяжении долгой творческой жизни Ламарка, в основе своей оставались неизменными. Однако, отведя «верховному творцу» роль «первопричины», «первого толчка», Ламарк дальше решительно «отделывается» от бога. Бог выдворяется из мироздания, и все, что в нем совершается, все, что в нем создается, образуется силами природы и материи, подчиняясь причинной необходимости. «Природа, это могущественное действенное начало, разделила материю, подвластную исключительно ей одной, образовав из нее различного рода скопления, сочетания масс, всевозможные смеси, бесконечно разнообразные соединения и т. д. и т. п., что с течением времени постепенно привело к образованию всех существующих тел. Совокупность всех этих произведенных тел составляет то, что мы называем физической вселенной, и эта физическая вселенная в том состоянии, в котором мы ее видим, является исключительно плодом деятельности природы»*. Ламарк решительно и безоговорочно отбрасывает мысль о том, что какое бы то ни было тело, будь то минерал или животный вид, может быть непосредственным созданием творца.
Если в своих самых общих воззрениях, касающихся «основных элементов» мироздания, Ламарк не смог обойтись без «творца-первопричины», то затем, переходя к «полю реальностей» (champ des realites), обсуждая дела природы, Ламарк с исключительной последовательностью и страстностью отвергает всякое вмешательство творца. Для Ламарка совершенно неприемлемы какие бы то ни было религиозные представления о сотворении, о сверхъестественном и чудесном, могущем нарушить законы природы. Отсюда его отношение к религии.
| {689} |
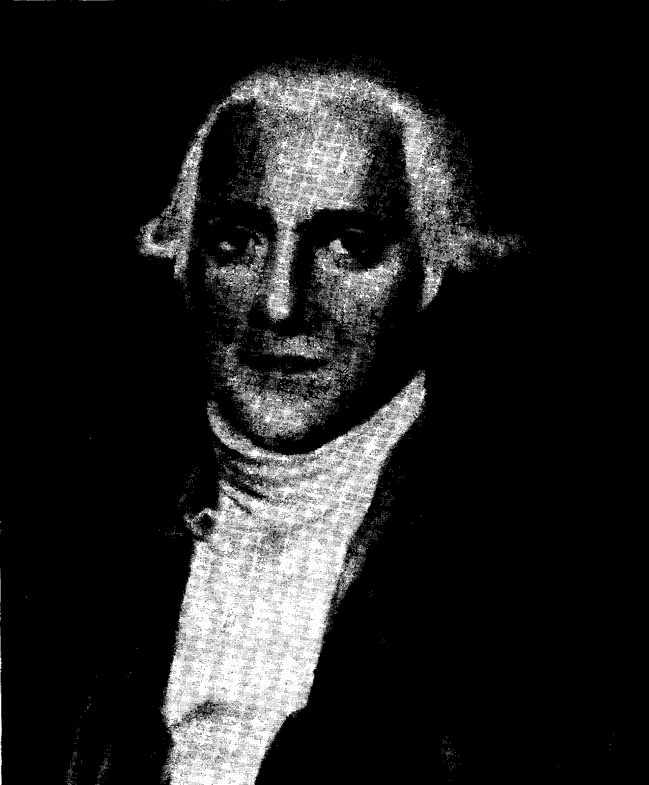 |
ЛАМАРК В МОЛОДОСТИ |
| {690} |
О религии Ламарк вынужден говорить осторожно, здесь иногда ему приходится делать оговорки явно маскировочного характера (наподобие известной его оговорки в «Философии зоологии», касающейся происхождения человека). Общественная обстановка во Франции в начале прошлого века, рост реакционных клерикальных умонастроений в правящих кругах делали опасными выступления против религии. Но при всех его оговорках, совокупность взглядов Ламарка прозвучала как решительный вызов ученого-материалиста существующей и господствующей религии. Так это и было воспринято его современниками, которые не придали никакого значения деистическим оговоркам Ламарка, его деистической непоследовательности, а обратили внимание на то, что им казалось основным и решающим (и что действительно таковым и является),— на материализм Ламарка. Сошлемся на несколько фактов.
Сен-Бёв (Sainte-Beuve), слушавший лекции Ламарка, сравнивает Ламарка с великими материалистами античной Греции — Фалесом и Демокритом и пишет: «Не в меньшей степени проявлялась его ненависть, его философская враждебность в отношении Потопа, библейского Творения и всего, что касалось христианского вероучения». Бленвилль и Мопье (Blainville et Maupied) констатируют, что: «Ламарк развивает в крайней форме антитеологический тезис... В действительности он развил в крайней форме молекулярную и атомистическую концепцию Эпикура, считая, что все неживые и живые тела произведены только силами природы, которая воздействует на материю слепо и по необходимости... Правда, в конце своей жизни он допустил существование бога, творца материи и природы. Но его бог очень походит на бога Эпикура, так как, создав однажды материю и природу, он все предоставил слепой необходимости и больше не вмешивался; таким образом провидение было разрушено...»*. Известно, что на «Философию зоологии» Ламарка обрушился в своих «Recherches philosophiques» один из главных идеологов клерикальной реакции периода реставрации — виконт де Бональд. {690}
Особенно раздражала реакционеров-клерикалов позиция, занятая Ламарком в вопросе о происхождении человека. Ламарк, как известно, во всех своих сочинениях последовательно распространял эволюционную точку зрения и на человека, утверждал, что человек произошел от обезьян. Этим был нанесен очень чувствительный удар по религиозному антропоцентризму, рассматривавшему человека как «венец творения» и «центр мироздания».
Антирелигиозную устремленность идей Ламарка хорошо понимали не только во Франции. Мы обнаружили в предисловии, написанном берлинским профессором Вреде (Е. F. Wrede) к немецкому изданию «Гидрогеологии» Ламарка, утверждение, что Ламарк «в области исследования природы освободился от всяких теософических и телеологических предрассудков»*. Эта антителеологическая направленность воззрений Ламарка явилась одной из причин враждебного к нему отношения со стороны реакционных правителей и мыслителей, со стороны клерикалов и их приспешников, явилась также одной из причин неуспеха его эволюционного учения.
Нельзя в связи с вышеизложенным не напомнить и хорошо известного историкам биологии факта о резко отрицательном отношении Кювье и его учеников к идеям Ламарка. Причину этого следует усматривать, в первую очередь, в приверженности Кювье к религиозному догматизму и идеалистической метафизике. Отсюда и нападки на Ламарка, принимавшие подчас недостойные формы.
Характерны и другие показатели отношения Ламарка к религии, так, например, любопытно в этой связи предположение Ламарка, что религия и представления о загробной жизни возникли из страха смерти. Мысль эта не нова, но в контексте всех воззрений Ламарка она звучит как попытка дать рациональное объяснение возникновению религии и противопоставить его мысли о религии как «божественном откровении».
Очень интересна и та критика, с которой Ламарк обрушивается на пантеизм. На первый взгляд может показаться, что мы встретились {691} здесь со спором двух течений в материализме (обоих в известной мере непоследовательных) — пантеистического и деистического. Однако это не так. Представляет большой интерес разобраться в том, с каких позиций Ламарк критикует пантеизм, критикует утверждение, выраженное формулой — «природа есть сам бог». Нам кажется, что вопрос заключается в следующем. Пантеистическое отождествление бога и природы в истории философии имело двоякую направленность. В одних случаях (например, у Спинозы) эта был материализм — бог растворен здесь в природе, выражает необходимость, совокупность законов природы. В других случаях в форму пантеизма облекается идеалистическое миропонимание (мир существует в боге, который является высшим, сверхприродным, разумным началом). Если вдуматься в позицию Ламарка, то становится ясным, что острие его критики направлено против идеалистического пантеизма, против божественного «разумного начала», не подчиненного законам, против «мировой души», растворенной во вселенной и ею управляющей. Иными словами,— Ламарк с Материалистических позиций критикует прежде всего идеалистический пантеизм. Другое дело, что Ламарк критикует пантеизм с позиции материализма деистического толка и поэтому в его высказываниях можно найти противоречивость, известную непоследовательность.
Ламарк возражает, критикуя пантеизм, против «смешения часов и часовщика», произведения с его творцом, и далее утверждает, что природа управляется постоянными законами, хотя законы эти были первоначально сотворены верховным творцом «для поставленной им перед собой цели». Однако в трактовке Ламарка эта «цель» и «гармония» нечто весьма отдаленное и туманное, стоящее только у начала мироздания, а реально в мире господствует необходимость н закономерность.
Об отношении Ламарка к проблеме целесообразности мы скажем подробнее в разделе V статьи, а сейчас только подчеркнем!, что Ламарк обрушил очень сильный удар на так называемое «телеологическое доказательство» бытия божьего, на «натур-теологию». Ламарку представлялась нетерпимой мысль, что виды живых тел {692} с присущими им целесообразными приспособительными особенностями могут явиться результатом актов творения.
Все, что было реакционного в современном ему естествознании, все, что подкрепляло в какой бы то ни было степени, в открытой или скрытой форме идеалистическое религиозное мировоззрение, подверглось решительной критике со стороны Ламарка. Ламарк выступал против любых форм креационизма и антропоцентризма, против витализма и преформизма, против анимизма и панпсихизма, против доктрины катастрофизма в геологии и т. д. Ламарк-материалист глубоко убежден в том, что в природе везде и всегда господствует причинная необходимость, закономерность. Он старается обнаружить и показать эту закономерность в области явлений физических или химических, в области метеорологии, геологии и биологии.
Можно иллюстрировать борьбу Ламарка против реакционных течений в естествознании, борьбу за причинное объяснение природных явлений его трудами в области геологии.
Ламарк отстаивает мысль о постепенной эволюции земной поверхности на протяжении значительных промежутков времени под влиянием повседневно действующих естественных сил. Основное значение среди этих сил Ламарк отводит последовательному перемещению ложа морей и океанов, связанному главным образом с течением морской воды с востока на запад под влиянием луны, а также постоянному изменению — моделированию земной поверхности многообразной деятельностью морских и пресных вод.
Общегеологические воззрения Ламарка теснейшим образом связаны с его учением об эволюции организмов. В геологии Ламарк должен быть признан одним из ранних представителей того направления, которое получило название актуализма. Представители этого направления (в противовес реакционным сторонникам катастрофизма, нептунизма и т. п. течений, уживавшихся с религиозными догмами) пытались показать, что естественные, повседневно, медленно действующие силы изменяли земную поверхность в прошлом так же, как и в настоящем. Эта точка зрения, которую до Ламарка, развивали Бюффон, Хеттон, Демаре, Де-Майэ и другие, а после {693} Ламарка — К. Гофф, Скроп и другие, получила известное завершение и наиболее полное свое выражение в трудах Ч. Ляйелля. Актуализм сыграл большую роль в создании научной картины мира, в разработке материалистических представлений об эволюции поверхности земного шара, хотя, и страдал механистической ограниченностью, так как считал качественно однородными факторы, изменявшие земную поверхность в разные периоды ее существования.
Разрабатывая свою концепцию закономерного изменения земной поверхности, Ламарк должен был столкнуться с распространенной в его время «теорией катастроф».
Напомним, что учение о «всемирном перевороте» — «теория катастроф», существовавшая в XVIII в. и подкрепленная авторитетом Кювье в начале XIX в., была серьезным препятствием на пути эволюционизма. Сущность этой теории заключалась в допущении грандиозных переворотов, время от времени разражавшихся на земле, изменявших ее поверхность, а заодно и уничтожавших одни виды, на смену которым откуда-то приходили (по Кювье), или создавались творцом (согласно д'Орбиньи и др.), новые виды. «Итак, жизнь не раз потрясалась на нашей земле страшными событиями. Бесчисленные существа становились жертвой катастроф: одни, обитатели суши, были поглощаемы потопами, другие, населявшие недра вод, оказывались на суше вместе с внезапно приподнятым дном моря; сами их расы навеки исчезли, оставив на свете лишь немногие остатки, едва различимые для натуралистов»*. Эту идеалистическую теорию метко характеризует Ф. Энгельс: «Теория Кювье о претерпеваемых землей революциях была революционна на словах и реакционна на деле. На место одного акта божественного творения она ставила целый ряд повторных актов творения и делала из чуда существенный рычаг природы», и дальше Энгельс отмечает, что в противоположность теории катастроф «мысль о постепенном преобразовании земной поверхности и всех условий жизни на ней приводила {694} непосредственно к учению о постепенном преобразовании организмов и их приспособлении к изменяющейся среде, приводила к учению об изменчивости видов»*.
Ламарк неоднократно и с большой силой обрушивается на антинаучную теорию катастроф, расчищая дорогу своей эволюционной концепции. При этом Ламарк указывает, что теория катастроф, апеллирующая в конечном итоге к чудовищному произволу творца, противоречит господствующим в природе естественным закономерностям.
Борьба Ламарка за идеи актуализма против реакционного катастрофизма. являлась ярким выражением его материалистических, антитеологических взглядов.
Ламарк острее, чем многие другие ученые — его современники, почувствовал новые задачи, ставшие во весь рост перед естествознанием на рубеже XVIII и XIX вв. Об этих задачах писал Ф. Энгельс:
«Старая метафизика, считавшая вещи законченными, выросла из естествознания, которое изучало эти мертвые и живые вещи как законченные, Когда же это изучение отдельных вещей подвинулось так далеко, что можно было сделать новый решительный шаг вперед, т. е. приступить к систематическому исследованию изменений, которые происходят с этими вещами в природе, тогда и в философской области пробил смертный час старой метафизики. И в самом деле до конца последнего столетия, т. е. XVIII века, естествознание было преимущественно собирающей наукой, наукой о законченных вещах; в нашем же веке оно стало в сущности упорядочивающей наукой, наукой о процессах, о происхождении и развитии этих вещей и о связи, соединяющей эти процессы природы в одно великое Целое»**.
В период, когда еще продолжала господствовать проповедь узкого эмпиризма и отказа от широких обобщающих идей, Ламарк решительно ориентирует науку на то, чтобы из-за частностей не {695} терять перспективы целого, разрешать важнейшие общие вопросы естествознания и философии: «приблизиться к познанию происхождения, взаимоотношений, способа существования всех созданий природы»*.
Разрешая эти большие и волнующие вопросы естествознания, Ламарк обнаруживает огромную смелость и целостность мысли. Ему был чужд какой бы то ни было агностицизм, он был убежден в безграничных возможностях человеческого познания. Ламарк горячо ратует за то, чтобы ученые скорее освободились «от множества предубеждений, задерживающих подлинный прогресс наших знаний»**, горячо бичует предрассудки, невежество, «ложное знание» (faux-savoir), схоластическое мудрствование, оторванное от живой действительности. Весьма почитая Руссо, Ламарк, тем не менее, решительно отвергает его утверждение будто рост знаний вредит человечеству.
Вдохновенные страницы, которые Ламарк посвящает в разных своих произведениях задачам науки и философии, новым задачам, стоящим перед естествознанием, его вера в силу человеческого ума, его собственный пример смелого проникновения в сокровенные тайны природы,— все это и сейчас волнует нас и вызывает огромное уважение к научному подвигу великого французского мыслителя.
Таков был Ламарк — создатель первой эволюционной концепции. Сын своей эпохи, опиравшийся во многом на научные данные и методы современного ему естествознания, на общие идеи — «мыслительный материал» эпохи, разделявший и некоторые заблуждения своего времени, Ламарк, как это свойственно великим мыслителям, во многом опередил свою эпоху, гениально предвосхитил то, что стало достоянием позднейшего периода.
| {696} |
Охарактеризуем сейчас общебиологические воззрения Ламарка, его понимание сущности и происхождения жизни.
Переходя от неживого к живому, от области явлений физических, химических, геологических к явлениям биологическим, Ламарк развивает материалистическую (окрашенную в ярко механистические тона) концепцию сущности, происхождения и развития жизни.
Жизнь в понимании Ламарка, как и французских материалистов XVIII в., это явление «целиком физическое», подчиненное определенным закономерностям. С большой настойчивостью и убежденностью Ламарк выступает против идеалистической концепции — витализма, высмеивает и опровергает представления об особой жизненной силе, душе, «архее», nisus formativus и тому подобных над-материальных началах, якобы управляющих процессами жизнедеятельности.
Жизнь, по Ламарку,— явление целиком материальное, вытекающее из определенной организации материи и определенных движений. «Я уже показал,— пишет Ламарк,— в различных моих работах и, как мне кажется, я был первым, кто это сделал, что жизнь отнюдь не является ни особой сущностью, ни частным свойством какого бы то ни было вида материи, ни тем более свойством, присущим какой-либо части тела. Я выяснил, что жизнь представляет собой не что иное, как физическое явление, зависящее от двух главных причин: 1) от состояния, и порядка вещей, существующих в частях тела, в котором она наблюдается; 2) от причины, вызывающей или возбуждающей последовательные движения во внутренних частях этого тела»*. Ламарк, опережая свое время, смело пытается определить сущность жизни. В методологическом отношении его подход к этому вопросу чрезвычайно интересен. В ряде своих сочинений Ламарк пытается отойти от формальных определений жизни и определить ее по совокупности основных, существеннейших признаков, присущих всем организмам. {697}
Напомним, что в XVIII—XIX вв. формальные определения были весьма распространены. Например, Биша писал, что «жизнь есть совокупность отправлений, противящихся смерти», Кювье характеризовал жизнь как «подобие вихря», в котором непрерывно изменяется материя, но сохраняется форма; часто, особенно виталистами, повторялась та или иная модификация аристотелевской формулы: «жизнь есть питание, рост и одряхление, причиной которых является энтелехия — принцип, имеющий цель в самом себе» и т. п. Ламарк отбрасывает подобные определения и указывает на основные, самые общие свойства живых тел, присущие всем организмам и, следовательно, характеризующие жизнь как таковую. Это — питание, или точнее, «потери и восстановления» — обмен веществ, способности расти, развиваться, размножаться и т. д. В разных своих сочинениях и даже в разных местах одного и того же сочинения (например, в 1, 2 и 8 главах второй части «Философии зоологии», во «Введении», в «Аналитической системе») Ламарк несколько варьирует свое определение, выпячивает то одну, то другую его стороны (так, в позднейших своих сочинениях он подчеркивает наличие у живых тел потребностей, направленных на самосохранение, и способностей), но обычно принцип его подхода к решению этого вопроса остается одним и тем же. Точно так же, давая в дальнейшем определение растениям и животным, Ламарк отказывается от формальных определений по одному-двум произвольно взятым признакам, а характеризует совокупность основных, важнейших признаков, отличающих растения от животных.
Интересны в этой связи и другие взгляды Ламарка. Так, Ламарк, хотя и не знал истинного значения обмена веществ, неоднократно развивал мысль о единстве «потерь и восстановлений» в организме.
Ламарк весьма своеобразно трактовал процессы оплодотворения, проводил даже неправомерную аналогию между оплодотворением и самозарождением и т. п. Но интересно, что он различал в оплодотворении двоякого рода процессы — стимуляцию, о одной стороны, и своего рода ассимиляцию — «питание», с другой. С точки зрения наших современных взглядов в таком подходе имеется зерно истины. {698}
Чрезвычайно меткие замечания Ламарк делает о жизни и смерти, утверждая, что явления старения и смерти вытекают из самого процесса развития жизни. Между прочим, в этой связи Ламарк высказывает мысль, представляющую большой методологический интерес. В «Философии зоологии» Ламарк пишет: «Будучи далек от мысли, что все, что окружает живые тела, стремится к их разрушению, как это повторяют во всех современных трудах по физиологии, я напротив, убежден, что эти тела сохраняются только благодаря действию внешних влияний, и что главная причина смерти всякого индивидуума, обладающего жизнью, лежит в нем самом, а не вне его»*.
Эта формулировка Ламарка имеет, как нам кажется, следующее значение. Ламарк отвергает распространенное в его время представление о внешних условиях как силе, обязательно антагонистичной организму, стремящейся его разрушить. Как известно, Ламарк всегда рассматривает организмы в теснейшей связи с условиями их существования. Эта мысль красной нитью проходит через всю его эволюционную концепцию. Поэтому и в приведенной выше формулировке проводится в обобщенной форме та же мысль о единстве организма и среды. Другое дело, что действие внешних факторов трактуется Ламарком подчас весьма механистично.
Считая «клеточную ткань» (в это понятие вкладывалось иное содержание, чем сейчас) общим признаком всех живых тел, Ламарк трактует «клеточную ткань» как общую для всех животных и растений «тонкую структуру», из которой развиваются все органы. Ламарк считает также, что низшие растения и животные, которые дали начало высшим, состоят целиком из клеточной ткани. Таким образом, Ламарк связывает с представлением о клеточной ткани мысль о единстве генезиса, единстве исходной структуры всех организмов. Иными словами говоря, Ламарк, не зная подлинной клеточной структуры организмов, {699} в своеобразной форме предвосхитил ту общую мысль, которая легла позже в основу клеточной теории.
Ламарк много раз в своих сочинениях затрагивает проблему индивидуального развития. Для него это процесс подлинного развития, преобразования, исходящий из минимальных зачатков организации. Его взгляды по этому вопросу во многом перекликаются с эпигенетической концепцией К. Ф. Вольфа, хотя Ламарк, как эволюционист, пошел дальше Вольфа. Но так же как Вольф, Ламарк резко критикует преформизм, идею «предсуществующих» зародышей. Напомним, что преформистская точка зрения являлась ярким выражением метафизики, подкрепляя религиозные догматы о неизменности сотворенных богом видов. Критика Ламарком преформизма обосновывала представление о развитии как о подлинном возникновении в процессе исторического развития новых форм и в этом смысле расчищала дорогу и для эволюционизма.
Все это говорит о проницательности Ламарка, о том, что в его подходе к определению сущности жизни много правильного. Нам нетрудно заметить и недостатки ламарковского подхода к вопросу, обусловленные как состоянием науки его времени, так и механистичностью его взглядов. Главным недостатком ламарковского определения сущности жизни является отсутствие понимания того ведущего, что придает жизни качественную определенность и на основе чего развиваются все остальные общие свойства живых существ. Ламарку, хотя он и упоминает об обмене веществ, не ясна специфика, решающее значение этого биологического явления. Он упоминает об обмене веществ наряду с другими характерными свойствами жизни.
Напомним в этой связи классическое определение сущности жизни, данное Ф. Энгельсом: «Жизнь — это способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка»*. В свете этой формулировки Энгельса по {700} вопросу о сущности жизни, ясны и сильные и слабые стороны ламарковского определения.
Ламарк с чрезвычайной последовательностью ищет «физические причины» любых проявлений жизнедеятельности, механистически их истолковывает. Он неоднократно подчеркивает, что живая — организованная материя по природе своей столь же пассивна, как и неорганическая — неорганизованная материя, что жизнь может быть вызвана, «возбуждена» только силами, пришедшими извне, посторонним для живой материи источником движения. «Причина-возбудитель (cause-excicatrice) — «стимул» жизненных движений — чужда живым телам. Так, например, в статье «Способность» Ламарк утверждает, говоря об организации живых тел, что «причина же, вносящая в нее жизнь и возбуждающая в ней непрерывный ряд движений, всецело лежит вне ее»*. Эту причину Ламарк усматривает в движении флюидов, но отмечает, что и они «находятся в состоянии движения, вызванного причинами, вне их находящимися», т. е. вечным «первоисточником» движения. В этих формулировках Ламарка есть и положительная и отрицательная стороны. Первая заключается в мысли, что нет проявлений жизнедеятельности, нет организма без среды. Вторая — в отрыве материи от движения, в механистичности этой концепции.
Ламарк развивает мысль, что если у низших организмов жизнедеятельность целиком вызвана флюидами внешней среды, то у более сложно организованных животных природа переносит это действующее начало внутрь организма, те же флюиды действуют, так сказать, изнутри. Не зная специфики обмена веществ, из которой вытекают все другие проявления жизнедеятельности, Ламарк ищет основу жизненных процессов в толчках извне, т. е. опять-таки формулирует сугубо механистическую точку зрения. Но с какой огромной последовательностью эта точка зрения развивается Ламарком, как рельефно выступает его материализм, окрашенный в механистические тона, отчетливо сказывается в трактовке им психических явлений. {701}
Ламарк резко критикует идеалистическое представление о душе, критикует анимизм, панпсихизм. Он отчетливо и неоднократно формулирует материалистический взгляд о первичности материи и вторичности психики. Все формы психики являются, по Ламарку, производным сложноорганизованного живого вещества — нервной системы. Полным извращением взглядов Ламарка кажутся, поэтому, позднейшие высказывания так называемых психоламаркистов.
Страницы, которые Ламарк посвящает доказательству того, как по мере усложнения нервной системы усложняется поведение животных, их психическая деятельность, сохранили во многом свое значение и до наших дней. Ламарк подошел к этому вопросу не только как материалист, но именно как материалист-эволюционист. Сравнивая между собой психические (в широком смысле слова) особенности животных, стоящих на разных ступенях эволюционного развития, Ламарк пытался показать, что разным ступеням в усложнении всей организации животных и формирования их нервной системы соответствуют разные степени сложности «производного», т. е. психической деятельности животных.
Точно так же многое оказалось правильным даже в трактовке Ламарком сложнейших физиологических механизмов высшей нервной деятельности. Мы не будем на этом останавливаться, так как этому вопросу посвящена специальная статья С. Г. Геллерштейна, но приведем только два-три высказывания Ламарка, которые не оставляют сомнения в материалистичности трактовки им психических функций организма.
В «Аналитической системе» Ламарк пишет, обсуждая психические способности, присущие организмам: «Отсюда с очевидностью следует, что все эти способности всецело являются способностями органическими, следовательно, подчиненными физическим законам и представляющими собой подлинный результат могущества природы. Считать внимание, представления, суждения метафизическими категориями было бы таким же заблуждением, как относить к ним ощущение, внутреннее чувство, мышечное движение, раздражимость и т. д.». Дальше Ламарк снова возвращается к этому вопросу: {702} «условия физического порядка достаточно ясно доказывают, что ни сами представления, ни те умственные акты, которые над ними производятся, нельзя считать метафизическими явлениями... Наши первичные представления возникают исключительно из испытанных ощущений и они служат источником всех наших остальных представлений». И снова, говоря об идеях — представлениях человека, Ламарк повторяет: «Представление безусловно не является чем-то метафизическим, как это думают многие; напротив, это — явление органическое, следовательно,— явление чисто физического порядка, обусловленное взаимодействием различных видов материи и теми движениями, которые при этом происходят»*.
Таковы в общих чертах взгляды Ламарка на сущность жизни. Из этих взглядов с необходимостью вытекала и ламарковская концепция происхождения жизни. Живое в его простейших формах возникло из неживого — утверждает Ламарк. «Природа при помощи тепла, света, электричества и влажности производит самопроизвольные или непосредственные зарождения на том конце каждого из царств живых тел, где находятся наиболее простые из них». Флюиды, воздействуя на виды вещества, которые способны «организоваться», превращают их в первые зачатки жизни: «Всякая представляющаяся однородной студенистая или слизистая масса вещества, у которой неразрывно связанные между собой части находятся в состоянии, наиболее близком к жидкому, но все же обладают плотностью, достаточной для образования из них частей, способных содержать флюиды, представляет собой тело, наиболее пригодное для восприятия первых зачатков организации и первых. проявлений жизни»**. При этом Ламарк полагает, что первичные животные и первичные растения возникли из различным образом организованной материи, что предопределило в дальнейшем и разные пути их эволюционного развития.
Необходимо указать на принципиальное отличие представлений {703} о самозарождении, сформулированных Ламарком, от ряда аналогичных представлений, высказывавшихся многочисленными учеными и философами и до него. Ламарк прекрасно понимал, что углубление наших знаний по вопросу о способах размножения организмов, позволившее отбросить ряд наивных представлений о самозарождении из земли, гниющих веществ и т. п. ныне существующих организмов, отнюдь не снимает в широком философском смысле вопроса о том, может ли живое возникать из неживого. Ламарк, естественно, не мог располагать теми научными данными, которые позволяют сейчас наметить целостную научную концепцию эволюции материи от неживого к живому. Но Ламарк смело ставит этот вопрос и разрешает его в положительном смысле для низших из известных ему организмов. Ламарк считает, что закономерно развивающаяся, постепенно усложняющаяся природа должна была производить (и продолжает производить в настоящее время) простейшие организмы из материи «неорганизованной». В этом вопросе взгляды Ламарка близки к воззрениям французских философов-материалистов XVIII в., но поскольку у Ламарка идея развития воплотилась в форму последовательной, целостной теории, то и самозарождение трактуется Ламарком глубже, как естественный закономерный процесс, являющийся отправной точкой для дальнейшей эволюции органического мира.
Конечно, с точки зрения позднейших научных достижений та «граница» перехода от неживого к живому, которая допускалась Ламарком (инфузории и т. д.), в действительности не является таковой, а отнесена к наипростейшим, возникшим в далеком прошлом, формам жизни. Это, однако, не умаляет заслуги Ламарка. Почти нацело отвергнув представления о самопроизвольном зарождении в их наивной метафизической форме, он в то же время отстаивал с позиций материализма и эволюционизма идею самозарождения как таковую. Мы пишем «почти нацело» потому, что в отдельных случаях (например, обсуждая вопрос о происхождении паразитических червей), Ламарк все же допускал самозарождение и более сложных живых существ. {704}
Первые самозародившиеся организмы дали начало всему многообразию органических форм. «И вот,— пишет Ламарк,— благодаря тому, что природа наделила эти созданные ею самою тела способностями питаться, расти, размножаться и сохранять каждое приобретенное усовершенствование организации, передавать эти способности всем особям, воспроизводимым органическим путем,— с течением времени и под влиянием беспредельного разнообразия непрерывно изменяющихся обстоятельств последовательно были созданы живые тела всех классов и всех порядков»*. Развитие жизни от простого к сложному, согласно представлениям Ламарка, неизбежно вытекает из тех основных свойств, которыми природа наделила живые существа, и из беспрерывного взаимодействия организмов и среды — «изменяющихся обстоятельств»,— происходившего на протяжении миллионов лет.
Такова была отправная точка зрения эволюционной теории Ламарка. Для чисто натур-философской гипотезы этого быть может и было бы достаточно, но не для теории, которую пытался обосновать выдающийся ученый-натуралист. Ламарк должен был опереться на определенный фактический материал, и он нашел его прежде всего в двух группах фактов, с которыми его познакомили ботанические и зоологические исследования, в фактах, относящихся к «проблеме вида» и в фактах, относящихся к «градации организмов».
Проблема вида — одна из краеугольных проблем биологической науки. Не случайно Ламарк уделяет этой проблеме большое внимание в доэволюционный период своей научной деятельности (во «Флоре Франции» — 1778 г., в статье «Вид» — 1786 г. и т. д.) и впоследствии, разрабатывая эволюционную концепцию, он снова и снова возвращается к этой проблеме. К разработке этой проблемы беспрерывно побуждает его собственная исследовательская работа в области ботанической и зоологической систематики, побуждают его к
| {705} |
 |
Ж А Н - Б А Т И С Т Л А M А Р К |
| {705} |
общетеоретические интересы. Это представляется понятным, так как, говоря словами К. А. Тимирязева, «возможностью естественного объяснения биологических явлений наука не могла воспользоваться, пока поперек ее дороги становился призрак постоянного, вечно неизменного вида»*.
Напомним в кратких чертах, как ставилась проблема вида в XVIII в. Господствующим являлся догматический, метафизический взгляд на неизменность богом сотворенных видов. Общеизвестны высказывания по этому вопросу Линнея и многих других крупнейших ученых той эпохи. Некоторые из них ясно видели возможность различных ответов на вопрос о постоянстве вида. Так, известный французский натуралист Адансон писал: «вопрос наиболее известный и наиболее обсуждаемый вот уже несколько лет в естественной истории и особенно в ботанике должен выяснить, постоянны ли виды среди растений или они изменяются, т. е. иначе говоря, могут ли благодаря соединению полов или как-либо иначе образоваться новые виды, которые становятся в свою очередь постоянными...». Но ясно поставив этот вопрос, Адансон дал на него и не менее ясный ответ: «изменение видов не имеет места среди растений так же как и среди животных»**.
Однако изучение живой природы такой как она есть, повседневная практика натуралистов открывали им глаза на факты, противоречившие этой метафизической концепции, и заставляли допускать, хотя бы в ограниченных пределах, изменчивость видов, условность границ между видом и разновидностью, возможность возникновения новых видов. Такие допущения мы находим у Маршана, Гмелина, Дюшена, Бюффона, Эразма Дарвина, у русских ученых Болотова, Каверзнева и многих других. Даже Линней, над которым с такой силой довлеет идеалистическая метафизика, допускает изменчивость видовых форм под влиянием coelum et solum (климата и почвы), а также гибридизации. Кроме того, нужно напомнить, что {706} разработка основ естественной системы организмов, «естественная группировка» организмов ставила перед многими учеными вопрос о том, нельзя ли предположить, что группы близких видов произошли от общего родоначальника и что некоторые современные виды могут, в свою очередь, дать начало новым видам. Эту точку зрения хорошо выразил зоолог Ласепед, предположив, что «несколько первичных видов произвели силою природы виды вторичные, которые сами по себе или благодаря своему соединению с первичными видами произвели виды третьего порядка, и т. д.»*.
Эти взгляды были ограниченными в том смысле, что они не приводили их авторов к целостной эволюционной концепции, но их значение как одного из элементов эволюционизма нельзя недооценивать. К этому нужно добавить, что передовая философская мысль той эпохи в лице французских философов-материалистов Дидро, Гольбаха, позже Кабаниса и др. отстаивала представление об изменчивости видов, представление, что виды преходящи, или, говоря словами Дидро, «виды — не что иное, как только тенденции с общим, свойственным им пределом»**.
Какую же позицию в этом вопросе занимал Ламарк? Можно наметить три этапа в развитии его взглядов на проблему вида: 1) дозволюционный этап, связанный с верой в постоянство видовых форм; 2) эволюционный этап, связанный с признанием изменения видовых форм, но одновременно и с сомнением в реальности вида, с попыткой рассматривать вид точно так же, как и другие систематические категории, как условность, принятую для удобства классификации; 3) позднейший этап, когда Ламарк-эволюционист более отчетливо говорил о реальности вида и более углубленно подходил к вопросу о границах вида.
На протяжении всей свой деятельности Ламарк сознает огромное значение проблемы вида для биологии и качественное {707} своеобразие этого понятия, применимого только к живым существам. Так, в 1802 г. в своем сочинении «Исследования об организации живых тел» Ламарк возражает против распространения понятия вид на пеорганическую природу, указывая, что «виды» минералов «...сохраняют постоянство только в отношении состояния вещества, но не в отношении определенности индивидуумов». К этому же вопросу он возвращается и в последней своей статье о виде, опубликованной в 1817 г.
До того периода, когда Ламарк становится эволюционистом, он верит в четкую отграннченность и в постоянство видов. Эта точка зрения отображена, например, в его статье «Вид» 1786 г., опубликованной нами в I томе. Став эволюционистом, Ламарк начинает решительно отрицать реальность вида, как и реальность других систематических категорий (родов, семейств, порядков, классов). Отметим, впрочем, что Ламарк считал высшие систематические категории нереальными и тогда, когда он еще считал вид реальностью (например, в 1778 г. во вступлении к «Флоре Франции»). Ламарк полагал, что виды, роды и т. д. являются искусственными категориями, изобретенными учеными для того, чтобы удобно классифицировать животных и растения. В природе же существует только цепь особей с нечувствительными переходами; одни звенья этой цепи вплетены в другие и отграничить их друг от друга можно только условно, искусственно. Разрывы — «гиатусы» в этой цепи существуют в силу недостаточности научного материала, которым мы располагаем. Во «Вступительной лекции» 1802 г.. Ламарк прямо пишет: «Я долгое время думал, что в природе существуют постоянные виды и что эти виды состоят из особей, принадлежащих к каждому из них. Теперь я убедился, что я ошибался в этом отношении и что в действительности в природе существуют только особи»*. Во «Вступительной лекции» 1803 г.** Ламарк аргументирует так: «По мере того как мы обнаруживаем новые создания природы, по мере того как обогащаются {708} наши коллекции, мы видим, что почти все пробелы заполняются и что наши разграничительные линии стираются. Мы вынуждены прибегать к произвольным определениям, заставляющим то считать мельчайшие различия разновидностей видовыми признаками, то признавать разновидностью того или иного вида тех особей, которые лишь незначительно отличаются от прочих и которые рассматриваются другими [натуралистами] как самостоятельный вид». Это утверждение дословно повторяется в «Философии зоологии» и здесь же Ламарк пишет: «Можно также утверждать, что в действительности природа не создавала среди своих произведений ни классов, ни отрядов, ни семейств, ни родов, ни постоянных видов, но только индивидуумов, последовательно сменяющих друг друга и сходных с теми, которые их произвели»*.
Не приходится доказывать, что )этот взгляд Ламарка является неправильным. Виды в природе имеют реальное существование, характеризуются качественной определенностью. «Эти грани, эти разорванные звенья органической цепи не внесены человеком в природу, а навязаны ему самою природою»**. Реальны и высшие систематические категории. Об этом хорошо сказал старый русский естествоиспытатель, приблизившийся к идее развития природы, М. А. Максимович в своем сочинении «Систематика растений»: «Галлер и некоторые другие естествоиспытатели полагали, будто природа произвела одни виды, а роды и прочие степени суть дело нашего разума и существуют только в наших системах. Но разум и природа не разногласят и степени сродства потому только определяются в системе, что определены в природе: в противном случае задача системы была бы небылица»***.
Ламарк правильно отрицал неизменность и постоянство видов, но противоставляя свой взгляд идеалистической креационистской точке зрения — взглядам Линнея, Кювье и большинства других естествоиспытателей его времени, Ламарк не сумел показать, что вид {709} хотя и изменчив и преходящ, но на данном отрезке времени вполне реален. Ламарк был прав, утверждая, что не существует постоянных видов, что виды изменяются под влиянием среды, различных условий существования. Но он ошибался, не понимая, что на определенном отрезке исторического времени виды имеют относительное постоянство, обладают качественной определенностью. А в уме Ламарка в этот период отрицание абсолютного постоянства видовых форм выливалось в форму сомнения в их реальности.
В историческом аспекте эта неверная по существу точка зрения Ламарка играла положительную роль в той мере, в какой она была резко противопоставлена господствовавшим тогда идеалистическим, креационистским взглядам — вере в неизменяемость богом сотворенных видов.
Нужно, правда, отметить, что эту же мысль о нереальности всех систематических категорий, включая виды, высказывал и ряд естествоиспытателей, стоявших в большей или меньшей степени на креационистических позициях (ботаник Адансон, зоолог Ласепед, энтомолог и врач Жоффруа и др.). Дело в том, что многие ученые XVIII-го века, соглашаясь с тем, что распространенные в науке классификации являются искусственными, свои поиски «естественного метода» связывали с представлением о «лестнице существ», а из этого представления вытекала и мысль об отсутствии границ между отдельными группами животного и растительного мира, об условности всех систематических категорий. Это хорошо иллюстрируют слова Жоффруа: «Природа не установила среди составляющих ее тел различные царства, роды и виды, которые выдуманы натуралистами, а природа шла путем деградаций, путем нечувствительных нюансов...»*. Подобное представление само по себе еще уживалось с креационизмом. Напомним, что «лестница существ» Бонне трактовалась весьма теологично. У Ламарка же представление о градации было связано со всей его концепцией развития природы и, следовательно, корни убежденности Ламарка в нереальности вида лежат не просто в его {710} приверженности идее градации существ, а прежде всего в его теории развития.
С отрицанием реальности вида связана и весьма своеобразная, характерная для Ламарка, оценка ископаемых, вымерших форм. Ламарка неоднократно интересовал вопрос об ископаемых видах и их отношении к современным видам. Мнения ученых в XVIII и начале XIX в., разумеется тех из них, которые не сомневались в том, что ископаемые суть остатки организмов, сводились к двум противоречившим друг другу концепциям:
1) ископаемые — это остатки особей видов и ныне где-то на земном шаре существующих, особей, погибших в большом количестве во время каких-то грандиозных катастроф, «мирового потопа» и т. п.;
2) ископаемые — это остатки видов, которые полностью вымерли, не оставив на земле своих аналогов; вымирание видов также связывалось с катастрофами и доказывалось, что нет ничего противоречащего представлению о «всемогуществе творца» в предположении, что многие виды могли вымереть.
Оба взгляда были метафизическими, соответствовали библейской догме и отрицали возможность превращения древних видов в современные, историческую связь и преемственность видов.
Особую позицию занял в этом вопросе Ламарк. С одной стороны, он соглашался с тем, что ископаемые формы и близкие им современные не одно и то же и, следовательно, полностью отвергал первую концепцию. С другой стороны, за редкими исключениями, он отвергал и вторую концепцию (не следует делать вывод, что тот или иной вид действительно вымер и исчез, — утверждал Ламарк). Это противоречие Ламарком разрешалось просто — «вымершие виды», представленные ископаемыми формами, на самом деле не вымерли, а продолжают существовать в новой «оболочке», в форме современных видов. Они изменились на протяжении длительного времени в связи с изменением условий существования на земле.
Точка зрения Ламарка, конечно, эволюционная, но весьма своеобразная, понять ее до конца мы сможем только при учете того, что {711} Ламарк отрицал реальность вида. Для Ламарка существует только цепь особей, условно подразделяемая нами на отдельные виды. Эти звенья цепи незаметно переходят друг в друга, переливаются из одной формы в другую (Ламарк не случайно употребляет здесь термин «форма»!). Не трудно заметить, что сильной стороной Ламарка является здесь противоставляемое им метафизике убеждение в том, что виды изменяются, слабой — ошибочное отрицание очевидного факта вымирания видов, что вытекало из его также ошибочного отрицания реальности видов, их качественной определенности. Необходимо, однако, указать, что Ламарк в конце своей научной деятельности более четко и правильно писал о виде.
В статье «Вид», опубликованной в «Новом словаре» Детервилля, мы находим новые оттенки мысли по этому важному вопросу. Ламарк, продолжая считать высшие систематические категории условностью — «полезными средствами» систематики — противопоставляет им реально существующий вид как «непосредственный и наиболее важный объект нашего изучения». В то же время Ламарк-эволюционист естественно утверждает и здесь, что: «виды отнюдь не неизменны и обладают не абсолютным, вго лишь относительным постоянством... до тех пор пока вид будет существовать в одних и тех же условиях, он всегда сохранится неизменным»*.
Значительно более четко, чем он это сделал в лекции 1803 г. (содержание которой было повторено в 3-ей главе первой части «Философии зоологии»), Ламарк развертывает здесь аргументацию против концепции неизменяемости видов. При этом Ламарк ссылается на три группы фактов: 1) наличие разновидностей, в частности, разновидностей, промежуточных между двумя видами («существование разновидностей, — пишет Ламарк, — всегда будет служить явным опровержением неизменяемости видов»); 2) подвижность границ между видами, становящаяся все более очевидной при расширении наших сведений о видах; 3) изменение видовых форм в географическом аспекте. {712}
Таким образом, «призрак постоянного, вечно неизменного вида», был уничтожен, что явилось одной из важнейших предпосылок для разработки эволюционной концепции.
Накопление и систематизация обширного ботанического и зоологического материала приводила многих исследователей XVII—XVIII вв. к необходимости установить какие-то соотношения в этом материале, дать наряду с обычной классификацией материала еще какое-то общее расположение, общее распределение его. Искали «естественные отношения» (rapports) между разными группами организмов, их «естественное сродство» (affinite), хотя, разумеется, в слово «естественный» не вкладывалось эволюционного содержания. Одной из самых распространенных идей естествознания этого периода была идея «лестницы существ», представление о градации органических форм, о постепенном, последовательном повышении уровня их организации.
Идея последовательности органических форм (или точнее всех природных тел от самых простейших и до самых сложных) на протяжении многих столетий была чрезвычайно популярной в естествознании и философии. Первую отчетливую формулировку этой идеи мы находим уже в ряде произведений Аристотеля.
В форме учения о «лестнице существ» («лестница восхождения в веществах» старых русских авторов, «echelle des etres» — французских, «Stufenfolge der Dinge» — немецких, «Scale of beengs» — английских) эта идея была чрезвычайно распространена среди натуралистов и философов XVII и особенно XVIII вв. (Лейбниц, Гентер, Валлиснери, Брэдли, Линк, Бюффон, Спалланцани, Ламеттри, Дидро, Робинэ и др.).
Особенной известностью пользовалась «Лестница существ» швейцарского натуралиста XVIII-ro века Шарля Бонне, на которого неоднократно ссылается Ламарк. Бонне начинал свою лестницу с «тонких материй», огня, воздуха, переходил затем к земле, металлам, солям, телам «промежуточным» между минералами и растениями, {713} растениям, затем к телам «промежуточным между растениями и животными — «зоофитам», потом к животным низшим, высшим и человеку и, наконец, к «ангельским чинам».
В. то время как у Бонне представления о лестнице существ были окрашены в мистические, теологические тона, а сам Лейбниц исходил из своей идеалистической монадологии, — взгляды А. Н. Радищева были сформулированы материалистически. Замечательный русский философ А. Н. Радищев, как известно, приблизился к представлению о единстве и развитии природы. А. Н. Радищев указывал: «от камени до человека явственна постепенность, благоговейного удивления достойная, явственна сия лествица веществ, древле уже познанная»*.
В духе метафизического представления о лестнице существ истолковывался также параллелизм между ступенями зародышевого развития и различными ступенями усложнения животного мира. Параллелизм этот отмечался неоднократно Бонне, Кильмейером, Блюменбахом, Сэрром и многими другими учеными.
Ограниченность естественно-научной практики натуралистов той эпохи способствовала расположению всех тел природы, в том числе растений и животных, по ступеням единой лестницы в один линейный ряд. При малом развитии сравнительной анатомии, за отправной пункт лестницы существ брались обычно организмы наилучше изученные, каковыми были человек и высшие млекопитающие, а затем уже, «примериваясь» к ним, намечалась градация всех остальных существ. Их располагали по степени близости к высшим животным в единый нисходящий ряд (схема деградации). Правда, деградацию можно было легко превратить в градацию, нисходящий ряд прочесть в восходящем порядке и, наконец, метафизическую, отнюдь не эволюционную, лестницу, ступени которой сосуществуют, но не развиваются друг из друга, превратить в серию развивающихся форм, что и было сделано впоследствии в эволюционной теории Ламарка. {714}
Таким образом, идея последовательного усложнения и преемственности, мысль о связях и переходах между разными формами организмов даже в метафизической форме представления о лестнице существ сыграла свою положительную роль в деле подготовки эволюционной концепции.
Рассмотрим теперь, какое отображение в трудах Ламарка получила идея градации органических форм. Ответ на этот вопрос предполагает выяснение того, какие формы (систематические категории) располагались Ламарком по ступеням лестницы существ, как мыслились переходы между ними, в каком направлении строился «общий ряд», в какой степени этот ряд считался прямолинейным и, наконец (что представляется самым важным), как истолковывалась причина этой градации.
Уже в своем первом крупном и ставшем знаменитым сочинении «Флора Франции» («Flore francoise», т. I—III, Paris, 1778) Ламарк задается вопросом: что положить в основу «естественного метода»? Во введении к указанному сочинению Ламарк говорит о необходимости расположить в единый ряд, в серию, не только семейства, но и роды, а логически рассуждая — и виды. Начать серию форм, по мнению Ламарка, нужно с растений, представляющих «минимум» организации, «являющихся на наш взгляд как бы первыми зачатками растительной организации», но дальше Ламарк продолжает (и это является очень характерным для данного доэволюционного этапа его творчества): «После того, как подобный порядок установлен, нужно его перевернуть, дабы придать серии форм ее естественное положение и нужно начать с показа растений, организация которых представляется наиболее полной и активной»*.
Во «Флоре Франции» Ламарк еще декларирует необходимость расположить по звеньям единой цепи существ все систематические категории растительного мира, вплоть до видов, хотя уже здесь на первый план выдвигается задача установить иерархию только {715} крупных систематических групп, исходя из основных особенностей их организации.
В «Классах растений» (1786) Ламарк, задумываясь над соотношениями своих 94 семейств, занимает более осторожную позицию при построении ряда, градации форм; в порядке убывающей сложности (все еще убывающей, а не возрастающей!) Ламарк располагает только свои 6 классов, что же касается семейств, то хотя Ламарк в принципе не отказывается расположить и их по ступеням усложнения (вернее упрощения) организации, он сознает, что еще не располагает для этого достаточным фактическим материалом.
Если в «Классах растений» Ламарк при построении своей серии — цепи растительных форм — идет от сложного к простому, то уже в «Естественной истории растений» (1803) Ламарк не только совершенствует свою систему растительного мира, но и отчетливо располагает ее в «соответствии с истинным путем природы», т. е. в восходящем порядке, отображающем, по мнению Ламарка, эволюционное усложнение, совершенствование растительного мира.
При построении единого восходящего ряда в растительном мире Ламарка занимает вопрос о связующих звеньях, промежуточных формах между отдельными ступенями его ботанической лестницы существ. Здесь Ламарк допускает большое упрощенчество.
Сближение папоротников с пальмами — чрезвычайно характерный пример того, насколько упрощенно подходил даже такой выдающийся ученый, как Ламарк к задаче построения «ряда» организмов, показа градации форм. Крупные папоротники — деревья с большими сложнорасчлененными листьями, несколько напоминающими листья пальм, видимо и дали основание Ламарку для произведенного им сближения этих растений. Многие переходные, связующие формы «рядов» мало чем отличались от промежуточных форм известной «лестницы существ» Бонне. При установлении этих форм Ламарк, как и другие ученые, зачастую исходил из весьма поверхностных сравнений.
Такова в общих чертах ботаническая «лестница существ» Ламарка. А как трактовал этот вопрос Ламарк применительно {716} к животному миру и пытался ли он установить какую-либо связь между градацией в растительном и животном мире?
Прямолинейную связь в духе Бонне Ламарк отвергал, высмеивая представления о зоофитах и т. п. «полу-растениях — полу-животных». Ламарк не считал также возможным соединить общий ряд растений и общий ряд животных у их основания, V-образно, т. е. дивергентно повести эти два ряда. Но он пытался установить аналогию, параллелизм в ступенях усложнения растительного и животного мира.
Подобная попытка нашла отображение в вышедшей в 1786 г. работе Ламарка, озаглавленной «Сочинение о классах, которые должны быть установлены наиболее правильным образом среди растений, и об аналогии, существующих между их числом и числом классов, установленных в царстве животных, при учете в обоих случаях постепенного совершенствования органов»*.
В дальнейшем Ламарк зоолог-эволюционист все свое внимание обращает на разработку проблемы общего расположения систематических категорий в животном мире, на построение общего ряда животных.
К построению этого ряда Ламарк пришел уже будучи эволюционистом, и для него не составляло загадки, в каком направлении ряд следует читать — «сверху—вниз» или «снизу—верх». Однако в качестве методического приема Ламарк и сейчас еще пользуется схемой «деградации», берет за отправной пункт наилучше изученные высшие организмы, располагая остальные организмы по степени сходства с ними в нисходящий ряд. При этом еще преобладает общая, «суммарная» оценка организмов, главным образом по их внешним признакам. Но все это не больше чем методический прием, ибо Ламарк не сомневается, что «общее распределение животных, образующее ряд, соответствующий порядку самой природы», отображает картину постепенного усложнения, прогресса в животном мире. Что касается конкретного построения этого общего ряда, то оно претерпело {717} значительные видоизменения, начиная от первых «Вступительных лекций» Ламарка (1800—1806 гг.) и до последней его работы «Аналитическая система» (1820).
Во «Вступительных лекциях» и даже в VIII главе первой части «Философии зоологии» общий ряд строится еще в достаточной мере прямолинейно, хотя, разумеется, по ступеням единой восходящей лестницы располагаются не виды и роды, а более крупные подразделения животного мира.
Хотя Ламарк и стремится везде учесть данные сравнительной анатомии, но общая оценка по внешним признакам, столь характерная для «лестниц существ» XVIII в., здесь еще далеко не изжита. Это особенно наглядно проявляется на границах классов, там, где Ламарк помещает промежуточные, связующие, переходные формы. Млекопитающих связывают с птицами однопроходные и китообразные, птиц с рептилиями — черепахи, рептилий с рыбами — змеи и угри (согласно «Вступительной лекции», 1802 г.) или «змеевидные рыбы» и хвостатые лягушкообразные рептилии (согласно «Философии зологии»), сипункулы связывают червей и иглокожих, усоногие являются переходом от ракообразных к моллюскам (согласно «Systeme analytique des animaux sans vertebres», 1801 г.), или от кольчецов к моллюскам (согласно «Философии зоологии») и т. д. и т. п. Неизбежно много произвольного и наивного было и в градации форм в пределах каждого класса. Здесь особенно резко сказывались недостаток научных критериев совершенства и неправомерность попытки расположить все формы в единую прямолинейную серию.
Но дальше эта «единая серия» претерпевает существеннейшие изменения. До некоторой степени неожиданно в «Дополнениях» к первой части «Философии зоологии» высказывается новая концепция, находящая свое графическое отображение в «таблице, показывающей происхождение различных животных». Единый ряд здесь исчезает, серия оказывается разветвленной, начинает принимать характер «родословного древа». Эта новая концепция углубляется Ламарком в его «Extrait du cours de zoologie» (1812) и затем в «Естественной истории беспозвоночных животных» (1815—1822). {718}
В этом последнем своем сочинении Ламарк делает очень важное обобщение, показывающее, что, хотя он и сохранил представление о едином ряде, идущем от простого к сложному, это представление сохранилось только в самом общем виде, «ибо этот порядок далеко не прост, он может быть представлен рядом разветвленным и, по-видимому, даже состоит из нескольких отдельных рядов». В другом месте Ламарк пишет: «Если при образовании животных, природа произвела несколько различных рядов, в чем я убежден, то очевидно, что каким бы образом мы к этому не подходили, нам никогда не удастся сохранить связь отношений между животными, принадлежащими ко всем классам в едином общем и простом ряду (dans la serie generate et simple), который мы хотели бы построить. Мы можем только, учитывая степень сложности и совершенства каждой организации, рассматриваемой в совокупности ее частей, образовать ряд из отдельных больших групп (serie de masses) в соответствии с их совершенством»*. Но Ламарк продолжает считать, что если «единый ряд» и оказался теперь разветвленным, дивергентным, то все же тенденция природы последовательно идти от простого к сложному в общем и целом находит здесь свое отображение; «порядок образования» животных очевиден. В отдельных же «ветвях» Ламарк упорно продолжает строить прямолинейные ряды постепенного усложнения, ищет здесь связующие звенья и переходные формы, прослеживает за иерархией отрядов внутри отдельных классов и т. д. Здесь же Ламарк приводит схему уже более разветвленного родословного древа, или вернее двух древ, одного для «животных нечленистых», другого для «животных членистых». Основания каждого из древ начинаются самозарождением родоначальных форм.
В «Аналитической системе положительных знаний человека» (1820) Ламарк различает даже три древа, три серии, берущие начало от полипов: серия лучистых, затем серия членистых, начинающаяся червями, и третья серия — нечленистых, начинающаяся оболочниками. Под вопросом остается начало особой ветви — аннелид. {719}
Таким образом, Ламарк заменил прямолинейную, единую серию своеобразной схемой родословных древа, или древ.
Что же осталось от первоначальной концепции единой серии, с которой Ламарк расстается неохотно? Представление об единой серии остается как отображение в самой общей форме этапов усложнения животного мира, «стремления природы к усложнению». Впрочем, в пределах отдельных ветвей своего родословного древа, располагая, например, отряды и семейства, а кое-где и роды, Ламарк стремится по возможности сохранить прямолинейную градацию форм.
Ламарк углубляет в «Естественной истории беспозвоночных животных» те критерии, на основании которых должно быть построено общее распределение организмов. Он говорит здесь о принципах общего распределения организмов на основании изучения отношений. Под отношениями Ламарк понимает «обнаруживаемые путем сравнения или сопоставления черты сходства или аналогии». Он делит здесь отношения на пять категорий: 1) отношения между видами, 2) отношения между большими группами организмов, 3) отношения положения, ранга, 4) отношения между отдельными частями, не подвергшимися изменениям, 5) отношения между отдельными частями, измененными действием особой причины. Об отношениях Ламарк писал и раньше, но здесь он значительно углубляет вопрос и показывает, как надо пользоваться отношениями, дабы устранить произвол при построении общего ряда организмов. На понимании этих пяти категорий отношений и на основанных на них восьми, мы бы сказали «рабочих» принципах, Ламарк строит общий ряд животных.
Углубляется Ламарком и трактовка вопроса о критериях совершенства. Его точка зрения очень интересна и сходна с той, которую позже выскажет Дарвин. Ламарк понимает, что о «совершенстве» можно говорить или как о приспособленности к условиям существования, или в смысле высоты уровня организации (степени дифференцированности органов и функций, с одной стороны, и их «централизации», с другой), более сложных отношений с окружающей средой. Но, конечно, Ламарк, в отличие от Дарвина, не доходит до {720} идеи естественного отбора как общей основы для приспособления и совершенствования.
Но главным и решающим во всем этом была эволюционная трактовка общего ряда как отображения исторического процесса развития от простого к сложному, происходившего на протяжении миллионов лет.
Как трактовал этот процесс развития Ламарк, в чем он усматривал его движущие силы — об этом скажем дальше, а сейчас остановимся еще на той борьбе, которую вел Ламарк за представление о градации форм с различными противниками этого представления. Неправильно усматривать в разногласиях по вопросу о том, какой «схемой» удобнее всего отобразить соотношения и сродство в органическом мире, только спор по сугубо специальному вопросу. На самом деле эти споры выражали борьбу за или против идеи прогрессивного развития органического мира, борьбу за идею эволюции как таковую. В этой борьбе Ламарку пришлось столкнуться с различного рода противниками. Так, он решительно возражал против попыток отобразить соотношения между крупными систематическими категориями животного и растительного мира не при помощи схемы градации линейного ряда, а при помощи других схем. Напомним, что к таковым относятся: схема географической карты Линнея, схема сети (Герман, 1783, Донати, 1750, Батш, 1788), схема параллельных рядов (Вик д'Азир, 1786 г.) и др.
Возражения Ламарка направлены были больше всего против взглядов итальянского натуралиста и медика Донати и французского натуралиста Германа. Донати утверждал, что положение систематических категорий, например видов, лучше всего отображает не линейная схема, а сеть, каждый узел которой может быть связан с многими другими нитями. Герман подчеркивает, что он не желает отображать разные степени совершенствования, отказывается от принципа иерархии. Этот автор составил обширную таблицу, в которой классы, отряды и многие роды и виды соединены друг с другом многочисленными связующими линиями.
Напомним, что и Линней в 1751 г. в своей «Philosophia botanica»
| {721} |
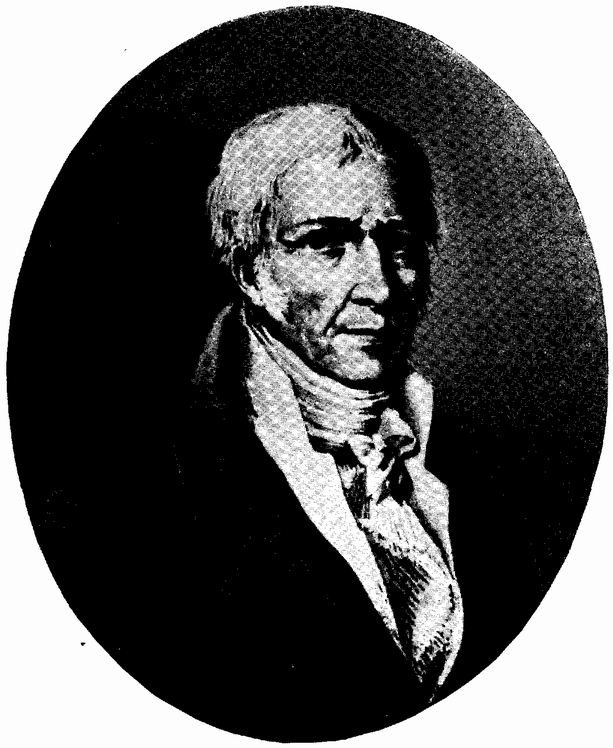 |
|
ЖАН-БАТИСТ ЛАМАРК Малоизвестный портрет, находящийся в библиотеке Музея сравнительной зоологии Гарвардского университета |
| {721} |
(§ 77) писал о том, что «все растения показывают сродство в разных направлениях, подобно территориям на географической карте».
Хотя в схеме карты-сети частично и отображалась правильная мысль о многосторонних связях каждой систематической группы, но эта схема снимала вопрос о прогрессе, о градации, о последовательности форм и с точки зрения эволюционизма играла отрицательную роль. Недаром ее сторонники были убежденные креационисты.
Ламарку-эволюционисту важно было четко показать восходящую линию развития и поэтому схема карты или сети, стиравшая картину прогресса, естественно, не могла его удовлетворить.
Защищая идею эволюции, Ламарк должен был выступить и против взглядов всесильного тогда Кювье. Этот ученый, естественно, был противником представления о градации форм. Кювье писал в своей «Сравнительной анатомии»: «Не все органы следуют одному и тому же порядку деградации: такой-то орган достигает наибольшего совершенства у одного вида, а другой орган у совершенно другого вида, в результате чего, если бы возникло желание расположить виды в соответствии с каждым из органов, рассматриваемых в отдельности, нужно было бы сформировать столько рядов, сколько бы было взято органов за основу этих рядов, и для того, чтобы построить общую лестницу совершенствования организации, нужно было бы вычислить результат каждой (из возможных) комбинаций, что почти невозможно»*. Кювье утверждал дальше, что только в пределах каждого типа строения, каждой особой «комбинации главных органов» можно в какой-то степени говорить о серии форм. «Как бы мы не располагали, — продолжает Кювье, — позвоночных животных и животных беспозвоночных, никогда нельзя будет поместить в конце одного из этих больших классов или в начале другого класса двух животных, которые были бы между собой сходны в такой мере, чтобы служить связующим звеном между классами». Это дало основание Фуркруа, опираясь на мнение Кювье, обрушиться на идею единой серии форм и утверждать, что наиболее знаменитые ученые {722} «отрицают возможность формирования подобной цепи существ и утверждают, что в природе подобной серии не существует, и что природа создала только изолированные друг от друга группы, или, точнее выражаясь, — в природе существуют тысячи независимых друг от друга и замкнутых в себе цепей, между которыми имеются разрывы, и соединить которые в единую цепь невозможно»*.
Естественно, что эволюционист Ламарк, сам критикуя упрощенческие построения лестницы существ, в то же время не мог согласиться с метафизической концепцией Кювье, отрицавшего исторические связи между различными подразделениями животного мира. Ламарк не устает подчеркивать, что «в общем и целом» в природе ясно виден путь от простого к сложному. И в такой общей постановке вопроса Ламарк был, конечно, прав.
Но в борьбе за идею развития, воплощенную в схему «градации», Ламарку пришлось выступить еще против одного противника, или, точнее, против одного направления, чрезвычайно популярного в первой половине прошлого века в биологической науке. Речь идет о выдающемся зоологе и сравнительном анатоме, основателе «синтетической морфологии» Жоффруа Сент-Илере и его сторонниках. Как известно, Жоффруа Сент-Илер обосновывал и развивал идею единства плана строения всего животного мира. Если на первом этапе своего научного творчества Жоффруа Сент-Илер, абсолютизировавший идею единства строения, высказывал лишь отдельные предположения в духе механистического трансформизма, то позже этот ученый вплотную подошел к эволюционной концепции. Ламарк с большой симпатией относился к Жоффруа Сент-Илеру, к его важным для науки открытиям, смелым поискам. Однако он не мог согласиться с ранними представлениями Жоффруа Сент-Илера, согласно которым все животные как позвоночные, так и беспозвоночные являются в сущности модификациями одного и того же плана строения. Это представление не могло быть совмещено с мыслью о прогрессивной градации животных, о постепенном нарастании сложности их {723} организации. Мысль о единстве строения всех животных могла быть совмещена только с концепцией механистического трансформизма. Ламарк же мыслил в иной плоскости и, не отрицая единства строения, говорил о нем только применительно к определенной группе организмов, например, применительно к уровню организации, достигнутого данным классом животных. Это, разумеется, не означает, что Ламарк не искал более глубоких черт единства всего органического мира в некоторых общих свойствах, присущих всем организмам.
В связи с этим интересно отметить, что Ламарк неоднократно ведет скрытую полемику против Жоффруа Сент-Илера. Этот ученый, отстаивавший идею единого плана строения всего животного мира при всей прогрессивности своих воззрений, длительное время не учитывал качественного своеобразия строения разных групп животного мира и бросал Ламарку упрек в том, что он, мол, не решает проблемы единства органического мира. Упрек этот неправомерен.
Интересно, однако, что сам Жоффруа на определенном, более позднем этапе своего научного творчества, подойдя вплотную к историческому пониманию органического мира, попытался сблизить идею единства строения и градации форм. Это дало повод Кювье (во время знаменитого диспута Кювье с Жоффруа в Париже в Академии наук в 1830 г.) сказать, что «принцип этот — градации — совершенно противоречит принципу идентичности композиции, однако оба эти принципа сочетаются в некоторых умах, так странно устроены некоторые головы...»*. Упрек Кювье в целом являлся неправильным, но, конечно, перегибы в трактовке единства строения животных, непонимание качественного своеобразия структуры животных на разных уровнях организации несовместимы с идеей градации, постепенного усложнения органического мира.
По существу же правильно истолкованный принцип единства строения должен быть неразрывно связан с идеей исторического развития органического мира. Об этом в сущности и говорил Ламарк, {724} когда он указывал в своей оставшейся неопубликованной «Вступительной лекции» 1816 г., что важные факты сравнительной анатомии, касающиеся единства строения, могут получить правильное истолкование только в свете учения о развитии животного мира, при учете «порядка образования» животных и их изменения, их «отклонений», в различных условиях среды.
Таковы были представления Ламарка о градации живых существ. Эту градацию Ламарк правильно истолковал как отображение исторического процесса развития органического мира от простого к сложному и перед ним встал естественный вопрос о причинах этого развития.
Перейдем сейчас к анализу важнейшего вопроса о том, как Ламарк понимал причины эволюционного развития организмов. Известно, что Ламарк усматривал причины эволюции в совместном действии двух факторов: с одной стороны, в постоянном «стремлении природы (tendance de la nature) к усложнению и совершенствованию организации», с другой стороны — в действии внешней среды, «обстоятельств». Уже в первой своей «Вступительной лекции» 1800 г., которая считается «актом рождения» эволюционной теории Ламарка, он говорит: «Без сомнения, создавая свои произведения, она (природа) шла не от более сложного к более простому. Судите же сами, что она могла произвести на протяжении времени с помощью обстоятельств!». Ламарк ссылается в этой своей лекции и на удивительный ряд, который образуют животные и на то, что природа создала наипростейшие организмы, «чтобы затем на протяжении длительного времени и с помощью благоприятствующих тому обстоятельств вызвать к жизни всех прочих»*. Если здесь оба эволюционные фактора отце неясно дифференцированы, то в дальнейшем Ламарк неоднократно отвечает на вопрос о том, каково соотношение этих двух факторов. Основным, определяющим направление эволюции он считал первый фактор, второй я<е рассматривал кате гжлу, {725} вызывающую многочисленные отклонения от прямолинейного хода развития, в связи с приспособлением организмов к тем или иным конкретным условиям существования. Ограничимся ссылкой только на одно из многих высказываний Ламарка по этому вопросу: «Если бы причина, непрерывно влекущая за собой усложнение организации, была единственной причиной, влияющей на форму и органы животных, то возрастающее усложнение организаций шло бы повсюду с непрерывной правильной последовательностью. Но это далеко не так. Природа вынуждена подчинять свои действия влиянию обстоятельств, а эти обстоятельства многообразно изменяют ее создания. Вот та особая причина, которая порождает то тут, то там в ходе деградации те столь необычные зачастую отклонения, которые она обнаруживает в своем поступательном движении»*.
«Стремление природы к усложнению» Ламарк прослеживает, характеризуя градацию животных во «Вступительных лекциях», в «Философии зоологии» (главы 6 и 8), в «Естественной истории беспозвоночных животных» и др., а градация растений охарактеризована им наиболее полно в «Естественной истории растений». В предыдущем разделе нашей статьи мы останавливались на вопросе о том, какие систематические категории Ламарк располагал по ступеням своей восходящей «серии форм» и какие изменения претерпели его представления о градации на разных этапах его научной деятельности. Что же касается расшифровки того, как следурт понимать это стремление природы к усложнению, то на этот вопрос Ламарк дает различные ответы, на которых мы остановимся несколько позже.
Видоизменяющей роли среды, влиянию «обстоятельств» Ламарк придает огромнейшее значение. Излишне в сопроводительной статье приводить конкретные примеры того, как Ламарк представляет себе изменения органических видов под влиянием изменения условий существования. Все эти примеры можно найти, обратившись к 7-й главе первой части «Философии зоологии» и к другим произведениям Ламарка. Напомним только, что Ламарк говорит о двух путях {726} видоизменяющего действия среды на организмы. На растения и низших животных среда действует непосредственно, на высших животных это действие оказывается опосредствованным через нервную систему. Изменение потребностей и привычек приводит, согласно Ламарку к усиленному упражнению или неупражнению тех или иных органов, что видоизменяет их. Эти видоизменения наследуются, накапливаются в последующих поколениях, что приводит в конце копцов к преобразованию видовой формы. На этом вопросе Ламарк останавливается уже в своей первой «Вступительной лекции» 1800 г., где мы находим и первые формулировки, являющиеся как бы прообразом знаменитых ламарковских «законов». Ламарк говорит здесь, обсуждая вопрос о роли «обстоятельств»: «И вот вследствие этих различных влияний способности расширяются и укрепляются благодаря упражнению, становятся более разнообразными благодаря новым, длительно сохраняемым привычкам, и незаметно строение, состав, словом — природа и состояние частей и органов подвергаются всем этим воздействиям, результаты которых сохраняются и передаются путем размножения следующим поколениям»*.
В дальнейшем свои представления по этому вопросу Ламарк уже четко формулирует в «Философии зоологии» в виде двух законов, сопровождая свои формулировки многочисленными конкретными примерами и пояснениями.
Приведем здесь эти формулировки.
«Первый закон
У всякого животного, не достигшего предела своего развития, более частое и более длительное употребление какого-нибудь органа укрепляет мало-помалу этот орган, развивает и увеличивает его и придает ему силу, соразмерную длительности употребления, между тем как постоянное неупотребление того или иного органа постепенно ослабляет его, приводит к упадку, непрерывно уменьшает его способности и, наконец, вызывает его исчезновение. {727}
Второй закон
Все, что природа заставила особей приобрести или утратить под влиянием условий, в которых с давних пор пребывает их порода и, следовательно, под влиянием преобладания употребления или неупотребления той или иной части [тела],— все это природа сохраняет путем размножения у новых особей, которые происходят от первых, при условии, если приобретенные изменения общи обоим полам или тем особям, от которых новые особи произошли»*.
Позже Ламарк несколько изменил эти свои формулировки и в третьей части своего «Введения» в «Естественную историю беспозвоночных животных» дал уже четыре закона, которые мы здесь также приведем.
«Первый закон. Жизнь своими собственными силами непрерывно стремится увеличивать объем всякого наделенного ею тела и расширять размеры его частей до предела, ею самой установленного.
Второй закон. Образование нового органа в теле животного является результатом новой появившейся потребности, которая продолжает оставаться ощутимой, а также нового движения, порождаемого и поддерживаемого этой потребностью.
Третий закон. Развитие органов и их сила действия всегда соответствует употреблению этих органов.
Четвертый закон. Все, что было приобретено, запечатлено или изменено в организации индивидуумов в течение их жизни, сохраняется путем воспроизведения и передается новым индивидуумам, которые происходят от индивидуумов, испытавших эти изменения»**.
Изложение этих законов Ламарк сопроводил довольно обширными рассуждениями и пояснениями, которые читатель найдет в тексте «Введения». {728}
Таковы в самых общих чертах взгляды Ламарка на причины эволюции.
Перейдем теперь к оценке этих взглядов. При всей огромной разноречивости в трактовке воззрений Ламарка, с которой мы сталкиваемся в научной и философской литературе, преобладающим (во всяком случае, в нашей литературе) является мнение, что если представления о действии среды разрабатывались Ламарком в материалистическом духе, то его представления о «стремлении природы» к усложнению и совершенствованию организмов — это отступление от материализма. Проанализируем теперь детальнее оба фактора эволюции, о которых говорит Ламарк, и сформулируем нашу точку зрения.
Что касается «второго фактора» (действие среды — обстоятельств), то в трактовке этого вопроса историческая заслуга Ламарка очень велика. Действие климата, питания и других факторов среды на организмы, влияние упражнения и неупражнепия органов, роль гибридизации и зародышевых вариаций — все это более или ме--нее детально отмечалось в трудах ряда ученых и философов и до Ламарка. Но никто до Ламарка не понял так глубоко, так целостно неразрывную связь организма и среды, выражающуюся в приспособленности организмов к условиям существования. Никто до Ламарка не смог показать в такой полной, последовательной форме, что изменение характера этой связи ведет к изменению видов и к непрерывно совершающемуся процессу эволюции организмов. И хотя Ламарк не смог (так, как это сделал позже Дарвинг дать удовлетворительное объяснение причин исторически возникшей приспособленности организмов, невозможно отрицать его огромную заслугу в том, что он правильно усматривал мощнейший импульс к историческому развитию в воздействии на организмы многообразных факторов среды. С этим связаны и представления Ламарка о возможности унаследования приобретаемых признаков. Это представление в той или иной форме было широко распространено среди естествоиспытателей и философов и до Ламарка. Мы находим его уже у мыслителей античной Греции. В XVI—XVIII вв. его {729} высказывают Сильвий, Кардан, Левинус Лемниус, А. Парэ, Мальпиги, Д. Рей, Бюффон, Ж. К. Деламетри, Мопертюи, Ламеттри, Дидро, Эразм Дарвин, А. Каверзнев, А. Болотов, И. Ертов и др.*. В некоторых случаях «механизм» унаследования приобретенных признаков усматривали в том, что от каждой части тела в «семя» выделяются особые «представительные частицы» (позднейшее гемуллы гипотезы пангенезиса Дарвина). Иногда представление об унаследовании приобретенных признаков прямо связывали с допущением образования таким путем новых видов. Однако Ламарк не просто повторил это распространенное представление, а утверждал, что унаследование приобретаемых в процессе жизнедеятельности признаков является общим законом эволюции организмов. Мы считаем, что в подобной общей и широкой постановке эти идей Ламарка являются прогрессивными, материалистическими. Давая эту общую оценку мы, разумеется, должны отвлечься от многого, что связано с формой, в которую были облечены идеи Ламарка. Не приходится доказывать, что историческая ограниченность фактического материала и многих представлений об организме, которыми оперировал Ламарк, уровень развития науки и философии той эпохи определили во многом и высказывания и аргументацию Ламарка. Но эта оговорка не меняет по существу нашей оценки. Вернемся к этому вопросу несколько позже, а сейчас остановимся на следующем.
Ламарк в соответствии со своей общефилософской и общебиологической концепцией придавал ведущее значение в механизме видоизменения организмов под влиянием среды действию так называемых флюидов. Что же он понимал под флюидами и каким образом представлялось ему изменение видовых форм под действием этого фактора? Представление о флюидах занимает огромное место в воззрениях Ламарка. Физика, химия и геология, общая теория жизни и физиология, учение об эволюции Ламарка не {730} обходятся без флюидов. Под флюидами в XVIII в. понимали особые, вездесущие, «тонкие материи», неизмеримо быстро текучие, сжимаемые, нечто по своей плотности и другим свойствам стоящее ближе к газам, чем к жидкостям. Говорили о флюидах — световом, тепловом, электрическом, магнитном, нервном и т. д. Гипотетическим представлением о флюидах естествоиспытатели XVIII в. пытались объяснить соответствующие (электрические, магнитные, физиологические и т. п.) явления.
Важнейшей чертой учения о флюидах было то, что эти гипотетические вещества рассматривались как своего рода материальные передатчики, посредники между теми или иными взаимодействующими телами. В концепции Ламарка (как и некоторых других авторов) воздействие среды на организмы было связано с представлением о том, что из окружающей среды флюиды проникают в организм и вызывают здесь различные изменения. Эти воображаемые материальные агенты «будоражат» живое вещество, играют формообразующую роль, являются фактором изменения видовой организации. В физиологических явлениях большая роль отводилась нервному флюиду, с огромной быстротой передвигающемуся по нервам — «нервным трубкам» и передающему влияния от мозга к периферии и наоборот.
Философская концепция Ламарка считала материальной первоосновой вселенной четыре начала — огонь, воздух, воду и землю (те же начала, которые мы встречаем у античных философов-материалистов). Из них главным, по Ламарку, является огонь, находящийся в различных состояниях (свободном, связанном и калорическом). Особо большое значение во вселенной имеет гипотетический «эфирный огонь», свободный, очень разреженный, проникающий во все тела. От него-то и берут начало электрический, магнитный и другие флюиды. Флюиды же, находящиеся в организмах, берут начало от флюидов внешней среды (нервный от электрического и т. п.).
Представление о флюидах было отброшено дальнейшим развитием науки. В истории философии и науки флюиды чаще всего истолковывались материалистически, как вездесущие тонкие материальные начала, хотя были и отдельные попытки их идеалистической {731} интерпретации. Не приходится доказывать, что Ламарк понимал флюиды именно сугубо материалистически (хотя, конечно, представление о флюидах было характерным именно для метафизического и механистического материализма). Каким бы наивным не казалось нам сейчас представление Ламарка о флюидах, но было бы ошибочным проглядеть основное — материалистическое устремление Ламарка в действии этого фактора найти материальный механизм изменения видовых форм. К тому же нужно не забывать, что Ламарк, аппелируя к своим гипотетическим флюидам, необычайно смело для своего времени, необычайно прозорливо предвосхищал многое из того, что стало достоянием науки наших дней. Это весьма детально показано в сопроводительной статье и комментариях (к I и II томам) С. Г. Геллерштейна, посвященных анализу психофизиологических воззрений Ламарка.
Обратим внимание читателя также на то, как тонко, прибегая к своим представлениям о флюидах, Ламарк анализирует проблему привычек в статье «Привычка», опубликованной в «Новом словаре» Детервилля. Известно, какое большое значение анализу привычек и их изменению в разных условиях существования животных придается в эволюционной концепции Ламарка.
В упомянутой статье дается превосходная картина эволюции физиологических механизмов привычек. Конечно, она дана на уровне состояния науки той эпохи и характерных для Ламарка представлений о флюидах. Ламарк показывает, что первоначально привычки обусловливаются механическими причинами, лежащими вне организмов, первые нервы тоже возбуждаются флюидом извне. Потом «раздражитель» как бы переходит во внутрь организма, и внутреннее чувство (трактуемое материалистически) направляет флюиды к мышцам. Сохраненные привычки видоизменяют организацию, открывают флюидам пути, по которым они должны проходить (идея проторенных путей, которой объясняются мпогие психические способности). В этом интереснейшем анализе Ламарк обнаруживает понимание отличий инстинкта от умственных актов и фактически отождествляет внутреннее чувство с инстинктом. {732}
В связи с вышеизложенным остановимся вкратце на понятии «внутреннего чувства», к которому часто аппелирует Ламарк, и открытие которого, как он сам подчеркивает, он ставил себе в заслугу. Сколько препебрежитольпых замечаний и насмешек вызвало это понятие со стороны материалистически настроенных ученых! Как пытались «освоить» и взять на вооружение понятие внутреннего чувства идеалисты, особенно из школы так называемых психоламаркистов! Но всякий, кто вчитывался в произведения Ламарка, согласитч ся с тем, что сам Ламарк сугубо материалистически интерпретировал это понятие, он не связывал с ним ничего мистического.
Под внутренним чувством Ламарк понимал особую категорию-«смутных» ощущений, возникающих под влиянием внутренних раздражителей. При этом он особенно подчеркивал роль потребностей в возникновении этих органических ощущений. В понимании Ламарка внутреннее чувство — это одна из функций развитой нервной системы, функция, связанная с другими функциями и имеющая даже особый очаг, особую локализацию в мозгу. Ламарк полагал, что в мозгу, наряду с особыми его отделами — «очагами», с которыми связана высшая интеллектуальная деятельность, имеется особый очаг ощущений — «центр отношений», с которым он и связывает возникновение «внутреннего чувства». «Следовательно, для мыслей, для выполнения умственных актов существует особое место, иными словами — особый очаг, совершенно отличный от центра отношений, служащего для осуществления ощущений и являющегося местом сосредоточия внутреннего чувства»,— пишет Ламарк*.
Б понятии «внутреннее чувство» многое противоречиво и представляет только исторический интерес, но кое-что подтверждено и современной психофизиологией, особенно в связи с учением И. М. Сеченова о физиологических механизмах «самоощущений». Во всяком случае ясно одно, что нет основания усматривать в атшеляции Ламарка к внутреннему чувству нечто идеалистическое. Другое дело, {733} что Ламарк нарушал, на наш взгляд, целостность своего эволюционного подхода к проблемам видообразования, когда он пытался ссылкой на деятельность этого своеобразного нервного фактора объяс нять новообразование органов, именно новообразование, а не эволюционное преобразование органов! Это приводило его подчас к весьма наивпым и несостоятельным предположениям.
В этой связи остановимся на следующем: чем отличаются приведенные выше «четыре закона» Ламарка от его «двух законов»? Что касается третьего и четвертого законов, то Ламарк сам отмечает, что они соответственно отвечают первому и второму законам «Философии зоологии» в несколько более простом выражении, без некоторых «частностей». О первом из четырех законов мы скажем дальше, а вот второй закон требует оговорки. Этот закон ставит вопрос о роли потребностей в эволюции животных. В «Философии зоологии» этот вопрос в формулировку законов не включен, а фигурирует в числе трех «предпосылок» к этим законам.
Как известно, Ламарк в последние годы своей научной деятельности много внимания уделял проблеме потребностей и способностей животных, что и получило отражение в формулировке второго закона. Основная мысль, отраженная в формулировке второго закона и развитая в пояснении к нему, заключается в утверждении, что у животных, способных чувствовать, «эмоция внутреннего чувства» может изменить как уже существующие органы, так и вызвать образование органов, которые до этого не существовали. Это последнее утверждение Ламарка является неправильным и интересно, что сам Ламарк вынужден обосновывать реальность второго закона... ссылкой на свой третий закон.
Вернемся сейчас снова к столь остро дискутируемому и в наши дни вопросу об унаследовании приобретаемых организмом признаков.
Мы не имеем возможности в рамках этой статьи рассматривать конкретный экспериментальный материал, а ограничимся той общей постановкой вопроса, которая нам кажется правильной. В широком смысле, мы можем сказать, что все изменения наследственности {734} приобретаются организмом в процессе взаимодействия со средой, в процессе определенного изменения типологии обмена веществ в организме. Что касается того, какие именно изменения переходят к поколениям, то это зависит от многих обстоятельств: морфофизиологической и биохимической основы возникшего изменения, связей изменившихся признаков с репродуктивной системой организма, момента и продолжительности воздействия, вызвавшего изменения, отбора, и т. д. Мы убеждены в том, что все явления органической эволюции (борьба за существование, отбор, изменения наследственности и т. д.) на разных этапах эволюции приобретают качественно различную форму. На разных уровнях организации живых существ, у организмов, принадлежащих к разным типам и классам животного или растительного мира, явления унаследования приобретаемых признаков принимают различную форму. К сожалению, до сих пор часто догматически рассуждают об унаследовании безотносительно к уровню организации и без учета характера возникших изменений. Например, нельзя говорить одинаково об унаследовании приобретенной резистентности у бактерий, зимостойкости у пшеницы, формы чешуйки в крыле бабочки и длины рогов у коровы.
Сказанное, как нам кажется, позволяет отбросить как вейсманистское отрицание унаследования приобретаемых признаков, так и ту точку зрения, которую мы считаем тем же вейсманизмом, но с обратным знаком, — точку зрения вульгаризаторов, признающих, по существу, унаследование в поколениях любого приобретенного изменения, независимо от характера этого измепения, от связей изменения с репродуктивной системой организма, от уровня организации, от направления отбора. Нам кажется также, что неясности в обеуждаемый вопрос чаето вносятся методологически неправильным полным смешением адекватного изменения наследственности с формированием приспособлений. Мы вынуждены ограничиться здесь этими краткими общими соображениями и вернуться к анализу воззрений Ламарка.
Естественно, что Ламарк на уровне научных данных его времени меньше всего мог заниматься (еще и сейчас недостаточно изученными) деталями сложной проблемы наследственности, а ограничился {735} только общей постановкой вопроса. При этом он не просто высказывал идею унаследования приобретаемых признаков (это делали многие и до него), а настаивал на общем значении этого принципа в изменении видов, в эволюции организмов, что составляет его несомненную заслугу как ученого-материалиста.
Ограничимся этими соображениями по вопросу о характере «второго фактора» эволюции и перейдем сейчас к анализу значительно более трудного вопроса о том, как следует расценивать «первый фак тор» эволюции и как его понимал сам Ламарк. Речь идет о пресловутом «стремлении природы» к усложнению и совершенствованию организмов. Апелляция к этому фактору казалась многим, в том числе и автору данной статьи, явным отступлением Ламарка от его материалистических представлений, связанных со «вторым фактором». И, однако, более детальное изучение Ламарка показало нам, что вопрос обстоит сложнее, что мы уже и пытались показать в наших комментариях к I тому этого издания.
Прежде всего, как определял или трактовал сам Ламарк это «стремление природы». Он давал по этому вопросу различные и подчас противоречивые формулировки. Чаще всего, однако, говоря о причинах исторического усложнения организмов, Ламарк усматривает их в «самом процессе жизни» или в «жизненных силах каждой особи» или в «силе, свойственной самой жизни» и т. п. Видимо, почувствовав необходимость точнее и конкретнее ответить на этот вопрос, Ламарк одновременно дает на него и другие ответы (причем обычно именно они фигурируют в позднейших его сочинениях). Эти ответы считают градацию «явным результатом тенденции органического движения» или еще определеннее — «результатом нарастающего влияния движения флюидов».
Вот что по этому вопросу пишет Ламарк в своей «Вступительной лекции» 1806 г., характеризуя движение флюидов и их роль в формообразовании: «Отсюда следует, что сущность органического движения состоит не только в том, чтобы развить организацию, но и в том, чтобы постепенно усложнить ее путем увеличения числа органов и выполняемых ими функций, по мере того как новые условия {736} и способы существования или новые привычки, усвоенные индивидуумами, требуют новых функций и, следовательно, новых органов»*.
В «Философии зоологии» Ламарк пишет: «Кроме того, если бы природа не могла наделить действия организации способностью все более и более усложнять эту же организацию путем увеличения энергии движения флюидов, а следовательно и энергии органического движения,— если бы она не сохраняла путем воспроизведения каждое достигнутое усложнение организации и все приобретенные усовершенствования, она, конечно, не смогла бы никогда произвести это множество бесконечно разнообразных животных и растений, столь отличающихся друг от друга по состоянию их организации и по их способностям»**.
Во «Введении» к «Естественной истории беспозвоночных животных» Ламарк, описывая «исторический ход развития явлений организации», прямо связывает его с деятельностью флюидов. «Однако, по мере того как движения флюидов — этих маленьких тел — приобретают большую скорость, их силы жизни и, следовательно, их жизненная активность соответственным образом увеличиваются, движения флюидов становятся более быстрыми; они прокладывают пути в той нежной ткани, в которой они содержатся; вскоре устанавливается разнообразие направлений этих движущихся флюидов, начинают образовываться специальные органы; сами флюиды, обогащая свой состав, все более и более усложняются и обусловливают большее разнообразие выделяемых ими веществ, а также веществ, составляющих органы; наконец, в зависимости от того, какую ветвь живых тел мы рассматриваем, мы увидим, что организация в отношении сложности и степени совершенства достигает той ступени развития, на которую она способна»***.
Мы привели только несколько из многих высказываний Ламарка но интересующему нас вопросу. Анализ этих высказываний Ламарка приводит нас к выводу, что Ламарк видел только одну
| {737} |
 |
ЖАН-БАТИСТ Л А М А Р К |
| {737} |
общую причину эволюционного развития, один общий «механизм» как для приспособительного преобразования видов, так и для исторического процесса усложнения организмов, и этой причиной он считал действие факторов среды, реализующееся при посредстве флюидов. Мы бы предпочли в дальнейшем, характеризуя взгляды Ламарка на причину эволюции, говорить только об одном эволюционном факторе, эффект которого может сказаться в двух формах.
Этот наш весьма ответственный вывод мы можем подкрепить и рядом других соображений.
Выше мы уже обращали внимание на то, что Ламарк понемногу отходил от представления о едином прямолинейном порядке образования живых существ и приближался к «схеме родословного древа». Это обстоятельство интересно не только само по себе, но и в аспекте анализируемого сейчас вопроса.
Исчезновение в концепции Ламарка «единой линии развития» имеет одну, теоретически чрезвычайно существенную сторону. Переход от представления о единой и прямолинейной серии к представлению о двух-трех разветвленных сериях повлек за собою одно весьма важное следствие. Если концепция единой прогрессивной серии отводила среде, внешним условиям, «обстоятельствам», роль фактора, вызывающего отклонения, нарушающего прямолинейность градации, то новая концепция непосредственно связывала «разветвленность» с реальными условиями существования животных. Иначе говоря, среда выступает здесь уже не только как фактор, вызывающий отклонения, нарушающий градацию, а как фактор, творчески создающий определенные направления развития, создающий отдельные ветви родословного древа. Это представление проскальзывает уже в «Дополнении» к первой части «Философии зоологии» и еще нагляднее отражено в псюледующих сочинениях Ламарка. Иными словами, «тенденция природы к прогрессу» и «всемогущество среды» начинают интимно переплетаться, и второй фактор все больше выступает, как основная закономерность природы, приведшая к развитию и усложнению органического мира. {738}
Этот новый мотив в воззрениях Ламарка звучит все явственнее. Мы приводили выше формулировку четырех законов Ламарка, данную им в 1815 г. во «Введении» к «Естественной истории беспозвоночных животных». В отличие от двух законов, охватывавших только «второй фактор» эволюции, четыре закона охватывают оба фактора. Примечательно уже то, что Ламарк включает «первый фактор» в свои законы.
Формулировка первого закона и особенно пояснительный текст к нему, который читатель найдет на соответствующих страницах «Введения», дают ясный ответ на вопрос о характере «первого фактора». Таковым является активность тех же материальных начал — флюидов, увеличение интенсивности и разнообразия их движения, обогащение и усложнение их состава. Рассказав здесь о действии флюидов, Ламарк задает вопрос: «Станет ли кто-нибудь оспаривать правильность этой картины, представляющей путь, пройденный организацией животных, начиная от самых несовершенных и кончая наиболее совершенными? Кто не увидит, что именно в этом проявляется исторический ход развития явлений организации, наблюдаемых у рассматриваемых животных, кто не увидит его в этом возрастающем усложнении в их общем ряде при переходе от более простого к более сложному?»*. И, наконец, в последнем своем произведении — «Аналитической системе» Ламарк формулирует восемь «аксиом», касающихся животных. Седьмая аксиома говорит о том, что большое разнообразие живых тел является результатом сочетания (reunion) влияния обстоятельств и стремления природы к усложнению организации.
Таким образом, Ламарк все больше подходил к признанию единой основы для «градации» и для адаптивного многообразия органического мира и нет основания в ламарковекой трактовке «первого фактора» эволюции усматривать отступление от материалистической интерпретации природы.
Иным, однако, представляется ответ на вопрос — дает ли подобная {739} трактовка удовлетворительное объяснение процессу эволюции и прежде всего разрешает ли она краеугольную проблему, стоящую перед любой эволюционной теорией, перед биологической наукой в целом — проблему органической целесообразности?
Прежде, чем ответить на этот вопрос, напомним, что в эпоху Ламарка одной из опор метафизического, теологического воззрения на природу, одним из препятствий на пути признания изменчивости органических форм была телеология — идеалистическое учение о целесообразности и ее ходовая разновидность — так называемая «натур-теология». Как известно, ухищрения телеологов сводились к тому, чтобы целесообразность в строении и функциях организмов привлечь для демонстрации «мудрой предусмотрительности» всемогущего творца. Телеология сильнейшим образом влияла на умы ученых, что становится очевидным при чтении трудов многих крупных натуралистов XVIII и начала XIX в. В то же время в эту эпоху имели место и попытки отвергнуть в той или иной мере телеологическую интерпретацию живой природы ж показать, что органическая целесообразность не является изначальным, сотворенным свойством, которым творец наделил живые существа, а свойством, возникшим естественным путем. XVIII в. пс поднялся до идеи естественного отбора в дарвиновском смысле, но аналогичные хотя бы по форме представления о возникновении в природе как гармоничного, так и дисгармоничного с последующей браковкой организмов, оказавшихся дисгармоничными, высказывались некоторыми натуралистами (Бюффон, Ласепед и др.) ив ясной форме провозглашались французскими философами-материалистами Ламеттри, Дидро, Гольбахом.
Какую же позицию в этом вопросе занимал Ламарк? Ответ на этот вопрос нужно расчленить и разобрать, какова была субъективная позиция Ламарка и каков был объективный смысл его теории. Что касается взглядов Ламарка по этому вопросу, то они противоречивы. Мы находим у него неоднократные рассуждения о «нерушимой гармонии», изначально господствующей в природе, отрицание противоречий в природе, случайности, дисгармоний и т. п. Даже описывая антагонистические взаимоотношения между организмами, {740} выливающиеся в форму борьбы за существование, Ламарк своеобразно и в сущности телеологично трактует их не как одну из предпосылок для изменения видов, а как средство природы поддержать все в равновесии и гармонии: «...благодаря этим мудрым предосторожностям природы все пребывает в порядке»,— пишет Ламарк*.
Эти утверждения вытекали из особенностей его деистического мировоззрения. Ламарку не могли оставаться неизвестными антителеологические идеи некоторых философов и натуралистов его времени, но он прошел мимо них. С его общей концепцией эти идеи плохо увязывались. У Ламарка мы можем найти и другие высказывания, звучащие весьма телеологично. Иллюстрируем это хотя бы таким его утверждением: «Изучая беспозвоночных животных, можно убедиться, что последовательно создавая их, природа постепенно переходила от более простого к более сложному. Она имела цель достичь такого плана организации, который допускал бы наивысшую степень совершенства (план строения позвоночных животных). Этот план сильно отличался от всех тех, которые она вынуждена была предварительно создавать, чтобы достигнуть этой цели...»*.
И наряду с подобными утверждениями мы найдем у Ламарка необычайно яркие высказывания, направленные по существу против телеологии. Приведем ввиду ее важности большую выдержку из «Введения» в «Естественную историю беспозвоночных животных» (это же повторено Ламарком и в «Аналитической системе»).
«Было бы подлинным заблуждением приписывать природе цель, какую-либо преднамеренность в ее действиях. Тем не менее это заблуждение — одно из наиболее распространенных среди натуралистов. Я замечу только, что, если нам кажется, что результаты действий природы отвечают заранее поставленным целям, то это происходит лишь потому, что неисчерпаемое разнообразие обстоятельств, в которых находятся существующие предметы, повсюду управляемое {741} постоянными законами, первоначально сотворенными верховным творцом для поставленной им перед собой цели, устанавливает гармонию между законами, управляющими всякого рода изменениями, обусловленными (этими обстоятельствами и результатами этих изменений. Это происходит также потому, что законы последних (низших) порядков зависимы и, с своей стороны, подчинены законам первых или высших порядков.
Именно в отношении живых тел и преимущественно — животных пытались приписывать природе целесообразность (but) в ее действиях. Между тем, здесь, как и везде, эта целесообразность только кажущаяся, а не реальная. В самом деле, в каждой отдельной организации этих тел порядок вещей, подготовленный причинами, которые его постепенно установили, привел только путем постепенного развития частей, управляемого обстоятельствами, к тому, что нам кажется целесообразностью, но, что на самом деле есть не что иное, как необходимость. Климат, положение, место обитания, средства к существованию и самосохранению, одним словом особые обстоятельства, в которых пребывает каждая порода, обусловили привычки данной породы; привычки видоизменили и приспособили органы индивидуумов. Отсюда получилось, что наблюдаемая нами гармония между организацией и привычками животных кажется нам заранее поставленной целью, тогда как в действительности это лишь конечный результат необходимости»*. Хотя и в этом интереснейшем высказывании Ламарка вскользь упоминается творец и поставленная им перед собой цель, но здесь ссылка на творца этим и ограничивается, его «цель» оказывается чем-то очень отдаленным, а весь пафос этого высказывания Ламарка направлен против телеологии и ее разновидности — натур-теологии.
Таковы воззрения Ламарка по этому вопросу. Но имеется и вторая сторона вопроса: дает ли эволюционная концепция Ламарка по своему объективному содержанию удовлетворительное, научное, материалистическое решение проблемы органической целесообразности. {742}
На этот вопрос мы можем дать только отрицательный ответ. Если бы это было иначе, то наша современная эволюционная теория должна была бы именоваться ламаркизмом, а не дарвинизмом. Ламарк не поднялся до идеи естественного отбора. Можно утверждать, что у него даже не было зачатков этой идеи. Причины этого различны. Сюда относятся как причины, связанные с его мировоззрением, так и причины чисто научного характера. Хотя мы сейчас не думаем, как это нам казалось раньше, что деизм Ламарка непосредственно обусловил его концепцию градации органического мира, но он и не прошел бесследно для системы теоретического мышления Ламарка. Не могло пройти бесследно и то обстоятельство, что материализм Ламарка носит явно выраженные механистические черты со всеми метафизическими недостатками, присущими этой системе мышления. Ламарк не видит поэтому (а когда видит,— не понимает) сложных и многообразных противоречий, лежащих в основе исторического развития органического мира: противоречий между наследственностью — изменчивостью и приспособлением, размножением и вымиранием, напряженные противоречия между органическими видами и окружающей их неорганической и органической средой (принимающие характер различных форм борьбы за существование) и т. д. Ламарк не видит противоречий, которые ведут к естественному отбору, являются основой «саморазвития» органического мира. Непонимание реальных противоречий в органическом мире не является случайным для Ламарка, а связано с его общим пониманием природы и характера господствующих в ней закономерностей.
К этому нужно добавить ж то, на что мы неоднократно указывали в наших предыдущих работах,— созерцательный характер ламарковского материализма. Он также не являлся случайным, а вытекал прежде всего из особенностей производственной жизни его родины в ту эпоху. Ведь практика производства новых пород домашних животных и новых сортов культурных растений (как и общий уровень сельского хозяйства) во Франции в конце XVIII и начале XIX вв. стояла на весьма низком уровне. У Ламарка не было и не могло быть того исключительно важного материала для построения {743} эволюционной теории, которым располагал спустя 50 лет Дарвин, материала, который свидетельствовал о величайшей творческой роли отбора. Но и «практика» Ламарка, как ученого-натуралиста весьма резко отличалась от «практики» Дарвина. Помимо исторически обусловленной ограниченности научного материала, которым мог располагать Ламарк, его опыт натуралиста носил характер «описательно-созерцательный», что также наложило отпечаток на его воззрения. И именно в этом направлении следовало бы попытаться охарактеризовать психологию научного творчества этих двух великих мыслителей, а не в направлении надуманных субъективистских «изысканий», чем занимаются буржуазные психологи наподобие Ф. Крукшенка.
По всем указанным выше причинам Ламарк искал движущую силу, источник развития органического мира «во вне». Идеалист увидел бы этот источник развития в деятельности какой-либо мистической «силы», как это декларировали позже автогенетики, неправомерно пытавшиеся ссылаться на Ламарка.
Ламарк-материалист прозорливо увидел мощнейший импульс к развитию в воздействиях среды на организмы, и многие высказанные им в этом направлении мысли стали бесспорным достоянием науки. Но Ламарк видел только одну форму воздействия «обстоятельств» на организмы и в весьма ограниченном, механистическом духе ее интерпретировал. Не могла быть поэтому разрешена Ламарком и важнейшая проблема органической эволюции — проблема целесообразности.
Целесообразность органических форм принималась Ламарком как нечто данное, нечто само собой разумеющееся, вытекающее из необходимых соотношений организмов и среды и не нуждающееся в дальнейших объяснениях. Но объяснение это было необходимо, без него нельзя было полностью обосновать эволюционное учение. Вопрос Ламарком не решался, а отодвигался. Почему организмы обладают способностью целесообразно реагировать на изменение окружающих условий, почему те же флюиды действуют столь целесообразно, усложняя и совершенствуя органический мир — на это учение Ламарка ответа не давало. Остается в силе утверждение К. А. Тимирязева, {744} что «по отношению к самому важному вопросу, по отношению к объяснению целесообразности организмов Ламарк не дал никакого ответа...»*. Поэтому при всей субъективной устремленности Ламарка в сторону материалистического истолкования жизненных явлений, проблема органической целесообразности — краеугольная проблема эволюции не могла им быть разрешена. На том уровне науки, без понимания творческой роли естественного отбора это и не могло быть сделано.
Со времен Ламарка наука накопила огромный новый фактический материал. Полвека отделяющие «Философию зоологии» от «Происхождения видов» (1809—1859) внесли в развитие науки много важного. Гениальному английскому естествоиспытателю Чарльзу Дарвину принадлежит заслуга всестороннего обоснования учения об историческом развитии органического мира. Одно из коренных отличий дарвиновского учения от ламарковского заключается именно в глубоком обосновании Дарвином принципа отбора, без которого не может быть полностью и материалистически истолкован эволюционный процесс, а также характернейшая черта органического мира — приспособленность организмов к условиям существования. Дарвину удалось разрешить те вопросы, на которые теория Ламарка в свое время ответить не могла. Вот почему Маркс сказал именно о работе Дарвина «Происхождение видов», что «эта книга дает естественно-историческую основу нашим взглядам», а в одном из своих писем об этой книге отметил, что, «несмотря на все ее недостатки, здесь впервые не только нанесен смертельный удар «телеологии» в естественных науках, но и эмпирически выяснен ее рациональный смысл...»**. И каковы бы ни были отдельные недочеты и ошибки теории Дарвина, но учение о развитии органического мира победило именно в форме дарвинизма. {745}
Нужно ясно понимать в чем отличие дарвиновских воззрений от ламарковских, но при этом недопустимо видеть только то, что разграничивает этих двух великих мыслителей, а не видеть, того, что их сближает, недопустимо принижать Ламарка, трактовать, как это делали неодарвинисты, воззрения Ламарка как «пройденный этап» в науке. Полная истина не сразу открывается человеку и будем благодарны тем, кто к ней мужественно шел и приближался. Энгельс говорил о том, что резкие разграничительные линии — hard and fast lines — несовместимы с теорией развития. Мы думаем, что неприменимы эти lines и при оценке ученых, деятельность которых была направлена на создание теории развития. Оценка «или — или» здесь зачастую неприемлема. Нужно брать мыслителей в их реальных исканиях и противоречиях, не затушевывать преходящего и ошибочного, но поднимать на щит все правильное и прогрессивное в их воззрениях.
За Ламарком остается не только великая историческая заслуга формулировки первой целостной эволюционной теории, но и заслуга обоснования ряда важнейших, научных, материалистических представлений эволюционизма, которые прочно вошли в науку и органически вплетены в систему дарвинизма, развиваемого с позиций диалектического материализма.
| {746} |

Несмотря на то, что со времени создания классических исследований Ламарка нас отделяет больше полутора столетий, некоторые стороны учения Ламарка до сих пор остаются недостаточно изученными. Это относится в первую очередь к системе воззрений Ламарка на строение и функции нервной системы, на происхождение и развитие психической деятельности. Мы не случайно употребили выражение «система воззрений», ибо внимательное и непредубежденное изучение соответствующих сочинений Ламарка убеждает в том, что Ламарк был создателем оригинальной и глубоко продуманной психофизиологической теории, явно материалистической по основной своей тенденции. Ламарк последовательно и систематически проанализировал все наиболее существенные проблемы психофизиологии и, придерживаясь строгого плана, шаг за шагом проследил весь сложный путь возникновения, формирования, развития и совершенствования психической деятельности. Ламарк отрицал существование души как первичной субстанции и выводил все сложные явления психической жизни из уровня развития материальной основы психики — нервной системы и мозга. Ламарк выступал неизменно как враг агностицизма и дуализма, аргументируя данными сравнительной физиологии и психологии. Ламарк выдвинул много новых, и не только для своего времени, идей о происхождении и сущности важнейших психических {747} процессов — ощущений и восприятий, представлений, памяти, внимания, мышления, воли, воображения и т. п. Созданной им системой психофизиологии Ламарк по сути венчал свою эволюционную теорию. Вот почему мы должны рассматривать психофизиологические труды Ламарка как органическую часть его научного мировоззрения. Вот почему оценку научного наследия Ламарка мы можем считать завершенной лишь в том случае, когда и его психофизиологическая теория будет подвергнута самому тщательному критическому анализу. До сего времени сделано это не было по многим причинам, о которых мы можем высказаться только предположительно. Быть может, причину невнимания историков науки к психофизиологическим взглядам Ламарка следует искать не только в недостаточно хорошем знакомстве с его специальными сочинениями, но и в существовании предубеждений, до сего времени не изжитых в отошешии Ламарка. Ламарк отчасти сам дал повод к этим предубеждениям. В специальных психофизиологических работах Ламарка бросается в глаза диспропорция между фактическим материалом и неоправдано широкими гипотезами и теориями. Критикам, не дававшим себе труда углубиться в сущность психофизиологических взглядов Ламарка, казалось, что эти взгляды носят на себе печать умозрительных натурфилософских построений, далеких от систематических наблюдений. Не могли не смутить некоторых критиков и особенности деистического мировоззрения Ламарка, хотя оно никак не сказалось на трактовке Ламарком психофизиологических проблем, а также учение о флюидах, получившее отражение во всех психофизиологических работах Ламарка, которые воспринимались как явно псевдонаучные. Бросалась в глаза также и тенденция Ламарка к механистическому пониманию психической деятельности, его склонность слишком поспешно и необоснованно перебрасывать мост от явлений физических и физиологических к сложным психическим процессам. Требовательную критику не мог удовлетворить схематизм Ламарка и склонность его к чрезмерно детальному расчленению элементов психической деятельности, проведению слишком резких демаркационных линий между тесно связанными и функционально объединенными процессами. Все эти {748} особенности мышления и способа изложения Ламарка, быть может, и послужили одной из причин, в силу которых выдвинутые им идеи, относящиеся непосредственно к происхождению психической деятельности, остались вне поля внимания критики.
Обратимся к анализу основных сочинений Ламарка, посвященных вопросам психофизиологии. Мы не станем рассматривать ранних его сочинений, в которых можно найти разрозненные мысли по ряду психофизиологических проблем. Можно считать, что систематическое изложение психофизиологических взглядов Ламарка впервые отражено в «Философии зоологии», в которой получили законченное выражение отдельные мысли по психофизиологическим вопросам, высказанные в лекциях по зоологии беспозвоночных и других ранних работах Ламарка. Из более поздних трудов Ламарка нам придется принять во внимание те, в которых Ламарк частью повторял, частью развивал и углублял идеи третьей части «Философии зоологии». Мы имеем в виду «Введение» к «Естественной истории беспозвочных животных» (1815) и «Аналитическую систему положительных знаний человека, полученных прямо или косвенно из наблюдений» (1820), а также его статьи из словаря Детервилля, повторенные почти дословно в «Аналитической системе».
Во всех этих произведениях основное ядро психофизиологической теории Ламарка сохранилось в нетронутом виде, и поправки, вносимые им в первоначальные формулировки, почти не касаются принципиальной стороны теории. Больше того, в более поздние сочинения по психофизиологическим вопросам Ламарк иногда переносил целиком целые отрывки из более ранних сочинений. Вот почему мы вправе считать, что все, что писал Ламарк о психической деятельности после опубликования «Философии зоологии», представляет собой повторение и лишь отчасти развитие положений, содержащихся в «Философии зоологии». Так смотрел на это и сам Ламарк.
Чтобы понять психофизиологическую теорию Ламарка, целесообразнее всего рассмотреть в определенной последовательности его взгляды по фундаментальным вопросам психофизиологии. Такой способ анализа воззрений Ламарка поможет нам составить ясное {749} представление о занятой им в отношении коренных вопросов психофизиологии теоретической позиции.
Ламарк неоднократно подчеркивает, что он смотрит на человека, как на существо естественное, и поэтому не признает существования особой духовной субстанции, якобы не связанной с физической природой человека и независимой от особенностей его организации. Будучи эволюционистом, Ламарк не мог себе представить возникновения сложных жизненных явлений без генетической их связи с простыми формами жизни. Он считал, что самые сложные психические функции, свойственные одному только человеку, возникли не сразу, а развились в ходе эволюции. Эта мысль Ламарка получила совершенно отчетливую формулировку в начале третьей части «Философии зоологии», став отправным пунктом всей системы. Ламарк подчеркивал, что лишь на определенной ступени организации материи возникла нервная система, а на определенной ступени развития нервной системы стала возможной психическая деятельность.
Отстаивая эту позицию, Ламарк отдавал себе отчет в том, что она стоит в резком противоречии с распространенным в его время воззрением идеалистов и агностиков, утверждавших, что невозможно перекинуть мост через пропасть, отделяющую физический мир от мира духовного. Первый решительный шаг в сторопу материалистического попимания психической жизни выразился у Ламарка в категорическом утверждении теснейшей связи материальных и духовных явлений. В полемике с Галлем и Шпурцгеймом, отрицавшими возможность научного проникновепия в тайну происхождения психических функций (ума, воли, чувства, памяти и т. д.), Ламарк с глубокой убежденностью в своей правоте писал: «Кто, в самом деле, может утверждать, что человек никогда не овладеет тем или иным знанием и не проникнет в те или иные тайны природы? Разве не открыл человек уже немало важных истин, из которых некоторые казались совершенно недосягаемыми для него?»*. {750}
Такая твердая уверенность Ламарка в познаваемости психической деятельности не только в простых, но и в самых сложных ее проявлениях непосредственно вытекает из его основного тезиса: ощущение, чувство, ум, воля и т. д. принадлежат к природным явлениям и доступны опытному исследованию.
Итак, Ламарк не признавал существования особой духовной субстанции, выходящей за пределы мира природы, и отказывался отнести их к области непознаваемого. Больше того, Ламарк считал, что изучение психической деятельности возможно лишь при условии, если для ее познания будут применены те же основные методы естественных наук, какие уже принесли плодотворные результаты во всех областях положительного знания. Ламарк имеет в первую очередь в виду методы наблюдения и опытного изучения явлений природы.
В чем видел Ламарк ключ к познанию психической деятельности? Прежде всего в изучении строения тех органов и функций, которыми обладают животные, обнаруживающие способность к психической деятельности. Как и все материалисты, Ламарк считал, что в основе психической деятельности лежат определенные физиологические процессы. Анализу этих физиологических основ (по терминологии Ламарка, физических основ) психической деятельности Ламарк и посвятил первые главы своей психофизиологической теории. Уже в этих главах сказалась плодотворность того эволюционного принципа, который составляет исходный пункт научного мировоззрения Ламарка: он начал с рассмотрения особенностей строения нервной системы у животных, стоящих на различных ступенях эволюционной лестницы, и связал эти особенности организации с вытекающими из них психическими проявлениями, тем самым заложив основу сравнительной психологии.
Ламарк смело берется за разрешение вопроса — почему психическая деятельность одних животных ограничивается элементарными двигательными реакциями, в то время как другие животные обнаруживают способность чувствовать, у третьих возникают тонкие и дифференцированные ощущения, у четвертых — способность образовывать представления, оперировать понятиями и, наконец, у человека {751} мы находим такие сложные проявления психической деятельности, как речь, мышление, творческое воображение и т. п.
Ламарк сумел дать весьма обстоятельную для своего времени характеристику нервной системы животных, стоящих на различных ступенях эволюции, и последовательно вывел из этой характеристики различия в психической деятельности этих животных. Со времени появления этих глав сравнительной психофизиологии, естествознание далеко шагнуло вперед в понимании строения и функций нервной системы. Нет ничего удивительного в том, что многие факты, на которых Ламарк основывал свое учение о происхождении, уровне и специфических особенностях психической деятельности животных с более простой и с более сложной формой организации, для настоящего времени устарели. Однако справедливость требует отметить, что многое из того, о чем писал Ламарк по этим вопросам, и по сей день не перестает удивлять исключительной тонкостью наблюдений и глубиной анализа.
Особенно плодотворным оказалось исходное положение Ламарка, впервые отважившегося применить принцип единства и взаимодействия органа и функции к пониманию строения нервной системы и возникающих на ее основе формах психической деятельности.
Нет необходимости подробно оценивать анатомические представления Ламарка о строении нервной системы различных животных вплоть до человека. Необходимо лишь подчеркнуть, что во всех случаях, когда Ламарк испытывал недостаток морфологических знаний, он старался гипотетически представить себе характер органа по выполняемым им функциям. Поэтому свои чисто анатомические заключения он иногда выводил как бы априорно, а в действительности на основе логически верных догадок. Так, пытаясь представить себе материальную основу ощущений, он писал: «Как для осуществления мышечных движений, так и для появления ощущений необходимо, чтобы система органов, предназначенная для производства подобного рода функций, имела очаг или центр отношений для нервов»*. {752}
Не зная, следовательно, многих существенных фактов о строении мозга, Ламарк умозаключал, и часто вполне основательно, что нервы, проводящие возбуждение от рецепторов к мозгу, чтобы оттуда передать импульсы к органам движения, должны иметь центральное представительство. Ламарк назвал это представительство «очагом или центром отношения нервов». Ламарк предположил, что очаг или центр не может не существовать там, где воспринимаемые извне воздействия трансформируются организмом в определенные мышечные акты. Это предположение Ламарка, хотя и носило казалось бы чисто дедуктивный характер, оказалось логически обоснованным. Ламарк не раз находил перспективное направление в поисках морфологического субстрата психических процессов.
Развивая свои взгляды на связь между строением нервной системы и ее функциями, Ламарк пришел к выводу еще более плодотворному и впоследствии оказавшемуся в полном согласии с фактами, установленными более точными методами. Ламарк утверждал, что «sensorium communae», или «центр связи для нервов, осуществляющий явления чувствительности» помещается у различных животных в разных отделах нервной системы, и что отделы эти тем ближе к головному мозгу, чем совершеннее организация животного и присущие ему способности, а у высших животных и человека «очаг чувства» помещается у основания мозга.
У Ламарка мы находим много высказываний о роли полушарий головного мозга. Несмотря на причудливую терминологию и тенденцию к резкому отграничению отдельных функций, а также функций собственно головного мозга и двух полушарий, Ламарк оказался совершенно прав в своем общем представлении о локализации психических функций. Процессы, разыгрывающиеся в полушариях головного мозга (или, как мы сказали бы сейчас, в коре больших полушарий), он связал с самыми сложными психическими актами, а нижележащим частям мозга он приписывал связь с инстинктивными формами поведения и явлениями «внутреннего чувства».
Хотя в «Аналитической системе» Ламарк лишь мимоходом затрагивает вопрос о физиологических основах психической деятельности {753} все же и в этом завершающем труде Ламарка, носящем скорее философский, а не биологический характер, мы находим несколько новых интересных соображений о строении и функциях нервной системы. Так, Ламарк настаивает на необходимости разграничить понятия «ясно различимый орган» и «неявственный орган», разумея под последним орган, не поддающийся точному анатомическому описанию. В связи с этим разграниченим Ламарк затронул вопрос о природе чувства и его локализации. Он пытался показать, что чувство обязано своим происхождением процессам, совершающимся в «неявственных органах». Этим замечанием Ламарк стремился подчеркнуть, что чувства, в отличие от ощущений, возникают не обязательно в связи с воздействием того или другого раздражителя, и что вопрос об их локализации представляется затруднительным.
К чести Ламарка надо сказать, что в своих анатомофизиологических и психофизиологических исканиях он стремился быть предельно конкретным и строил теоретические догадки, опираясь на добытые в его эпоху факты. Особенно ярко проявилась эта черта Ламарка в главах, в которых оп пытался отчетливо представить весь ход эволюционного процесса, приведшего к образованию высоко развитой нервной системы. Ламарк видел поворотный момент в истории развития животной организации в факте появления «белково-студенистого» вещества, способствовавшего, по мнению Ламарка, образованию мозговой мякоти нервного шнура и покрывающей его апоневротической оболочки. Это «белково-студенистое» вещество явилось благоприятной средой для проведения нервного возбуждения или, как думал Ламарк, нервного флюида. Только благодаря изолирующим свойствам апоне-вротических оболочек, покрывающих нервы, процесс возбуждения протекает в пределах нервов, не покидая их границ. По мере усложнения нервной системы отдельные скопления мозгового вещества концентрировались и собирались в одну основную массу, в которой, как в очаге, формировался «центр отношения». Все эти подробности, касающиеся образования морфологической основы сложных форм поведения животного, не должны казаться фантастическими, несмотря на то, что в настоящее время мы обладаем значительно более {754} точными представлениями о строении нервной системы и мозга. Рациональное зерно идей Ламарка о возникновении и развитии нервной системы следует видеть в историческом подходе к этой проблеме и в последовательном установлении связей между строением и функцией нервной системы. Ламарку удалось показать, как осуществлялось взаимное влияние одного на другое.
Никто до Ламарка так настойчиво и убедительно не разъяснял исключительной роли упражнения в развитии органа и функции. Он распространил принцип упражнения и на деятельность мозга. Так, высокую степень развития головного мозга и его полушарий у человека Ламарк связывал с тем фактом, что психические функции человека поддерживаются в состоянии непрерывной активности. Изменчивость нервного аппарата под влиянием функционирования — генеральная идея психофизиологического учения Ламарка. Эта идея до сего дня сохраняет свое принципиальное значение и время от времени в трудах различных исследователей приобретает новую доказательную силу. С особенной силой эта идея прозвучала в работах Сеченова. Не лишне напомнить, что в классическом труде Сеченова «Рефлексы головного мозга» содержатся яркие мысли о связи строения органов и их функций в применении к деятельности головного мозга*.
Итак, исходная позиция Ламарка, занятая им с первых же шагов построения психофизиологической теории, заключалась в том, что сложная психическая деятельность имеет определенный материальный субстрат, что ощущения, память, внимание, мышление, воля и т. д. являются не чем иным, как продуктом особой нервной организации. Чем сложнее эта организация, богаче и разнообразнее психическая жизнь, тем большие функциональные возможности открываются для психической деятельности. Не трудно понять, что в основном вопросе о связи материи и психики Ламарк стоял на строго материалистической позиции, считая, что материя первична, а психика — вторична. Несомненной заслугой Ламарка перед {755} материалистической психофизиологией надо признать и ту настойчивость и последовательность, с которыми он отстаивал именно это основное положение, и тот фактический материал, который он сумел привести и систематизировать для доказательства правильности своей исходной позиции.
Несмотря на то, что Ламарк не дошел до понимания роли труда и развитии психики, все же было бы несправедливо упрекать его в полном игнорировании этой проблемы. Именно в «Аналитической системе» Ламарк приблизился к правильной постановке вопроса о предыстории человеческой психики. В этой связи следует считать особенно примечательными мысли Ламарка о влиянии освобождения верхних конечностей на возникновение и развитие способностей, ставших достоянием только человека, прежде всего — способности к изготовлению орудий.
Выступая как эволюционист, Ламарк нарисовал широкую картину многообразия психических функций, свойственных животным, обладающим различной организацией нервной системы.
В этой связи определенный интерес представляют мысли Ламарка о последовательном усложнении психической деятельности я о достигнутых разными животными ступенях развития психической деятельности. Ламарк считал, что нервной системе — в зависимости от ее строения — оказываются доступными либо все, либо только некоторые из нижеследующих способностей:
1) способность к возбуждению мышечных движений;
2) способность вызывать ощущения и чувства;
3) способность производить «эмоции внутреннего чувства»;
4) способность порождать представления, суждения, мысли, память и т. д.
Так как различные отделы нервной системы возникали в ходе эволюции в определенной последовательности, то все перечисленные способности Ламарк рассматривал как градацию постепенного {756} развития психической деятельности. Так, на начальном этапе формирования нервной системы психическая деятельность ограничивается главным образом некоторыми функциями двигательного аппарата. Эти функции образовались раньше, чем возникла способность ощущения. На дальнейшей ступени развития нервной системы мы наблюдаем уже возникновение более сложных форм чувствительности. Наконец, на еще более поздней стадии развития нервной системы становятся возможными процессы умственной деятельности, проявляющиеся в анализе, синтезе, в оперировании понятиями и т. д. Эти функции доступны только человеку и в зачаточной форме высшим животным.
Все эти положения Ламарк попытался проиллюстрировать примерами из сравнительной анатомии и физиологии. Он показал, в чем проявляется зачаточная форма нервной системы («намеки на нервы и обособленные узлы»), в классе лучистых и других низших животных. Много места Ламарк уделил описанию насекомых, которым он приписывал способность не только к мышечным движениям, но и к неотчетливым чувствованиям, охарактеризованным им, как «простые, быстро преходящие перцепции возбуждающих их предметов». Особенно подробно Ламарк описал проявление психической деятельности у позвоночных, которым доступны уже «эмоции внутреннего чувства».
Мы уже упоминали, что решающим физическим, т. е. материальным фактором, в силу которого возникает и развивается сложная психическая деятельность, Ламарк считал наличие двух полушарий, венчающих головной мозг. Ламарк думал, что эти полушария представляют собой совершенно самостоятельный орган, так как способности животных, мозг которых обладает полушариями, резко возвышались над способностями всех прочих животных. Придавая полушариям роль самостоятельного органа, Ламарк предложил именовать его гипецефалом. В классификации животного мира, созданной Ламарком, на низшей ступени стоят животные, обладающие нервной системой без головного мозга. На следующей ступени располагаются животные, обладающие нервной системой и головным мозгом, но лишенные складчатых полушарий. На самой высокой ступени находятся животные, головной мозг которых венчается полушариями. {757}
В соответствии с такой ступенчатой организацией нервной системы дифференцируются и способности, присущие этим трем группам животных. Нельзя отказать этой классификации в стройности и логичности и нельзя не признать, что Ламарк, хотя и в схематической форме, наметил этапы эволюции нервно-психической деятельности в животном мире, основанную на надежных фактах, во всяком случае практически себя оправдавшую. Нужно все время иметь в виду уровень знаний той эпохи, в которой Ламарк создавал свою систему, чтобы оценить все значение психофизиологических изысканий этого замечательного естествоиспытателя-мыслителя.
Итак, одной из наиболее примечательных особенностей психофизиологической концепции Ламарка является ее связь с эволюционной теорией, выразившаяся в попытке дать анализ психических функций путем прослеживания последовательных этапов возникновения и развития психической деятельности у различных животных. Ламарк осуществил с большой глубиной и блеском (разумеется, на уровне знаний своего времени) ту задачу, которая впоследствии была сформулирована Сеченовым, как центральная задача научной психологии; Сеченов, как известно, писал, что «научная психология по своему содержанию не может быть не чем иным, как рядом учений о происхождении психических деятельностей»*.
Этой проблеме Ламарк уделил много места в ряде своих сочинений, в первую очередь в третьей части «Философии зоологии». Ламарк очень тонко и точно разграничивает понятия раздражимости и чувствительности. В ходе эволюции раздражимость возникла раньше чувствительности. Для явлений раздражимости требуется менее совершенное строение нервной системы, нежели для чувствительности. Хотя Ламарку не удалось показать переход раздражимости в чувствительность, и он считал, что «способность чувствовать и раздражимость — органические явления, совершенно различные и по своей {758} природе и по характеру вызывающих их причин»*, все же самый факт разграничения этих понятий и исторический взгляд на возникновение чувствительности составляют несомненную заслугу Ламарка.
Касаясь природы ощущений, Ламарк выделил в качестве первичного фактора возникновения ощущений воздействия раздражителей, как принадлежащих к внешнему миру, так и исходящих от самого организма. Ламарк писал: «Ощущения обязаны своим происхождением с одной стороны впечатлениям, производимым на наши чувства внешними, т. е. вне нас находящимися, предметами, а, с другой — воздействиям, производимым на наши органы внутренними и неупорядоченными движениями, которым эти воздействия приносят вред; отсюда и возникают внутренние боли»**. Тот факт, что Ламарк ограничивает действие внутренних раздражителей только вредными или болезнетворными влияниями, нисколько не умаляет ценности, защищаемой Ламарком. теории ощущений. Для своего времени эта теория так же, как и учение сенсуалистов, была шагом вперед, предопределив в известной мере последующую тенденцию материалистической психофизиологии к более углубленной трактовке ощущений как результата воздействия не только внешних, но и внутренних раздражителей.
Не довольствуясь установлением понятия ощущения, Ламарк стремился вскрыть механизм ощущений, уделив этой проблеме много места в «Философии зоологии». В этом наиболее ярком разделе психофизиологической системы Ламарка мы находим, наряду с тонкими догадками и глубокими мыслями, ряд положений, вытекающих из приверженности Ламарка к понятию нервного флюида. Однако достаточно внимательного и непредубежденного изучения взглядов Ламарка на роль нервных флюидов в возникновении ощущений, чтобы ясной стала чисто внешняя связь между выдвинутой Ламарком трактовкой ощущений и его учением о нервном флюиде. В контексте проблемы ощущений нервный флюид представляет собой, по Ла-марку, не строго определенное вещество, протекающее по нервным {759} проводникам, а скорее символ материальности процесса распространения нервного возбуждения. Во времена Ламарка трудно было представить процесс перехода возбуждения от точки тела, испытавшей воздействие, к определенным центрам, а от них к рабочим органам, не прибегнув к понятию движущейся материи, подобной флюиду. Если смотреть на движение нервного флюида как на способ передачи импульса от одной точки тела к другой, то его можно отождествить с процессом распространения нервного возбуждения, независимо от того, как трактовать природу этого процесса. Свидетельством дара научного предвидения Ламарка может служить тот факт, что, ничего не зная о природе нервного флюида, Ламарк сумел верно подчеркнуть необычайную скорость его движения и, что еще важнее, указать на факт неодинаковой скорости этого движения в различных нервах, у разных животных, а также при процессах, имеющих различное жизненное значение. Сущность учения Ламарка об ощущениях нисколько не изменится, если мы заменим его современными представлениями о распространении нервного возбуждения. Ламарку импонировало понятие нервного флюида главным образом потому, что он стремился, углубляя идеи философов-материалистов просветителей, проникнуть в физические (или физиологические) причины психических процессов. По справедливому замечанию академика В. Л. Комарова, нервный флюид, как его понимал Ламарк, «не имеет в себе ничего мистического, а скорее напоминает вид энергии»*.
К чести Ламарка надо сказать, что в «Аналитической системе» он сумел придать новый оттенок своему толкованию процесса распространения нервного флюида или, в нашем понимапии, нервного возбуждения. Выдвинув понятия простого и двойного отражения, Ламарк вплотную подошел к представлению о различии простых и сложных рефлекторных актов. Быть может, мы вправе видеть здесь гениальное предвидение существования механизма прямой и обратной связи, раскрытие которого оказалось столь плодотворным для современной психофизиологии. {760}
Исключительно интересны мысли Ламарка о возможности совершенствования чувствительности. Ламарк считал, что жизненный опыт и особенно фактор упражнения играют огромную роль в развитии ощущений. Впоследствии эта идея получила экспериментальное подтверждение, особенно в фактах, демонстрирующих влияние трудовой деятельности и специальных упражнений на развитие функций органов чувств. Можно без преувеличения сказать, что Ламарк ясно сознавал исторический характер органов чувств и привел веские доказательства в защиту этого положения, получившего особенно яркое развитие в трудах классиков марксизма.
В «Аналитической системе» Ламарк дал более расширенное толкование этому вопросу и внес уточнение в формулировку высказанного в «Философии зоологии» положения о причинах исключительно» высокого развития органов чувств человека по сравнению с высшими животными. Особый интерес представляют в этой связи замечания Ламарка о решающей роли жизненной потребности в развитии органов чувств и о той форме их совместного функционирования, которая приводит к эффективному их взаимодействию.
Ламарк убедительно показал, что ощущения играют сигнальную роль, облегчая контакт с внешним миром, расширяя и непрерывно коррегируя ориентировку в окружающем и служа первой ступенью познания действительности. Ламарка нельзя упрекнуть в примитивной трактовке этого вопроса. Он очень тонко подметил, что и внутренние органы обладают способностью под влиянием определенных воздействий сигнализировать «о том, что происходит внутри нас». Ламарк развивал это положение на примере болевых ощущений, но в его сочинениях можно найти и более широкое понимание этого вопроса.
Итак, в системе психофизиологических взглядов Ламарка проблема ощущений заняла центральное место, и в трактовке этой проблемы Ламарк оказался последовательным материалистом. {761}
Не довольствуясь анализом природы ощущений и раскрытием механизма их возникновения, Ламарк смело ставит перед собой еще более сложный вопрос, не получивший и в современной науке окончательного решения. Речь идет о проблеме перехода от ощущений к представлениям и от представлений га мыслям.
Как и его предшественники — философы эпохи французского Просвещения, Ламарк был сенсуалистом и считал, в согласии с Локком, что «нет ничего в интеллекте, чего не было бы в ощущении». («Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu»). Вот почему Ламарк, при постановке вопроса о происхождении представлений, придерживался формулы: «Всякое простое представление происходит единственно из ощущений»*. Более сложные представления, по мнению Ламарка, уже лишены связи с ощущениями и как бы отрываются от непосредственной чувственной основы познания. Тем не менее, даже в происхождении разумных действий, основывающихся на богатом мире представлений, Ламарк видел чувственные корни. Развивая эту мысль, он писал в «Философии зоологии»: «Всякое представление в конечном счете переходит в чувственный образ, а так как все, что составляет содержание нашего сознания, возникает благодаря ощущениям, то все, что порождается умом, но не связано с каким-либо воспринятым через ощущение предметом, бесспорно является химерой»**.
В «Аналитической системе» Ламарк утверждает: «Представление безусловно не является чем-то метафизическим, как это.думают многие; напротив, это — явление органическое, следовательно,— явление чисто физического порядка, обусловленное взаимодействием различных видов материи и теми движениями, которые при этом происходят»***. {762}
Таким образом, вопрос о переходе ощущений в представления и в мысли решается Ламарком с позиций сенсуализма. Однако Ламарк не сумел вскрыть истинный характер этого перехода. Верно определив генетические корни мышления, он оказался в плену прямолинейной схемы и стал на путь резкого противопоставления ощущений и мыслей. Так, Ламарк писал, что «при мышлении мы не имеем никакого ощущения» и что можно «думать не чувствуя и чувствовать не думая»*. С известной точки зрения это положение не может быть оспариваемо, но в своей категорической форме оно бесспорно стоит в противоречии с ранее приведенными взглядами Ламарка на связь между ощущениями и представлениями.
Это понятие занимает чуть ли не центральное место в психофизиологии Ламарка. Он часто возвращается к этой проблеме и не устает подчеркивать исключительную роль внутреннего чувства в жизнедеятельности организма. Так как понятие «эмоции внутреннего чувства» несколько необычно, никем не принято и заключает в себе нечеткость и оттенок тавтологии, то в оценке психофизиологических воззрений Ламарка исследователи предпочли обойти это понятие молчанием. Между тем, Ламарк не только много раз возвращается к вопросу о внутреннем чувстве, но страницы, посвященные этому вопросу, носят на себе отпечаток большой страстности и заинтересованности автора в пропаганде этого понятия. Ламарк настойчиво убеждает читателей в том, что именно в эмоциях внутренйего чувства они должны видеть источник наиболее жизненно важных проявлений животных и человека. Поэтому необходимо особенно тщательно проанализировать это понятие и выяснить, какой реальный смысл пытался вложить в него Ламарк.
Мы уже говорили о том, что к чести Ламарка он выделил особую категорию ощущений, возникающих от внутренних раздражений. Между эмоциями внутреннего чувства и так называемыми внутренними {763} ощущениями Ламарк устанавливает определенную связь, хотя и не отождествляет эти понятия. Общее в эмоциях внутреннего чувства и внутренних ощущениях заключается в том, что и те и другие имеют непосредственное отношение к инстинктивным формам поведения. И те, и другие, в отличие от ощущений, возникающих от внешних воздействий на органы чувств, носят смутный, органический характер. Как и внутренние ощущения, эмоции внутреннего чувства отражают особое состояние организма, возникающее в результате самых разнообразных воздействий, не всегда доходящих до сознания. Ламарк писал: «Чувство, о котором здесь идет речь и существование которого теперь всеми признано, возникает в результате сочетания ряда внутренних ощущений, непрерывно испытываемых животным в течение всей его жизни благодаря беспрестанному воздействию жизненных движений на его внутренние, обладающие чувствительностью, части»*.
Таким образом, внутреннее чувство возникает чаще всего от органических ощущений и при этом воспреемниками раздражений служат «внутренние чувствительные части тела». Он характеризует это чувство как смутное, неопределенное, мощное, непрерывное, цельное. Независимо от того, побуждает ли внутреннее чувство к определенным действиям в силу присущей этому чувству потребности или, наоборот, сама потребность является первичным фактором по отношению к внутреннему чувству,— жизненно важное значение этого чуветва не подлежит сомнению. В отличие от внутренних ощущений, эмоции внутреннего чувства носят более активный, целостный, напряженный и динамический характер. Внутренние ощущения не обязательно находят выражение в действиях, окрашенных сильной эмоцией. Надо признать большой заслугой Ламарка привлечение внимания к эмоциям внутреннего чувства, так как игнорирование их оставило бы неразрешенными многие вопросы, связанные со скрытыми причинами поведения животных и человека. Внутреннее чувство — это не только чувство голода, жажды, но это и такое {764} сложное чувство, как по терминологии Ламарка — «чувство существования». Именно это чувство порождает эмоции необычайной силы и побуждает к выполнению самых разнообразных действий, имеющих жизненно важное значение. Не следует приписывать Ламарку мысль, будто «чувство существования» и порождаемые им эмоции представляют собой нечто вроде внутренней силы, действующей спонтанно, без участия каких бы то ни было раздражителей. Ламарк прекрасно отдавал себе отчет в существовании зависимости внутреннего чувства от многочисленных воздействий, чаще внутренних, но иногда и внешних, которым подвергается животное в различных жизненных ситуациях. Не имея возможности экспериментально вскрыть механизм возникновения этого сложного чувства, Ламарк чрезвычайно тонко подметил связь с его эмоциями, как мощными побудителями к определенным действиям.
В современной психофизиологии можно нередко встретить указания на тождество понятий чувства и эмоции. Ламарк разграничивал эти понятия, замыкая чувство в рамки определенных ощущений или переживаний и рассматривая эмоции как более сложное динамическое явление, в котором, наряду с чувственной окраской переживания, содержится и толчок к известным действиям. В таком взгляде нет ничего противоречащего фактам. Среди современных психофизиологов можно встретить немало сторонников необходимости разграничения понятий эмоции и чувства. С этой точки зрения приходится признать, что понятие «эмоции внутреннего чувства» но заключает в себе тавтологии, а лишь подчеркивает динамический и активный характер чувства, которое одновременно представляет собой и состояние, и побудитель к действию.
Легко видеть связь между взглядами Ламарка на эмоции внутреннего чувства и воззрениями Сеченова, впервые с исключительным блеском раскрывшего сущность темных, смутных системных ощущений. Без натяжки можно установить преемственность идей Ламарка с современным учением об интерорецепции.
Таким образом, оценивая взгляды Ламарка на сущность и жизненное значение эмоций внутреннего чувства, нужно признать не {765} только вполне оправданным, но и весьма прогрессивным уже самый факт выделения в особую группу эмоциональных состояний, связанных со сложными внутренними ощущениями. Страницы, в которых Ламарк дает описание эмоций внутреннего чувства, принадлежат к числу наиболее ярких разделов его психофизиологических работ. Ламарк не только не проявил в этом вопросе односторонности, которой не избежали позднейшие исследователи, но вскрыл ряд чрезвычайно тонких деталей о связи эмоций внутреннего чувства с другими психическими процессами. В частности, Ламарк не раз подчеркивал, что изменения в состоянии внутренних органов и порождаемые этими изменениями ощущения и эмоции не только могут изменить направление мыслительной деятельности, но сами могут зависеть от определенных представлений и мыслей. Мы видим, что Ламарк был очень близок к пониманию сложного характера взаимодействия интеллектуальных процессов и эмоциональных состояний. Существование такого взаимодействия не составляет открытия Ламарка, потому что во многих психофизиологических сочинениях, опубликованных до появления «Философии зоологии», эта идея не раз высказывалась, но в трактовку этого взаимодействия Ламарк внес существенный оттенок.
Ему принадлежит весьма тонкое замечание относительно характера изменения мышления под влиянием процессов, совершающихся во внутренних органах и порождающих определенные эмоциональные состояния.
Оспаривая мысль Кабаниса, склонного приписывать эмоциям, обусловленным изменениями во внутренних органах, роль решающего фактора в актах мышления, Ламарк писал: «Мне кажется, что этот ученый черезчур далеко зашел в тех выводах, которые он сделал из своих наблюдений. Бесспорно, нарушение деятельности органов и, в частности, органов брюшной полости, часто сопровождается угнетенным состоянием духа и действительно способствует ему. Однако подобного рода состояние, по моему мнению, отнюдь не участвует в образовании мысли. Оно лишь вызывает появление у индивидуумов известной направленности ума, побуждающей их предпочесть один {766} строй мыслей другому»*. Ламарк затронул здесь один из важнейших вопросов психофизиологии, к сожалению, и по сей день остающийся слабо изученным, несмотря на то, что психофизиология последних десятилетий значительно обогатила эту область знания. С присущей ему наблюдательностью он подметил разницу между содержанием мышления и его направлением. Именно направление мышления меняется под влиянием эмоций внутреннего чувства, и это находит свое выражение в «настроениях ума». Эти «настроения», подверженные изменениям под влиянием «эмоций внутреннего чувства» (в частности, ощущений, возникающих под влиянием раздражений внутренних органов), Ламарк сумел отличить от обычных нарушений интеллектуальной деятельности.
Мы уже подчеркивали, что учение Ламарка об «эмоциях внутреннего чувства» стоит в прямой связи с его взглядами на природу инстинкта. В задачу этой статьи не входит подробный анализ ламарковской трактовки инстинкта. Мы считаем лишь необходимым подчеркнуть, что обвинение Ламарка в отождествлении инстинкта с некоей внутренней силой (чуть ли не мистического характера), действующей спонтанно и как бы направленной на решение жизненно важных для организма задач, не основано на объективном изучении творчества Ламарка. Раздумывая над вопросом об источнике, из которого животное черпает побуждения к инстинктивным действиям, Ламарк попытался выяснить, что лежит в основе способности животных «более или менее внезапно приводить в движение части своего тела, иными словами, выполнять разнообразные действия, с помощью которых они удовлетворяют свои потребности». На этот вопрос он дал следующий ответ: «...всякое действие является не чем иным, как движением и всякое, впервые появляющееся движение возникает только под влиянием той или иной причины, способной его произвести. Вопрос сводится, таким образом, к тому, чтобы определить природу и происхождение этой причины». И далее: «Когда я привял во внимание то обстоятельство, что движения животных при выполнении {767} ими тех или иных действий осуществляются отнюдь не путем сообщения или передачи этих движений извне, но возникают в результате раздражения, то мне стала с необыкновенной ясностью и очевидностью понятна причина этих действий и я пришел к выводу, что они во всех случаях обязательной вызываются возбудившей их силой»*.
Таким образом, по мысли Ламарка, источник инстинктивных движений коренится в конечном счете в неких возбудителях, т. е., выражаясь современным языком, инстинктивные действия носят рефлекторный характер. Прежде чем инстинктивное действие совершается, оно получает толчок от ощущений, возникающих под действием различных внешних или внутренних раздражителей.
Чтобы убедиться в том, что Ламарк не склонен был видеть различия между инстинктивными и разумными действиями в том, что одни нуждаются в толчке, а другие якобы в нем не пуждаются, сошлемся на приведенный Ламарком пример инстинктивных актов, непосредственно возникающих под влиянием ощущений, испытываемых от внешних воздействий. Речь идет о поведении собаки, замечающей издали другую собаку. Разъяснив, что и как побуждает одну собаку броситься навстречу другой собаке, Ламарк пишет: «Вот пример проявления инстинкта, вызванного внешним объектом; точно таким же образом могут происходить тысячи других действий такого же характера»**. В понимании этого вопроса Ламарк резко расходится с Кабанисом, приписывавшем инстинктам происхождение от одних только внутренних возбудителей. Таким образом, при анализе взглядов Ламарка на природу инстинкта выясняется, что «эмоции внутреннего чувства» Ламарк трактовал расширительно, не ограничивая источник этих эмоций одними только внутренними раздражителями, хотя, как правило, именно этого рода раздражители характерны для инстинктивных действий. Следует еще упомянуть о том, что Ламарк не считал инстинктивные действия изначально данными и неизменными, он доказывал,что постоянство инстинктов представляет собой {768} продукт длительной привычки, развившейся и закрепившейся под влиянием проторения одних и тех же нервных путей. В результате нервное возбуждение, идущее по проторенным путям, становится облегченным в своем движении, и привычка как бы перерастает в некое неотъемлемое свойство животного.
Таким образом, «эмоции внутреннего чувства» и связанные с ними инстинктивные действия не являются порождением внутренней силы, а представляют собой весьма сложный вид реакции организма, достигшего в процессе эволюции определенной ступени развития и приобретшего, благодаря свойствам нервной организации, весьма различные способности, обеспечивающие приспособление к окружающей среде. Если так трактовать воззрения Ламарка на природу инстинкта и на «эмоции внутреннего чувства», то едва ли можно усмотреть в этих взглядах отступление от материалистического подхода к этому вопросу. Больше того, с широко принципиальной точки зрения взгляд Ламарка на инстинкт оказывается весьма близким к современной трактовке инстинкта школой И. П. Павлова, рассматривающей инстинкты как сложнейшие безусловные рефлексы, как закономерные реакции организма на определенные агенты.
В «Аналитической системе» Ламарк подробнее касается вопроса о природе инстинкта и приводит новые доказательства в защиту развиваемых им мыслей об изменчивости инстинктивных действий и о связи инстинктов и потребностей.
Стремясь вскрыть физиологические основы памяти, Ламарк выдвинул идею о существовании специфического свойства нервной ткани, заключающегося в способности фиксировать, хранить и оживлять следы испытанных возбуждений. Функции запечатления и запоминания были бы невозможны, если бы нервная ткань не обладала указанным свойством. Ламарк считал, что «по запечатленному следу того или другого ранее приобретенного представления» пробегает нервный флюид, благодаря чему след оживляется и старое представление как бы воскресает. Ламарк много раз возвращается к этой {769} идее следов (или отпечатков) при трактовке проблемы запоминания. Сейчас учение о следах занимает совершенно определенное место в психофизиологии памяти и нам остается удивляться силе научной интуиции Ламарка, сумевшего на заре XIX в. с полной отчетливостью и с не потерявшими по сей день научного значения доказательствами обосновать свою теорию памяти, опираясь на учение о следах или отпечатках.
Идея следов послужила Ламарку отправным пунктом для трактовки явлений непроизвольных воспоминаний, особенно ярко обнаруживающихся б сновидениях. Анализу механизма сна и сновидений Ламарк посвятил особое место в своей психофизиологической системе, и надо сказать, что даже вскользь брошенные Ламарком замечания по этому вопросу свидетельствуют о глубокой проницательности и исключительно тонкой наблюдательности этого ученого.
Ламарк считал, что сновидения возникают в результате непроизвольного возбуждения различных мозговых центров, в которых как бы сохраняются следы прежних воздействий и впечатлений. Весь прошлый жизненный опыт особи как бы запечатлен в этих следах и в зависимости от самых разнообразных причин то одни, то другие следы оказываются непроизвольно воскрешаемыми во сне. Содержание сновидений и служит как раз выражением той сферы жизненного опыта, которая почему-либо оказывается «оживляемой» при непроизвольном возбуждении соответствующих центров. Современный психофизиолог едва ли мог бы прибавить что-нибудь существенное к этой удивительно ясной трактовке сложнейшего вопроса, казалось бы, непосильного для психофизиологии времен Ламарка. Особенно примечательна в этой связи интересная мысль Ламарка — о том, что флюид, направляемый в своих движениях внутренним чувством, «пробегает без всякого порядка» по следам различных отпечатанных здесь представлений и делает их ощутительными для нас, но в величайшем беспорядке, чаще всего искажая их путем общего смешения «и на почве странных, превратных суждений».
Если помнить, что мы можем заменить понятие флюида понятием потока нервного возбуждения, то нужно будет признать, что Ламарк {770} весьма точно и физиологически совершенно правильно осветил вопрос о своеобразном состоянии мозга во время сна, когда торможение коры облегчает путь к беспорядочному течению нервного возбуждения и образованию логически не связанных ассоциаций, сплетающихся в причудливый узор сновидений.
Представление о непроизвольном оживлении следов, оставляемых прежним жизненным опытом, послужило для Ламарка отправным пунктом для трактовки явлений образования бреда. Ламарк связал это состояние с возбуждением мозга, не контролируемым сознанием. В таком состоянии различные образы и мысли беспорядочно возникают и сменяют друг друга. Современная физиология дала, разумеется, более исчерпывающую характеристику сноподобных, гипнотических и различных патологических состояний, возникающих в условиях торможения корковых функций и растормаживания обычно подавляемых импульсов. И все же надо отдать должное Ламарку, сумевшему разобраться в этих сложных явлениях более полутораста лет тому назад и нашедшему поразительно ясные формулировки, близкие к современной трактовке этой стороны психической деятельности человека.
Ламарк рассматривал мышление как способность, присущую только человеку, хотя он и признавал существование зачаточных форм ума у животных. Верный своему принципу во всем сложном искать первичные анатомо-физиологические корни, Ламарк и при подходе к анализу мышления счел необходимым подчеркнуть, что «органом ума» он считает гипоцефал, т. е. кору полушарий головного мозга.
Развивая свой взгляд на природу мышления, Ламарк наметил верное решение вопроса о связи мышления и языка. Язык он рассматривал, как средство передачи мыслей и в полемике с Кондильяком решительно подчеркнул именно эту функцию языка. «Без сомнения,— писал Ламарк,— язык не менее полезен для мысли, чем для речи. Приобретенные представления необходимо связывать с условными знаками для того, чтобы они не оставались изолированными, чтобы мы могли сочетать их, сравнивать и устанавливать отношения между {771} ними. Но эти знаки, в сущности, не что иное, как вспомогательное средство, иными словами — искусственные приемы, бесконечно полезные и помогающие нашему мышлению, но отнюдь не являющиеся непосредственной причиной образования представлений»*. В этом рассуждении Ламарка есть неуловимый оттенок весьма своеобразной мысли, раскрывающей в скрытой полемической форме несогласие Ламарка с крылатым выражением Кондильяка: «Наука есть искусно составленный язык». Кондильяк доказывал, что язык играет по отношению к мышлению роль причинного фактора, доведя тем самым до абсурда идею взаимосвязи языка и мышления. Ламарк был ближе к истине, когда развивал свой взгляд на язык, как на орудие или средство мышления. Вопрос этот глубоко интересовал Ламарка и нет ничего удивительного в том, что и в «Аналитической системе» он уделил ему внимание. Именно в этом последнем своем труде Ламарку удалось придать своим взглядам на проблему отношения языка и мышления более стройный и законченный характер.
Весьма глубоки и доказательны соображения Ламарка о роли фактора упражнения в развитии способности мышления и о несостоятельности укоренившихся под влиянием Галля представлений о врожденном характере умственных способностей человека. Ламарк по сути протестует против крайних форм учения о врожденности психических свойств, в частности, свойств, относящихся к сфере мышления. Подлинным пафосом проникнуты те страницы психофизиологических глав различных сочинений Ламарка (особенно — третьей части его «Философии зоологии»), которые посвящены доказательству огромной роли воспитания, упражнения и жизненных обстоятельств на развитие умственных способностей. Приведем одно только место из «Философии зоологии» для иллюстрации нашей мысли: «В самом деле, каждый индивидуум уже с момента своего рождения подвергается влиянию тех обстоятельств, в которых он находится и которые в значительной степени способствуют тому, что они делают его именно таким, каким мы находим его в различные периоды его {772} жизни; эти обстоятельства позволяют ему упражнять или не упражнять ту или иную способность, или то или иное предрасположение, полученное им от рождения; таким образом, в общем можно сказать, что сами мы весьма мало влияем на то состояние, в котором находимся в течение всей нашей жизни, и что мы обязаны нашим вкусам, склонностям, привычкам, страстям, способностям и даже знаниям бесконечно разнообразным и в то же время особым для каждого индивидуума обстоятельствам, в которых каждый из нас находится»*. Легко понять, что Ламарк не отрицал существования врожденных данных, по он не придавал им решающего значения в формировании психики, а скорее видел в них предрасположение к склонностям, которые передаются родителями «одновременно с организацией».
Весьма содержательны рассуждения Ламарка о сущности внимания как психического процесса, подготовляющего органы чувств и «органы ума» к наилучшему восприятию и анализу свойств объекта. Ламарк считал внимание основной умственной способностью и разграничивал внимание от ощущений, с одной стороны, и от представлений, с другой. В трактовке Ламарка внимание — не что иное, как установочная функция, создающая предпосылки для того минимального напряжения, которое необходимо для фиксации объекта. В случае, когда этого необходимого напряжения нет, «орган ума» оказывается не подготовленным для восприятия объекта. Ламарк писал о подобном состоянии: «Несмотря на то, что ваши глаза открыты и испытывают воздействия со стороны окружающих предметов, у вас не образуется никаких представлений, ибо вызываемые этими предметами ощущения не достигают вашего органа мысли, не подготовленного к их восприятию. Точно также вы не слышите, вернее, не различаете в этих условиях и шумов, которые достигают ваших ушей»*.
В описательной характеристике таких явлений, как глубокая сосредоточенность или рассеянность, Ламарк мастерски проанализировал роль акта внимания в условиях, когда мысль поглощена каким-нибудь предметом и эта поглощенность достигает степени, {773} препятствующей восприятию всего, что не относится к объекту мысли. Рассматривая этот вопрос в плане сравнительной психологии, Ламарк тонко подметил особенности внимания животных, для которых предмет воспринимается в той мере, в какой им необходимо задержаться на том или ином ощущении и удовлетворить возникшую потребность. Ламарк метко подчеркивает, что «животные видят, как бы не замечая», то-есть не сосредоточивая внимания. Этим Ламарк объясняет ограниченность мира представлений животных. Переходя к человеку, Ламарк с большой убедительностью раскрывает специфические особенности актов внимания человека и снова напоминает об огромной роли фактора упражнения для развития внимания. Правда, и здесь Ламарк обошел вопрос о роли труда в его связи с качеством внимания человека.
Вопросу о воображении Ламарк уделил особое место и в третьей части «Философии зоологии» и в «Аналитической системе». Он дал весьма тонкий анализ актов воображения и показал, как, пользуясь контрастностью представлений, основанных на реальных ощущениях, человек способен силою своего воображения представить себе то, чего в реальном опыте не существует, доходя таким путем до идеи бесконечного, вечного, духовного и т. д. Основная мысль Ламарка при трактовке им процессов воображения сводится, однако, к тому, что как бы далеко ни заходил человек в своих фантазиях, он неизменно опирается на представления, полученные из ощущений. Животным Ламарк отказывает в способности к воображению, ссылаясь при этом на не раз высказанные им взгляды о бедности представлений животных в связи с ограниченными потребностями. Способности воображения Ламарк придает огромное значение, так как только благодаря воображению возможно создать искусство. «Без воображения нет гения»,— говорит Ламарк, поясняя эту мысль примерами из области литературы, науки и т. д.
Нет необходимости останавливаться на других психофизиологических или чисто психологических проблемах, поднятых Ламарком в ряде сочинений. Отметим лишь, что по сути Ламарк коснулся с большими или меньшими подробностями всех разделов психофизиологии, {774} повсюду и везде отстаивая необходимость в первую очередь вскрыть физиологическую основу сложных явлений психической жизни животных и человека. На этом пути он сделал больше, чем кто-нибудь из современных ему ученых последующих десятилетий. Не будет преувеличением, если мы скажем, что только в 60-х годах XIX столетия, с появлением классического труда И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», психофизиология была поднята после Ламарка на качественно новую ступень.
Подведем итоги. Какие ценные для нашего времени идеи мы находим в психофизиологической системе Ламарка? Главное достоинство этой системы мы должны видеть в том, что Ламарк поставил и в значительной мере разрешил центральную проблему психофизиологии — проблему происхождения и развития психики, внеся в трактовку этой проблемы дух подлинного материалистического направления исследования. На уровне знаний своего времени Ламарк преодолел дуализм психического и материального, выступив как противник «обособления психического», если пользоваться выражением Сеченова. Ламарк считал принципиально невозможным отделять психику от ее материальной основы. Этот вывод можно сделать с полной ответственностью, несмотря на то, что мировоззрение Ламарка не лишено противоречий и что на нем лежит отпечаток умозрительной натурфилософии.
Ламарк не только показал и доказал, что в основе психического лежат материальные процессы, что психика возникает лишь на определенной ступени организации материи, но он не уставал доказывать, что психика познаваема. Его выступления против агностиков проникнуты подлинным пафосом и глубокой убежденностью в том, что рано или поздно самые сложные явления психической жизни будут познаны, притом естественнонаучными методами.
Ламарк заложил основы сравнительной психофизиологии, описав специфические особенности психической деятельности животных, стоящих на разных ступенях эволюционной лестницы. Особенно следует подчеркнуть именно эту заслугу Ламарка перед {775} наукой, ибо он не ограничивался общей декларацией о необходимости искать материальную основу психики, а на доступных ему фактах сравнительной анатомии и физиологии животных продемонстрировал, каким образом свойства нервной системы связаны с той или иной формой психической деятельности. Мы вправе сказать, что немеркнущая заслуга Ламарка именно в том и заключается, что он показал на ряде убедительных примеров, свойством какой организованной материи является каждое конкретное проявление психической деятельности.
Ламарку принадлежит ряд замечательных идей о психофизиологии памяти и связи явлений памяти со следами, оставляемыми ощущениями и восприятиями. Мы разобрали взгляды Ламарка на сущность различных психических актов — внимания, воображения, мышления — и показали, что Ламарк не покидал при истолковании этих актов почвы сенсуализма в его материалистической форме.
Даже пресловутая идея флюидов, пронизавшая собой всю психофизиологию Ламарка, не помешала ему верно описать такие тонкие и трудные для понимания процессы, как процесс нервного возбуждения, механизм образования ощущений, переход от ощущений к движениям, образование проторенных путей и т. д. Совершенно оригинальным надо считать учение Ламарка об эмоциях внутреннего чувства. Эта излюбленная Ламарком идея занимает центральное место в его психофизиологии, и надо отдать должное Ламарку в том отношении, что оп сумел подметить жизненно важную сторону этих эмоций, показал их связь с инстинктами и склонностями, описал процесс возникновения генерализованных эмоций и чрезвычайно тонко проанализировал влияние этого рода эмоций на поведение животных и человека. Особое место он уделил выяснению различий в поведении, возникающих в условиях, когда источник поступков заключен в эмоциях внутреннего чувства, с одной стороны, и когда поведение регулируется более высокими инстанциями (мы сказали бы сейчас — корковыми инстанциями) — с другой.
Итак, на заре прошлого столетия Ламарк поднял в своей психофизиологической системе важнейшие вопросы физиологии и психологии {776} и, идя в верном направлении, раскрыл истинные отношения между этими двумя науками. В многочисленных сочинениях Ламарка, к сожалению, частью позабытых, частью извращенных, частью недооцененных, Ламарк выступал, как подлинный материалист. Поэтому он по праву занимает почетное место среди борцов за материалистическую психофизиологию. Выдающиеся качества этого бескорыстного искателя истины и редкого по цельности исследователя лишь сейчас становятся очевидными, так как психофизиологические воззрения Ламарка, рассмотрению которых посвящена данная статья, а также комментарии к соответствующим его сочинениям, составляют органическое звено в его научном мировоззрении.
| {777} |

Составил И.М.Поляков
1 Классический труд Ламарка «Естественная история беспозвоночных животных» (полное название на русском и французском языках см. в тексте) был впервые издан в Париже в 1815—1822 гг. Труд этот был издан в семи томах, из них первый том вышел в марте 1815 г., седьмой — в августе 1822 г. В этом труде были заложены основы зоологии беспозвоночных животных. Распределение материала по томам в библиографии.
Первые зоологические работы Ламарка были опубликованы в 1792 г. Начиная с первого прочитанного им в 1794 г. курса зоологии, Ламарк делил животных на беспозвоночных и позвоночных. На протяжении своей дальнейшей научной деятельности Ламарк развивает и совершенствует научную систему беспозвоночных животных, новые виды которых были изучены и описаны им в {778} огромном количестве. Крупным этапом в построении Ламарком научной системы беспозвоночных животных явился его труд «Система беспозвоночных животных», вышедший в Париже в 1801 г. Вопросам системы беспозвоночных посвящены соответствующие разделы знаменитой «Философии зоологии» (1809) и «Извлечение из курса зоологии, прочитанного в Музее естественной истории, касающееся беспозвоночных животных» (1812).
Об эволюции взглядов Ламарка на систему беспозвоночных животных см. наши примечания в первом томе настоящего издания (см. т. I, стр. 861—862, примечание 26; стр. 865—866, примечания 34, 38, 40, 41, 42).
Здесь мы публикуем только перевод «Введения» в «Естественную историю беспозвоночных». Это «Введение» публикуется на русском языке впервые.
«Введение» представляет огромный теоретический интерес. В нем мы находим дальнейшее развитие общебиологических и эволюционных концепций Ламарка, новые формулировки его философских воззрений. Многое, что казалось неясным или противоречивым в формулировках Ламарка в предыдущих его трудах, здесь приобретает большую законченность и определенность. Мнение некоторых историков биологии о том, что Ламарк просто повторяет во «Введении» соответствующие положения, развитые им в «Философии зоологии», должно быть признано ошибочным. Ламарк действительно в своих сочинениях часто повторяет самого себя, но в то же время он неустанно оттачивает свою мысль, развивает ее, формулирует новые и важные теоретические положения. Хорошо понять взгляды Ламарка, не зная «Введения»,— нельзя. 17.
2 Смысл развиваемых Ламарком положений заключается в признании объективной истины, «силы вещей», ведущей к объективности познания. Хотя мысль Ламарка по этому вопросу представляется совершенно ясной, однако не все его формулировки оказываются достаточно удачными (см. т. I, стр. 884—885, примечания 11, 12). 19.
3 Ламарк называет здесь только четыре класса позвоночных животных, так как под рептилиями подразумевались как амфибии, так и рептилии (см. т. I, стр. 865, примечание 34). 26.
4 Напомним, что, согласно приблизительным подсчетам, в конце XVIII в. было известно 16—18 тыс. видов беспозвоночных животных. К началу 30-х годов XIX в. число известных видов беспозвоночных животных возросло до 35—38 тыс. Значительное число новых видов беспозвоночных животных было впервые описано самим Ламарком. 26.
5 «Животные-растения» или «растения-животные», так называемые зоофиты — старинное название некоторых беспозвоночных животных (относящихся к губкам, кишечнополостным и иглокожим). Это название отражало ошибочное допущение существования «полуживотных-полурастений» (см. т. I, стр. 860, примечание 18). 30.
6 Статья «Animal» («Животное»), на которую здесь и в других местах {779} ссылается Ламарк, написана Ж. Кювье. Статья эта помещена в «Dictionnaire des sciences naturelles» (т. II, стр. 158—174, Paris, 1816). Ю. 30.
7 «Основные принципы» Ламарка представляют большой интерес. Первый и второй принципы являются одной из формулировок ламарковской материалистической концепции. Третий и четвертый принципы направлены против идеалистических—виталистических взглядов, пятый и шестой — против панпсихизма, анимизма. Эти принципы Ламарк развивает детально и в этом и в других своих сочинениях. 33.
8 Под «центром отношений» Ламарк понимает центральное представительство органов чувств (см. т. I, стр. 924, примечание 182). 39.
9 О том, что подразумевалось под понятиями «монада», «вольвокс» и «амеба» (протей) см. т. I, стр. 878, примечание 88. 39.
10 Нельзя не обратить внимания на этот замечательный образец исторического подхода к явлениям психики. Ламарк развивает здесь мысль о том, что простые отношения организмов с окружающей средой не требуют развития нервной системы и психики. 40.
11 Ламарк справедливо возражает здесь против несостоятельных попыток расширенного толкования понятия «жизнь», против стирания качественных граней между живым и неживым. 46.
12 Ламарк неоднократно останавливается на вопросе, можно ли распространять понятие «вид», «видовая индивидуальность» и на неорганические тела, на минералы. Так, оп подробно останавливается на нем в своем сочинении «Recherches sur l'organisation des corps vivans» (Paris, 1802, стр. 149—156).
Ламарк ясно понимал качественную определенность живых тел и их отличие от минералов. Напомним, что многие ученые в эпоху, предшествующую Ламарку, пытались проводить далеко идущую аналогию между минералами и живыми телами. 47.
13 Ламарк рассматривает клеточную ткань, как определенную среду, определенное органическое вещество, в котором формируются все органы живых тел. Его понятие о клеточной ткани не равнозначно нашим современным представлениям о клеточной структуре организмов (см. т. I, стр. 875, примечание 78). 47.
14 Интересно сравнить приведенную здесь весьма детальную характеристику неорганических тел с той, которую Ламарк дал в одной из своих ранних работ: «Я понимаю под названием неорганического тела [corps brut] всякое тело и всякого рода материю, не являющиеся частью какого-либо живого существа; всякое сочетание веществ (массу), лишенное организации и не наделенное жизнью; всякое тело, утратившее жизнь, хотя оно может еще обнаруживать следы организации, которой обладало прежде; всякое тело, которое не поддерживает больше свое существование питанием и не растет за счет последнего; наконец, всякое тело, не подверженное смерти» («Memoires de physique et d'histoire naturelle», 1797, Met. 7, стр. 317—318). Ю. 48. {780}
15 Гаюи Р. Ж. (Н. J. Haiiy, 1743—1822) — крупный французский ученый, один из основателей кристаллографии. Ему принадлежит формулировка одного из основных законов этой науки, названных по его имени «законом Гаюи», или законом целых чисел, относящимся к структуре кристаллов. Ламарк высоко ценил работы Гаюи. 48.
16 В воззрениях Ламарка учение о флюидах занимает огромное место. Под флюидами в XVIII в. подразумевались особые гипотетические вездесущие «тонкие материи», очень подвижные, стоящие ближе к газам, чем к жидкостям, которым приписывалась роль передатчиков, посредников между взаимодействующими телами (различались флюиды световой, тепловой, электрический, магнитный и др.).
Ламарк подразделяет во «Введении» флюиды на: 1) жидкие флюиды (например, вода), 2) упругие, сжимаемые флюиды (газы), 3) тонкие флюиды (так называемый «теплород», свет, электричество, магнитный флюид). Этим тонким флюидам, повсеместно заполняющим вселенную, высокоактивным, способным легко проникать в другие тела, Ламарк придает исключительное значение. Он считает их «неиссякаемым источником разнообразных явлений», «причиной-возбудителем» жизненных процессов; с деятельностью флюидов оп связывает причины эволюции организмов, даже усложнение их организации и т. д. Представления Ламарка о флюидах (отброшенные в процессе дальнейшего развития науки) во многом своеобразны и представляют большой интерес, как выражение его материалистических взглядов (в данном случае резко механистического толка). О флюидах подробнее см. т. I, стр. 864, примечание 30. 61.
17 Рассуждение Ламарка о том, присуща ли флюидам способность движения, весьма для него характерно. Иногда Ламарк говорит о флюидах в таких выражениях, что создается впечатление, что флюиды являются «носителем» движения. Здесь же он решительно утверждает, что нет необходимости приписывать флюидам собственное движение. Нужно помнить, что Ламарк неоднократно и настойчиво развивал ошибочное положение, что движение не присуще материи, как таковой, что никакой вид материи сам по себе не обладает движением (см. т. I, стр. 904, примечание 101). 54.
18 В ламарковском подходе к определению сущности жизни много правильного. Отбрасывая виталистические или чисто формальные определения жизни, Ламарк пытается определить жизнь, характеризуя основные, существеннейшие признаки, свойственные всем организмам. Хотя Ламарк в разных своих сочинениях несколько варьирует «номенклатуру» характернейших общих свойств, присущих живым телам, но принцип его подхода остается одинаковым. Он употребляет дальше чрезвычайно удачную формулу, говоря о том, что всем живым телам присуща определенная «форма существования» (manier'e d'etre). Невольно вспоминается данное Ф. Энгельсом определение жизни, как «формы существования» белковых тел. До этой концепции Ламарк не дошел и, {781} учитывая уровень науки его времени, не мог дойти, но он, несомненно, шел правильным путем, определяя сущность жизни (см. также т. I, стр. 906, примечание 110). 56.
19 Термин «биология» был предложен в 1802 г. Ламарком. Ламарк понимал под биологией науку о жизни, об общих ее закономерностях, то, что мы сейчас обычно называем общей биологией. Он надеялся, что ему удастся написать труд под заглавием «Биология», но это его желание не осуществилось. Впрочем Ламарк сам отмечает здесь, что основы этой науки (биологии) он изложил в «Философии зоологии» (и, добавим от себя, в других своих сочинениях). Попытки обосновать выделение биологии как особой отрасли знания, мы находим в вышедших в 1802 г. сочинениях Ламарка «Hydrogeologie» и «Recherches sur l'organisation des corps vivants»; упоминает он об этом и в «Философии зоологии» и в комментируемом нами абзаце «Введения». Обычно отмечается, что одновременно с Ламарком термин «биология» был предложен немецким ученым Тревиранусом (G. R. Treviranus, 1776—1837). Действительно, в 1802 г. в Геттингене вышел первый том шеститомного сочинения Тревирануса, озаглавленного «Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur». Нужно, однако, указать на то, что сочинение Тревирануса не носит того «общебиологического», синтетического характера, как соответствующие труды Ламарка.
И, однако, если Ламарку и не удалось написать труд под названием «Биология», то попытку в этом направлении он все же сделал. В библиотеке Национального музея естественной истории в Париже хранится маленькая рукопись Ламарка (25 страничек), озаглавленная «Биология, или рассудадепия о природе живых тел, их способностях, их развития и происхождении» («Biologie, ou considerations sur la nature, les facultes, les developpement et l'origine des corps vivants». Эта рукопись была опубликована в 1944 г. Грассе (P. P. Grasse) в журнале «La Revue scientifique» 1944, v. 82, f. 5, стр. 267—276). Эта работа Ламарка — только фрагменты большого задуманного им труда, тем не менее уже сам факт попытки осуществить написание подобного труда представляет интерес. Мы все же воздержались от включения перевода этих фрагментов в данный том избранных сочинений, так как все, что в них сказано, в еще более выразительной форме изложено в «Философии зоологии» и во «Введении».
Нет никакого основания соглашаться с замечанием Грассэ будто Ламарк «нигде не излагает с большей ясностью свои воззрения на природу живых существ и на жизнь как таковую». Точно так же нет основания соглашаться и с другим утверждением Грассэ, будто Ламарк,— «убежденный деист», выступает именно здесь как «решительный материалист». Во-первых, деизм Ламарка это прежде всего своеобразная, хотя и непоследовательная форма материализма, и резкое противоставление, сделанное Грассэ, не основательно. Во-вторых, материалистическая устремленность Ламарка не менее, а подчас еще более отчетливо видна и в других его сочинениях. {782}
Остается открытым вопрос о дате написания данного фрагмента. На обложке руке мил значится (не имеющая прямого отношения к рукописи) дата — 4 мая 1812 года. В связи с этим Грассэ высказывает предположение, что рукопись написана между 1809—1815 г. Знакомство с содержанием рукописи приводит нас к мысли, что она могла быть написана и между 1802 и 1809 г.
Что касается плана работы, то Ламарк в начале рукописи приводит его. Рукопись должна была содержать пять разделов:
«1) общее о живых телах, определение общих признаков и способностей живых тел, определение жизни, органы;
2) разделение живых тел на животных и растений, различия, характеризующие существа, относящиеся к этим двум царствам; наблюдающееся возрастание сложности организации, сходство плана природы в развитии организации и в воспроизведении индивидуумов;
3) естественная история растений;
4) естественная история животных и все, что относится к их уму;
5) общие выводы, вытекающие из факторов, изложенных в первых четырех частях труда и содержащие все взгляды автора и результаты его исследований о видах и породах».
Далее следует набросок первого раздела, в котором говорится об отличиях живых тел от неживых, о частях, составляющих живые тела, о флюидах и клеточной ткани как «основе» (matrice) для возникновения всех органов, о важнейших признаках живых тел. Несколько строчек посвящены далее плану второго раздела.
На этом рукопись обрывается.
Мы полагаем, что не столько недостаток времени и здоровья помешал Ламарку осуществить в дальнейшем свое намерение, сколько сознание того, что, в сущности, все относящееся к биологии уже изложено им в ряде других сочинений. 58.
20 Ламарк считает, что растительный перегной, навоз и все виды удобрений, независимо от их природы, не являются веществами, снабжающими растение какими-либо особыми питательными веществами сложного состава, необходимыми для его произрастания. По его мнению, их роль сводится к тому, что они способны скоплять вокруг корней растения дождевую воду, воду, образующуюся при осаждении тумана, а также воду, служащую для поливки. Этот своеобразный взгляд на удобрения мы находим и в других сочинениях Ламарка, а именно: в «Recherches sur les causes des principaux faits physiques», т. II. Paris. An II (1794), стр. 301; в «Memoires de physique et d'histoire naturelle». Paris, An V (1797), стр. 296; в «Hydrogeologie». Paris, An X (1802), стр. 109—110, 112; в «Histoire naturelle des vegetaux», т. I. Paris, An XI (1803), стр. 260—263; наконец, в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres». Introduction», гл. 2. Paris, 1815, стр. 51. Ю. 59. {783}
21 Ламарк выступает здесь, как и в других своих сочинениях, как противник метафизической концепции преформизма, учения о предсуществующих зародышах. 62.
22 Нельзя не отметить диалектичности ламарковских Представлений о жизни и смерти. Он неоднократно подчеркивает, что сам процесс развития организма влечет такие изменения, которые, достигнув известного предела, препятствуют осуществлению жизненных процессов и приводят к смерти. 62.
23 Ламарк перечислил здесь десять существенных признаков, характеризующих живые тела. Это же перечисление повторяется им в «Аналитической системе». Если мы сравним названные Ламарком общие признаки живых тел с приведенными в «Философии зоологии», то, при общем сходстве, найдем и некоторые отличия. Так, во «Введении» Ламарк ссылается на такие существенные характеристики живого тела, как: наличие определенного «порядка и состояния вещей», потребностей, направленных на самосохранение, и способностей. В такой форме в главах 1 и 2 второй части «Философии зоологии» эти характеристики отсутствуют. Вероятно, это не является случайностью, так как проблема способностей особенно занимала Ламарка, когда он писал «Введение» и позже специальную статью на эту тему для энциклопедии Детервилля (см. примечапие 10 к «Статьям»). В «Философии зоологии» Ламарк резче подчеркивает разнородность состава живых тел и специальный пункт посвящает взаимозависимости молекул, составляющих живое тело, и всех его частей. Этот важный пункт оказался почему-то опущенным во «Введении». См. также примечание 18 к «Введению». 63.
24 В теоретическом отношении чрезвычайно важной является ламарковская трактовка вопроса о причинах усложнения организации живых тел. Здесь Ламарк прямо говорит о движении и перемещении флюидов, как причине усложнения. Мы проследили за формулировками Ламарка по этому вопросу в наших комментариях к первому тому (см. т. I, стр. 866, примечание 44; стр. 878, примечание 87; стр. 893, примечания 61 и 67; стр. 896, примечание 90; стр. 901—903, примечание 99 и др.). 65.
25 К классу полипов Ламарк причисляет животных, которых относят теперь к совершенно различным систематическим категориям. Так Ламарк относит сюда и некоторых простейших (раковинную амебу — Difflugia, инфузорию сувойку — Vorticella и др.), и губок, и кишечнополостных различных классов, и коловраток, и мшанок, и некоторые другие формы.
Весьма «сборными» являются и подразделения полипов на полипов с «футлярообразным» полипняком, полипов, образующих сплетения, полипов с «каменистым» полипняком и т. п. Так, например, к первой из названных групп он относит такие формы, как Sertularia и Cornularia. Как известно, первая из них относится к классу Hydrozoa, отряду Leptolida, подотряду Thecophora, у которого гидраты полипоидного поколения обладают защитным «футлярчиком», колпачком — гидротекой. {784}
Вторая же из названных форм относится к классу Anthozoa, к подклассу восьмилучевых коралловых полипов, отряду Alcyonaria. Но в целом Alcyonaria, имеющих скелет из известковых склеритов, Ламарк выделяет в группу «полипов, образующих сплетение», и т. д. Состояние науки того времени не давало еще возможности расчленить этот весьма искусственный класс. Впрочем, уже во втором издании «Естественной истории беспозвоночных животных» редакторы внесли много поправок в ламарковскую систематику. 70.
26 Ламарк весьма интересно обсуждает проблему части и целого, индивидуальности у животных, образующих «колонии». Напомним в связи с этим высказывания по этому же вопросу Ф. Энгельса, которыми он подчеркивает относительность понятия индивидуума у некоторых животных. «У низших животных невозможно строго установить понятие индивида; не только в том смысле, является ли данное животное индивидом или колонией, но и по вопросу о том, где в процессе развития прекращается один индивид и начинается другой («кормилки»)» (Диалектика природы, М., 1952, стр. 167). «Организм не является ни простым, ни составным, как бы он ни был сложен» (там же, стр. 168). «Индивид. И это понятие превратилось в совершенно относительное» (там же, стр. 249). Говоря о колониях кораллов и Hydrozoa, Энгельс отмечает, что здесь «индивид является самое большее переходной ступенью, а телесная community [общность] по большей части представляет ступень полного развития» (там же, стр. 253). 70.
27 Это утверждение Ламарка, в сущности, противоречит его же взглядам на прогрессивное развитие растительного мира. Эти взгляды были отчетливо выражены в вышедшем в 1803 г. труде Ламарка «Естественная история растений» (см. т. I, стр. 960, примечание 50). 79.
28 Этот абзац представляет большой интерес. Во-первых, здесь Ламарк в ясной форме говорит об историческом совершенствовании растительного мира (в отличие от неудачной своей формулировки, на которой мы остановились в предыдущем примечании). Во-вторых, сама мысль о возникновении простейших растений и простейших животных из общего корня, об их дивергентном «V-образном» расхождении — правильна. Большинство современных ученых полагает, что таким общим корнем были первичные, гетеротрофные организмы животной природы. К сожалению, Ламарк в дальнейшем отвергает им же поставленный вопрос об общем корне происхождения животных и растений, утверждая, что существующие между ними отличия заставляют признать их раздельное происхождение. 80.
29 Ламарк ошибочно отрицает наличие раздражимости у растений (см. т. I, стр. 947, примечание 10). 82.
30 Галлер (Albrecht von Haller, 1708—1777), немецкий анатом и физиолог, доказал, что раздражимость и чувствительность суть различные явления жизнедеятельности. В очень решительной форме этот же взгляд развивал и Ламарк. И. Галлер и Ламарк правы, разграничивая раздражимость и чувствительность, {785} и в то же время ошибаются, абсолютизируя это разграничение, не понимая закономерной связи этих явлений в процессе эволюции (см. т. I, стр. 883, примечание 7; стр. 924, примечание 180). 86.
31 В статье «Acacie» (Mimosa) в «Encyclopedie methodique. Botanique» (Paris 1783, т. I, стр. 8—22) Ламарк приводит описание 58 видов рода Mimosa и излагает свою теорию для объяснения своеобразных движений, наблюдаемых у некоторых представителей этого рода, а также у растений других семейств. Ю. 89.
32 Hedysarum — копеечник, растение из семейства мотыльковых. 90.
33 Dictamnus — ясенец, травянистое растение из семейства рутовых. Это растение обладает большим количеством железистых волосков, выделяющих летучие эфирные масла, воспламеняющиеся. 90.
34 Оргазм Ламарк определяет, как особое состояние упругости отдельных точек податливых частей растения, особого рода «напряжение» (эретизм). Конкретно, применительно к растениям, речь идет обычно о тургоре. Но Ламарк применяет понятие «оргазм», весьма неопределенное и механистичное, для объяснения и ряда других физиологических явлений. 94.
35 В ламарковской характеристике растений имеются как правильные, так и ошибочные положения. Ламарк не прав, отрицая у растений наличие раздражимости и способности к «самостоятельным» движениям. Он прав, утверждая, что у растений нет психической деятельности. Напомним, что идеалисты — психоламаркисты утверждали, что растения и даже отдельные их ткани и клетки обладают психикой, «клеточной душой» и т. п. 97.
36 Осциллятория — нитчатая водоросль, принадлежащая к типу синезеленых, или циановых. Ю. 101.
37 Ламарк упоминает здесь авторов, в трудах которых описывались движения различных животных. Аристотель (384—322 до н. э.) уделял этому вопросу внимание в своих трудах «О частях животных» и «История животных». Итальянский естествоиспытатель Джованни Борелли (G.A.Borelli, 1608—1679) приложил принципы механики для объяснения движения животных в своем сочинении «Demotu animalium» (1680—1681 гг.). Упоминаемый Ламарком Бартез (P. J. Ваrthez, 1734—1806) — французский ученый-виталист, пытавшийся истолковать аиатомо-физиологические процессы, как явления, в основе которых лежит особый «жизненный принцип». Что касается Додэна, то, по-видимому, речь идет о французском натуралисте (F. M. Daudin, 1774—1804), авторе ряда зоологических сочинений. 102.
38 Еще одна интересная формулировка Ламарка, связывающая прогрессивное образование у животных различных способностей с таким (чисто «физическим», по Ламарку) фактором, как раздражимость. См. выше примечание 24. 103.
39 Ламарк говорит здесь о единстве плана (l'unite deplan). Нужно заметить, что Ламарк не разделял представлений о единстве плана строения всех животных, {786} представлений, с которыми выступали его современник, — выдающийся французский ученый Э. Жоффруа Сент-Илер и его последователи. Подобное представление не могло быть достаточно логично совмещено с идеей градации, постепенного усложнения органического мира, возникновения на определенных этапах исторического развития новых систем органов и т. п. Ламарк говорит обычно о единстве строения только в пределах определенного уровня организации. Более глубокие черты единства он усматривал не в единстве морфологического плана, а в некоторых общих свойствах, присущих всем животным. Следовательно, в данном абзаце Ламарк говорит о единстве плана в особом смысле, понимая под этим единый, закономерный путь, которым следовала природа, производя постепенное усложнение организации животных (см. т. I, стр. 872, примечание 66; стр. 892, примечание 54). 109.
40 Предыдущие абзацы посвящены изложению представлений о градации, серии постепенно усложняющихся форм, «лестницы существ». Мы знаем, что это представление играло огромную роль в построении эволюционной концепции Ламарка. Принципиальные отличия ламарковских представлений от распространенных до него метафизических представлений о лестнице существ заключалось в понимании этой градации как отображения исторического процесса развития живой природы от простого к сложному. Кроме того, Ламарк отказался от попыток расположить все органические формы в один прямолинейный ряд, считая подобные попытки ненаучными и фантастическими. Единый восходящий ряд образовывали более или менее крупные систематические подразделения органического мира. Подробнее см. т. I, стр. 857, примечание 8, а также примечание 104 к «Введению». 112.
41 Ламарк пересказывает здесь Кювье и критикует его. Приведем полностью соответствующий отрывок из «Сравнительной анатомии» этого ученого: «Не все органы следуют одному и тому же порядку деградации: такой-то орган достигает наибольшего совершенства у одного вида, а другой орган у совершенно другого вида, в результате чего, если бы возникло желание расположить виды в соответствии с каждым из органов, рассматриваемых в отдельности, нужно было бы сформировать столько рядов, сколько органов надо было взять за основу этих рядов, и для того чтобы построить общую лестницу, [показывающую} совершенствование организации, нужно было бы вычислить результат каждой [из возможных] комбинаций, что почти невозможно» (Сuviеr. Lec,ons d'anatomie comparee, 1800, т. I, стр 59—60). Кювье утверждает дальше, что только в пределах каждого типа строения, каждой особой «комбинации главных органов» можно в какой-то степени говорить о серии форм. «Как бы мы не располагали, — продолжает Кювье,— позвоночных животных и животных беспозвоночных, никогда нельзя будет поместить в конце одного из этих больших классов или в начале другого класса двух животных, которые были бы между собой сходны в такой мере, чтобы служить связующим звеном между классами». {787}
Естественно, что эволюционист Ламарк, критикуя упрощенческие построения лестницы существ, в то же время не мог согласиться с метафизической концепцией Кювье, отрицавшего исторические связи между различными подразделениями животного мира. Ламарк не устает подчеркивать, что в природе ясно виден путь от простого к сложному. 113.
42 Ламарк, говоря здесь о причинах усложнения организации, дает еще одну формулировку: «сила, свойственная самой жизни», непрерывно стремится к усложнению организации, к образованию и умножению органов и совершенствованию способностей (см. выше примечание 24). 114.
43 В трактовке вопроса о критериях совершенства живых существ точка зрения Ламарка очень интересна и сходна с той, которую позже высказал Дарвин. Ламарк понимает, что о «совершенстве» можно говорить или как о приспособленности к условиям существования, или в смысле высоты уровня организации (степени дифференцированности органов и функций, с одной стороны, и их «централизации» — с другой), более сложных отношений с окружающей средой. Но, конечно, Ламарк, в отличие от Дарвина, не доходит до идеи естественного отбора, как общей основы для приспособления и совершенствования. 117.
44 Для правильной оценки ламарковских рассуждений об анатомии рептилий нужно иметь в виду два обстоятельства: во-первых, под рептилиями Ламарк подразумевал и рептилий и амфибий; во-вторых, оп не различает здесь морфологических особенностей, вытекающих из достигнутого в эволюции уровня организации, и черты регрессивные, связанные с особым типом приспособления. 120.
45 Ламарк, не называя здесь Жоффруа Сент-Илера, по существу, критикует его взгляды, его попытки найти соответствие между твердыми сегментами кожи суставчатых и сходными опорными образованиями других беспозвоночных, с одной стороны, и позвонками позвоночных животных — с другой. 122.
46 Ламарк (см. «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», т. VII, стр. 669—671) считает киленогих (Heteropoda), которых теперь относят к подклассу переднежаберных класса брюхоногих моллюсков, животными, переходными между моллюсками и рыбами. По его мнению, киленогие ближе к головоногим, чем другие отряды моллюсков, и заполняют разрыв, существующий между последними и рыбами. Эти студенистые прозрачные животные, утверждает он, наиболее пригодны для осуществления у них тех изменений, которые природа должна была произвести для установления нового плана организации — плана позвоночных животных. Ю. 122.
47 Неудачная, телеологично звучащая формулировка Ламарка: «Природа, готовясь к образованию скелета...». 123.
48 Эпизои (Epizoaria). К этой группе Ламарк относит наружных паразитов рыб, поселяющихся на жабрах и высасывающих их кровь. Эпизои, среди которых он различает всего несколько родов (Chondracantkus, Lernea, Entomoda) {788} являются, но мнению Ламарка, переходными формами между «червями» и насекомыми. Теперь известно, что эпизои — ракообразные, изменившиеся под влиянием паразитизма. Подробнее о них см. «Extrait du cours de zoologie des animaux sans vertebres» (Paris, 1812, стр. 43) и в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres» (Paris, 1816, т. Ill, стр. 225—234). Ю. 125.
49 Анатомо-физиологическая характеристика червей является, конечно, устаревшей.Мы знаем,что и у низших червей, относимых к типу Рlathelminthes, имеются и половое размножение и органы чувств, наличие которых Ламарк отрицает. 125.
50 Ламарк допускал самозарождение паразитических червей. Так, в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres» (т. Ill, 1816) Ламарк пишет: «Эти черви, произошедшие путем самопроизвольного зарождения, со временем стали разнообразными и распространились по разным частям тела животных, в которых они обитают; особи различных видов этих червей продолжают размножаться при помощи почечек...
Не все внутренностные черви являются результатом самопроизвольного зарождения, ибо те из них, которые природа создала непосредственно, получили о г нее вместе с жизнью и способность воспроизводить себя, определенным способом, свойственным их состоянию».
Мы увидим в конце «Введения», что Ламарк допускает даже мысль о происхождении свободноживущих червей от паразитических, первично возникающих путем самозарождения, и полагает, что от червей пошла особая, самостоятельная ветвь развития животного мира. Конкретные аргументы, на которые опирается Ламарк, говоря о самозарождении паразитических червей, сводятся в основном к двум: 1) этих червей мы не находим нигде в свободноживущем состоянии и 2) их удавалось обнаружить даже у новорожденных детей. 125.
51 У животных, относимых Ламарком к лучистым, имеется, конечно, половое воспроизведение. 126.
52 Под «иглокожими лучистыми» Ламарк в основном подразумевает животных, относимых ныне к типу иглокожих. К «иглокожим с мягким телом» Ламарк относит главным образом различных кишечнополостных, которых он подразделяет на очень искусственные группы. Редакторы второго издания «Естественной истории беспозвоночных животных» указали на этой присоединились к предложению Эшшольца, который объединил животных, отнесешшх Ламарком к группе лучистых с мягким телом, в класс Acaliphes, а этот класс разделил на три отряда: 1) ктенофоры, 2) дискофоры, 3) сифонофоры (см. т. I, стр. 866, примечание 41). 126.
53 К инфузориям Ламарк относит весьма разнообразные организмы — как относящиеся ныне к типу простейших, так и к другим группам органического мира (например, сюда причислены некоторые черви). К «голым инфузориям» Ламарк относит «монаду», протея, туфельку, вольвокса, гониум и др. 127. {789}
54 Ламарк, как известно, последовательно распространял свою эволюционную концепцию и на человека. Однако в целях маскировки этого очень смелого для той эпохи взгляда, вступавшего в резкое противоречие с господствовавшей религиозно-идеалистической догмой, Ламарк вынужден был делать кое-где оговорки (см. т. I, стр. 899, примечание 96). 127.
55 Ламарк говорит здесь о иерархии действенных начал (puissance), «в которой все связано, все зависимо, все гармонично, все обусловлено необходимостью». Эта формулировка Ламарка менее удачна, чем некоторые другие, так как здесь сочетается правильная мысль о взаимосвязи и закономерности всего существующего в природе со ссылкой на «гармонию», звучащую песколько телеологично. 137.
56 Ламарк в своем сочинении «Recherches sur l'organisation des corps vivants» (Paris, 1802, стр. 196) подробно сопоставляет теплород и электрический флюид. 139.
57 Мы здесь снова встречаемся с характерным для философской концепции Ламарка и глубоко ошибочным отрывом материи от движения (см.т. I,стр.904, примечание 101). 139.
58 Высказывания Ламарка напоминают здесь аналогичные мысли античных философов-материалистов. С позиций «наивного» материализма выводятся из первичных сил притяжения и отталкивания все явления природы, в том числе и явления жизни. 141.
59 Прекрасная формулировка, говорящая об отличиях научной концепции от наивной, метафизической концепции самопроизвольного зарождения жизни (подробнее см. т. I, стр. 910, примечание 134). 144.
60 В седьмой главе «Философии зоологии» (см. т. I,стр. 341—342) сформулированы два знаменитых закона Ламарка. Здесь, во «Введении», Ламарк формулирует четыре закона. Нам представляется важным дать оценку этим новым формулировкам Ламарка и сравнить их со старой формулировкой. Нужно сказать, что историки биологии проглядели значение этих новых формулировок и сочли три последних закона просто незначительной модификацией старых, а первый закон — весьма неопределенной «общей фразой» (см., например, Н.G.Cannon. What Lamarck really said. — «Proc. Linn. Soc», London 1957, т. 168, № 1—2, стр. 70—87).
Между тем это не так. Четыре закона Ламарка представляют большой интерес . Значение их мы усматриваем прежде всего в следующем. Два закона «Философии зоологии» не охватывают эволюционного процесса в целом. Они относятся, в сущности, ко «второму» фактору эволюции — видоизменяющему влиянию на животных разнообразных условий существования, «обстоятельств». А в чем же причина градации, нарастающего усложнения организации на протяжении всей серии органических форм? На этот вопрос Ламарк давал различные, иногда более, иногда менее удачные, ответы. Чувствовалось, что мысль его билась над {790} решением этого трудного вопроса. Некоторые его формулировки звучали так, что это давало нам раньше основание утверждать, что Ламарк выводил «закон» постепенного усложнения жизни из общих своих деистических воззрений на природу. Однако сейчас мы думаем, что это не так. Чем дальше, тем больше Ламарк оттачивал свою мысль в направлении материалистического решения этого вопроса (разумеется, на уровне механистических представлений, им развиваемых). В этом отношении чрезвычайно характерна формулировка ответа на этот вопрос в форме первого из четырех законов эволюции. Во-первых, в отличие от двух законов,четыре закона охватывают оба фактора эволюции. Во-вторых, в форме первого закона дается ясный ответ на вопрос о характере первого фактора эволюции. Таковым является активность материальных начал, именуемых флюидами, увеличение интенсивности и разнообразия их движения, обогащение и усложнение их состава. Если первая часть ламарковского пояснения к первому закону может еще создать впечатление,что речь идет об усложнении, имеющем место только в индивидуальном развитии организма, то вторая часть этого пояснения не оставляет сомнения в том, что флюидам приписывается такая же роль в историческом развитии организмов («кто не увидит,— пишет Ламарк,— что именно в этом проявляется исторический ход развития явлений организации»). Таким образом, в сущности, два фактора эволюции приобретают общую, единую основу. Трудно переоценить значение этого обстоятельства!
Что касается формулировок трех других законов, то они представляют следующие особенности.
Второй закон ставит вопрос о роли потребности в эволюции животных. В «Философии зоологии») этот вопрос в формулировку законов не включен, а фигурирует в качестве трех предпосылок к этим законам (см. т. I, стр. 340—341). Мы у же указывали выше (см. примечание 23), что Ламарк в последние годы своего творчества развил представления о потребностях и способностях животных, что и получило отражение в формулировке второго закона. Центральным положением второго закона является утверждение, что у животных, способных чувствовать, «эмоция внутреннего чувства» может не только изменить существующие органы, но и вызвать образование совершенно новых органов. Хотя «эмоцию внутреннего чувства», как и другие психофизиологические явления, Ламарк трактует материалистически, в этих представлениях кроется весьма сомнительный элемент и не случайно Ламарк вынужден обосновать реальность второго закона... ссылкой на третий закон.
Что касается третьего и четвертого законов, то Ламарк сам отмечает в дальнейшем изложении, что они, соответственно, отвечают первому и второму законам «Философии зоологии» в несколько более простом выражении, без некоторых «частностей». Об историческом значении этих законов Ламарка у же неоднократно говорилось (см. также т. I, стр. 896, примечание 83). 146. {791}
61 Ламарк затрагивает здесь интересный вопрос о причинах видоизменения вследствие противоречий, существующих между видами животных. Однако он эту мысль не развивает, так как все его внимание поглощено внешними импульсами развития, связанными с изменением климатических и иных условий обитания животных. 155.
62 Ламарк отстаивает идею ведущей роли функции, а не формы. Мы разрешаем этот вопрос иначе, исходя из представления о единстве формы и функции в историческом и индивидуальном развитии организмов (см. т. I, стр. 875, примечание 73). 156.
63 Мы усматриваем здесь зачаток мысли о форме наследственной изменчивости организмов, получившей название «длящейся изменчивости», которой Дарвин придавал важное значение. 158.
64 Ламарк замечает сложность и многообразие законов наследственности и понимает, что нельзя его второй закон возводить в абсолют. 159.
65 В «Recherches sur l'organisation des corps vivans» (1802, стр. 211) Ламарк дает следующее определение органов: «Органы живых тел. Этим названием обозначают любую часть живого тела, назначение которой состоит в выполнении какой-либо функции или в том, чтобы либо содержать тот или иной флюид, либо переносить его, или, наконец, в том, чтобы производить какое-либо действие.
Первым специальным органом, присущим животной природе, является орган пищеварения, а именно — пищеварительный канал». Ю. 160.
66 В предыдущем изложении Ламарк ярко рисует картину усиления интенсивности жизненных процессов, интенсификации и специализации органов в процессе эволюции животных. В зачатке мы находим здесь мысли, которые позже были развиты эволюционистами последарвиновского периода. 165.
67 Прекрасные слова, в которых звучит убежденность Ламарка в объективности познания и горечь по поводу силы предубеждений. 171.
68 Совершенно правильная и интересная постановка вопроса: объективность познания заключается не только в «раскрытии механизмов» явления. 172.
69 О Галлере см. выше примечание 30. 180.
70 Галлуa (J. J. С. Le Gallois, 1774—1814) — французский медик, автор большого количества сочинений по вопросам медицины и физиологии. Одним из основных его сочинений, вероятно использованных Ламарком в связи с обсуждаемым вопросом, было: «Experiences sur le principe de la vie, notamment sur celui des mouvements du coeur etc.», Paris, 1812. 182.
71 Сердце млекопитающих иннервируется блуждающим нервом и ветвями симпатического ствола, отходящими от первого, второго и третьего шейных узлов. Сердце в своей деятельности связано с центральной нервной системой. 183.
72 О характерных для Ламарка особенностях трактовки морфо-физиологии мозга см. т. I, стр. 919, примечание 161 и стр. 932, примечание 211. 185. {792}
73 Ламарк интересно трактует здесь вопрос о физиологическом механизме образования привычных действий благодаря способности флюидов двигаться проторенными путями. Принцип «проторенных путей» в иной форме сохранился и в современной пауке (см. т. I, стр. 930, примечание 203). 192.
74 Ламарк выступает здесь как материалист-антивиталист, показывая, что во всех способностях, присущих живым телам, «нет ничего метафизического, ничего, что было бы чуждо материи». 199.
75 В этой части Ламарк возвращается к рассмотрению некоторых психофизиологических вопросов, которым он посвятил в свое время третью часть «Философии зоологии». Особенно много внимания Ламарк уделяет вопросу о влияния на поведение животных, с одной стороны, эмоций внутреннего чувства, с другой стороны,— умственной деятельности. Именно в этом заключается новизна трактовки вопроса в этой части сочинения Ламарка. Своим взглядам на природу внутреннего чувства Ламарк придал здесь более законченный характер. Тенденция к систематизации, свойственная Ламарку, проявилась в этом сочинении особенно явственно. Он составил полный список склонностей (разьяснение этого понятия см. в примечании 78), свойственных животным, обладающим только способностью чувствовать, и затем дал перечень склонностей, которыми обладают животные, более высоко организованные, способные совершать умственные акты, а в заключение описал склонности, присущие одному только человеку.
Чрезвычайно интересны, хотя и туманно выражены, мысли Ламарка об изменении характера инстинктивных действий в условиях, когда они имеют своим источником не одни только эмоции внутреннего чувства, но и «акты ума». Если перевести все рассуждения Ламарка по этому вопросу на современный язык, то в них, без преувеличения, можно увидеть глубокое проникновение в громадной важности проблему, не перестающую после классических работ И. П. Павлова волновать современных физиологов. Мы имеем в виду проблему взаимоотношений корковых и подкорковых процессов и их влиянии на поведение животных и человека. Ламарк сумел весьма точно охарактеризовать особенности инстинктивных действий животных, когда ими управляют импульсы, идущие из различных отделов мозга. Так, он подметил, что на более ранней стадии филогенетического развития возникает способность ощущать боль, а на более поздней стадии к способности ощущать боль присоединяется способность предвидеть боль при восприятии определенных объектов, таящих в себе угрозу или опасность. Соответственно этому и защитные действия, с помощью которых животное стремится избежать боли, носят в первом случае менее, во втором — более приспособительный характер. Страх смерти, по догадке Ламарка, свойствен только человеку. «Чувство неблагополучия» переходит в «склонность к благополучию». Ламарк хорошо разъяснил, почему инстинкт самосохранения, свойственный всем чувствующим животным, вплоть до человека, имеет различные качественные градации и проявляется неодинаково как у животных, стоящих на различных {793} ступенях эволюционной лестницы, так и у одних и тех же животных, в зависимости от источника действий, т.е. от эмоций внутреннего чувства или «актов ума».
Ламарк с удивительной проницательностью вскрыл специфические особенности умственной деятельности животных, приспособляющихся к меняющимся условиям: этих животных отличает умение вносить разнообразие в свои действия, т. е., говоря современным языком,— качество пластичности. Ламарк показал, что действия животного могут обладать то более низкой, то более высокой способностью к адаптации и что самая высокая ступень адаптивного поведения доступна животным, которые наделены не только способностью чувствовать, но и способностью совершать «умственные акты». Разумеется, во всех случаях, когда Ламарк говорит об умственной деятельности животных, он имеет в виду зачаточную форму этой деятельности. Характерной особенностью наиболее развитой формы умственной деятельности Ламарк справедливо считает ту форму, при которой животные обнаруживают способность видоизменять свои действия, приспособляясь к изменившейся обстановке.
Если под влиянием одного только внутреннего чувства животные способны лишь удовлетворять ту или иную потребность, пользоваться стереотипными приемами, то под влиянием ума они оказываются более активными и умеют, как пишет Ламарк, «употреблять новые и разнообразные средства, сообразно обстоятельствам, чтобы удовлетворить всякую свою потребность». Точно так же, если под влиянием внутреннего чувства животные уделяют внимание только тем предметам, которые непосредственно связаны с их потребностями, то под влиянием ума они способны проявлять такие чувства, как привязанность, доверчивость, кротость, ласковость, верность, ревность и т. д.
Действия животных оказываются, таким образом, более сложными, богатыми и разнообразными, когда наряду с эмоциями внутреннего чувства в них участвуют и умственные акты.
Все эти примеры указывают, что Ламарк ясно отдавал себе отчет в существовании двухсторонней связи между более низко- и более высокоорганизованными действиями животных, а сами эти действия дифференцировал в зависимости от того источника, из которого возникали импульсы к определенным действиям. Разумеется, не следует модернизировать взгляды Ламарка. Многие из них выражены, с нашей точки зрения, наивно, терминология его давно вышла из употребления. Однако, если вникнуть в существо этих взглядов, отбрасывая устаревшую форму и недостаточный уровень знаний физиологических механизмов поведения животных, то придется отдать должное тонкости и глубине, с которыми Ламарк проанализировал два механизма регуляции поведения, известных сейчас как корковый и подкорковый механизмы.
Специальный раздел посвящен характеристике поведения человека. И в этом разделе мы находим много оригинальных и метких наблюдений. Ламарк {794} прекрасно понимает, что природа человека двойственна, что, уходя глубокими корнями в биологию, человек — существо социальное. Ламарк склонен думать, что многие поступки человека определяются своеобразным конфликтом, возникающим при столкновении биологической природы человека с его социальным долгом. Эту мысль он развивает на ряде примеров и доказывает,какую огромную роль играет воспитание в развитии гармонии личности, выражающейся в устранении противоречий между личным и общественным. Ламарк доказывает, что человеку приходится нередко подавлять свои эмоции внутреннего чувства или скрывать их проявления. Он придает огромное значение развитию умения управлять своими поступками, контролировать их с помощью разума. Страницы, посвященные разбору этого вопроса, написаны Ламарком не без страстности, подсказанной глубокой убежденностью в необходимости систематически воспитывать в человеке гуманность. Г. 200.
76 В определение внутреннего чувства Ламарк вносит в данном сочинении дополнительный оттенок, подчеркивая, что чувство это является существенным фактором органической системы ощущений. В «Философии зоологии» вопрос о связи между ощущениями и внутренним чувством рассматривался в несколько ином плане, но и там он подчеркивал целостный и смутный характер ощущений, связанных с внутренним чувством (см. т. I, стр. 921, примечание 165; стр. 926, примечания 191 и 192). Г. 202.
77 О «чувстве существования» (см. т. I, стр. 926, примечания 191 и 192). Г. 203.
78 Во многих местах этого сочинения, как и в «Философии зоологии» и в «Аналитической системе», понятие «склонность» применяется в том же смысле, что и понятие «инстинкт». Смысл этой главы станет яснее читателю, если он заменит понятия «склонность к самосохранению», «склонность к размножению» и т. п. понятиями «инстинкт самосохранения», «инстинкт размножения» и т. д. Чтобы убедиться в справедливости нашего замечания, достаточно напомнить соответствующие места из «Философии зоологии». Так, в главе «О физической чувствительности» Ламарк писал: «У одних животных эта внутренняя сила управляется в различных своих действиях инстинктом, т. е. внутренними эмоциями, вызываемыми потребностями и склонностями, порождаемыми привычками...» (см. т. I, стр. 644 и 692). Г. 203.
79 Здесь Ламарк прекрасно разъяснил, что следует понимать под «чувством страдания», истолковав его, как ощущение состояния неблагополучия. Разумеется, для возникновения такого ощущения не существует специального органа или, как принято сейчас говорить, анализатора. Это ощущение носит такой же целостный и системный характер, как и другие органические ощущения, и мы должны его рассматривать в одном ряду с чувством существования. Эти понятия весьма продуктивны и придают идее Ламарка конкретный физиологический характер. Г. 203. {795}
80 Отрицание самостоятельного характера склонности к размножению, точнее — инстинкта размножения, недостаточно убедительно аргументировано Ламарком. Поэтому сомнительным кажется его утверждение о том, что склонность к размножению является продуктом склонности к самосохранению. Вопрос этот, впрочем, имеет значение не принципиальное, а скорее классификационное. Г. 204.
81 Русское слово «себялюбие» не совсем точно передает смысл, вложенный Ламарком в понятие «amour de soimeme». Как видно из дальнейшего текста, Ламарк усматривает проявление себялюбия у животных, когда они соперничают с противниками в борьбе за добычу или вступают в борьбу с животными, приближающимися к их самке, и т. д. В тех случаях, когда это свойство проявляется не слепо, т. е. когда оно подчиняется влиянию не одного только внутреннего чувства, а регулируется более сложными процессами, связанными с функцией полушарий мозга, животные выражают его в чувстве привязанности, ревности, ненависти и т. д. Эти примеры свидетельствуют о том, что понятие «себялюбие» носит собирательный характер, объединяя очень много разнообразных эмоций. Г. 207.
82 Ламарка часто и не без оснований упрекали в том, что выдвинутые им теории слабо подкреплены фактическим материалом и носят подчас умозрительный характер. Можно предполагать, что виною этому является не столько отсутствие фактов и недостаточная осведомленность Ламарка, сколько способ изложения предмета. Едва ли можно сомневаться в том, что Ламарк обладал огромными познаниями в области зоологии и зоопсихологии. Во всяком случае, все, что было известно в его время, он основательно изучил. Фраза «я мог бы добавить к приведенным здесь данным ряд известных фактов, а также результаты моих собственных наблюдений» заслуживает полного доверия. Ламарк, при свойственной ему скромности, никогда не сделал бы подобного замечания, если бы в его распоряжении не было богатого фактического материала. Можно только пожалеть, что Ламарк выбрал не самый убедительный способ изложения и, ограничиваясь часто утверждениями, не приводил фактов. Г. 212.
83 Учение о потребностях и их количественном и качественном росте в ходе эволюции занимает исключительно важное место в научном мировоззрении Ламарка. Во многих своих сочинениях Ламарк возвращается к проблеме потребностей, приписывая им роль решающего фактора, определяющего различия между более низко и более высоко стоящими животными. Переходя к человеку, Ламарк, верный этому исходному принципу, доказывает, что разнообразие потребностей человека не могло не сказаться на обогащении мира его представлений и на возникновении и развитии новых склонностей и способов их проявления. Однако, став на этот правильный путь, Ламарк не сумел вскрыть истинных корней формирования и развития человека, поскольку он игнорировал роль труда. Это существенный пробел в эволюционном учении Ламарка, особенно в его {796} очерке, посвященном анализу свойств, характерных для человека. Однако справедливость требует отметить, что Ламарк был близок к пониманию социальной природы человека, о чем свидетельствует дальнейший текст «Введения» в «Естестверную историю беспозвоночных», а также «Философия зоологии» и «Аналитическая система». Г. 213.
84 Этот абзац представляет большой интерес как показатель отношения Ламарка к религии. Будучи материалистом, хотя и непоследовательного, деистического толка, Ламарк отводил верховному творцу только роль «первопричины» и вряд ли мог думать о религиозном чувстве и «налагаемых им обязанностях». Эта фраза носит скорее маскировочный характер. В то же время Ламарк высказывает здесь предположение, что религия и мысль о загробной жизни возникли из страха смерти, Подобное допущение в устах Ламарка звучит весьма двусмысленно и имеет, в сущности, антирелигиозную направленность. Г. 226.
85 В этом абзаце Ламарк довольно удачно говорит о социальной обусловленности содержания человеческой психики. В других местах Ламарк, наоборот, выдвигает на первый план «порядок вещей, заложенный в самой природе человека». 228.
86 Ламарк выступает здесь против взглядов великого деятеля французского-просвещения XVIII в. Жан-Жака Руссо (1712—1778). Как известно, Руссо, резко критикуя современный ему общественный строй неравенства и угнетения, ошибочно утверждал, что наука и прочие достижения культуры не только не полезны, но даже вредят человечеству. Ламарк противопоставляет этому тезис: «только существующее между людьми неравенство в знаниях, но отнюдь не сами эти знания, могут причинить людям вред». 229.
87 Термин «puissance» мы переводим чаще всего как «действенное начало». Перевести этот термин просто словом «сила» означало бы лишить его того философского оттенка, который придавал ему Ламарк. Не приходится доказывать, что в понятие это Ламарк вкладывал материалистический смысл. Иногда мы переводим агат термин и как «сила», например, когда речь идет о «силе жизни». Здесь выражение «действенное начало жизни» могло бы затемнить антивиталистическую направленность взглядов Ламарка. 232.
88 Напомним, что если в нашем широком понимании термин «природа» охватывает все существующее в мире, то Ламарк разграничивает понятия «материя» и «природа», относя к природе только движение и законы, действующие на материю. Материя, вселенная и составляющие ее физические тела являются особой категорией (см. т. I, стр. 904, примечание 101). 235.
89 Нужно обратить внимание на то,что Ламарк во «Введении» несколько раз. в ясной форме отрицает существование в природе разумной цели, подчеркивает, что природа действует только, подчиняясь необходимости. Иными словами, Ламарк выступает здесь против телеологии. 237.
90 См. предыдущее примечание. 238 {797}
91 Все предшествующие абзацы дают ясное представление об особенностях деистических воззрений Ламарка, с характерным для него отрывом материи от движения (подробнее об этом см. т. I, стр. 904, примечание 101). 244.
92 Ряд последующих абзацов Ламарк посвящает критике утверждения, выраженного формулой — «природа есть сам бог», т. е. критике пантеизма. Очень интересно разобраться в вопросе — с каких позиций Ламарк критикует пантеизм. Об этом смотри в нашей статье к этому тому. Обратим также внимание на утверждение Ламарка, что «божественная воля всюду выражается выполнением законов», что природа управляется постоянными законами, но законы эти были первоначально сотворены верховным творцом «для поставленной им перед собой цели». В трактовке Ламарка эта «цель» и «гармония» — нечто весьма отдаленное и туманное, стоящее только у начала мироздания. Здесь же Ламарк утверждает, что «было бы подлинным заблуждением приписывать природе цель, какую-либо преднамеренность в ее действиях». И дальше Ламарк обрушивается на вульгарную телеологию — «натуртеологию», говоря, что в отношении живых тел «целесообразность только кажущаяся, а не реальная» и что «гармония между организацией и привычками животных кажется нам заранее поставленной целью, тогда как в действительности это лишь конечный результат необходимости». В силу ряда причин Ламарк не дошел до идеи естественного отбора, а без этого представления нельзя дать подлинно научного объяснения органической целесообразности. Тем не менее поиски Ламарка, попытки истолковать явления приспособления как законосообразные, вытекающие из взаимодействия организмов и среды, его критика натуртеология представляет большой интерес. 244.
93 Эту фразу нужно, вероятно, понимать в «маскировочном» смысле, так как атеистов часто упрекали в безнравственности, якобы неизбежной при отрицании божества. 248.
94 Ламарк прав, выдвигая везде на первое место категорию объективной необходимости, объективные законы развития. Но он неправ, отрицая случайность, понимая под случайностью только наше незнание причин того или иного явления. Для Ламарка это отрицание случайности весьма характерно и вытекает из особенностей его деистической интерпретации природы, из его переоценки «гармонии». Он метафизически трактует случайность и необходимость, как две категории, взаимно исключающие друг друга. Диалектический материализм исходит из господства в природе и обществе необходимости, закономерностей, но не отрицает и объективного существования случайности, как формы проявления необходимости. 249.
95 Взгляды на религию великого французского просветителя XVIII века — Вольтера были весьма противоречивы. С одной стороны, Вольтер высмеивал идею бога, беспощадно критиковал схоластику, поповщину. С другой стороны, он не отвергал религии, пытался рационалистически доказать бытие божие. {798} В этой последней связи Вольтера занимал вопрос, как примирить существование бога с наличием в мире зла, дисгармонии и т. п. Этот вопрос и затрагивает Ламарк в комментируемом отрывке. Что касается упоминаемого здесь же Руссо, то он разделял позиции деизма, признавал существование бога и бессмертия души в дуалистическом смысле (деизм Руссо и Ламарка — разные концепции!). В деизме Руссо видел «религию чувства». 249.
96 Слово «assujettie» переведено как «зависимое». Это нужно понимать как подчинение необходимости, господствующей в мире,в противовес произволу. 252.
97 О взглядах Ламарка на воображение см. т. I, стр. 939, примечание 244t 255.
98 Ламарк сам считает эту шестую часть «Введения» «апогеем» своего труда. Действительно, философские воззрения Ламарка на природу изложены здесь с огромной выразительностью. В этой части содержится ряд формулировок, очень важных для понимания взглядов Ламарка. 257.
99 Ламарк здесь и в последующем изложении говорит о принципах общего распределения организмов на основании изучения отношений. Под отношениями Ламарк понимает «обнаруживаемые путем сравнения или сопоставления черты сходства или аналогии». Он делит здесь отношения на пять категорий: 1) отношения между видами; 2) отношения между большими группами организмов; 3) отношения положения, ранга; 4) отношения между отдельными частями, не подвергшимися изменениям, 5) отношения между отдельными частями, измененными действием особой причины.
Об отношениях Ламарк писал и раньше, но здесь он значительно углубляет вопрос и показывает, как надо пользоваться отношением, чтобы устранить произвол при построении общего ряда организмов. На понимании этих пяти категорий отношений и основанных на них восьми принципах и должен строиться общий ряд. 261.
100 Этот абзац свидетельствует о том, что Ламарк теперь уже полностью отличает отношения сходства, возникшего на основе приспособления к близким условиям существования весьма далеко друг от друга стоящих животных, от сходства, вытекающего из «плана действий природы». Иными словами, он различает отношения, основанные на конвергенции, и отношения, основанные на гомологии. 263.
101 Мы видим, что и в этой, позднейшей своей работе Ламарк сохраняет в качестве исходной точки для сравнения, в качестве «критерия совершенства» — человека, следуя здесь традициям старых натуралистов. Но в отличие от первых работ Ламарка, в которых допускалась еще возможность расположить в единый ряд и низшие систематические категории, сейчас речь идет только о расположении в единую серию классов и других крупных подразделений животного мира, да и сама серия из прямолинейной становится в известной мере разветвленной (см. т. I, стр. 857—8, примечания 8 и 13; стр. 901, примечание 99). 268. {799}
102 формулировка этого принципа не удачна, даже исходя из позиций Ламарка. Создается впечатление, что случайная причина, видоизменившая то, что создавалось природой, сама по себе оказывается чуждой природе. А по существу речь идет об «отклонениях», вызываемых условиями существования, да и механизм этих отклонений связан с действием тех же гипотетических флюидов, которые Ламарк в этом своем сочинении с большей определенностью, чем раньше, рассматривает как причину постепенного усложнения органического мира. 274.
103 Савиньи (М. J. Savigny, 1778—1851), Лезюер (Ch. A. Lesuеur, 1778—1846), Демаре (A. G. Desmarest, 1784—1838) — французские зоологи. Особенное значение имели исследования Савиньи, посвященные насекомым, паукообразным, ракообразным, аннелидам, полипам, и работы Лезюера, о моллюсках и лучистых. 287.
104 Очень важное обобщение Ламарка, показывающее, что, хотя он и сохранил представление о едином ряде, идущем от простого к сложному, но сохранилось оно только в самом общем виде, «ибо этот порядок далеко не прост, он может быть представлен рядом разветвленным и, по-видимому, даже состоит из нескольких отдельных рядов». В другом месте Ламарк пишет: «Если при образовании животных, природа произвела несколько различных рядов, в чем я убежден, то очевидно, что, каким бы образом мы к этому не подходили, нам никогда не удастся сохранить связь отношений между животными, принадлежащими ко всем классам, в едином общем и простом ряду (dans la serie generate et simple), который мы хотели бы построить. Мы можем только, учитывая степень сложности и совершенства каждой организации, рассматриваемой в совокупности ее частей, образовать ряд из отдельных больших групп (serie de masses) в соответствии с их совершенством» («Histoire naturelle des animaux sans vertebres», 1816, т. 3, стр. 81—82). Но Ламарк продолжает считать, что если «единый ряд» и оказался теперь разветвленным, дивергентным, то все же тенденция природы последовательно идти от простого к сложному в общем и целом находит и здесь свое отображение, «порядок образования» животных очевиден. В отдельных же «ветвях» Ламарк упорно продолжает строить прямолинейные ряды постепенного усложнения, ищет здесь связующие звенья и переходные формы, прослеживает за иерархией отрядов внутри отдельных классов и т. д. (см. т. I, стр. 901, примечание 99). 288.
105 В этих абзацах дана очень четкая формулировка эволюционных взглядов Ламарка: натуралисты, даже видевшие ряд постепенно уложняющихся форм, не понимали, что этот ряд отображает «порядок образования» этих тел, этапы их исторического развития. 289.
106 Важно отметить, что Ламарк связывает разветвленность рядов с реальными условиями существования животных, т. е. среда выступает здесь не только как фактор, нарушающий градацию, вызывающий те или иные отклонения от «прямолинейного» развития, но и как глубоко творческий {800} фактор, создающий отдельные ветви родословного древа, определяющий направления развития. Тенденция природы к прогрессу и могущественное влияние обстоятельств начинают тесно переплетаться. Впрочем, как мы отмечали выше, и в формулировке первого из четырех законов Ламарка, приведенных во «Введении», ясна его тенденция найти единую основу как для градации, т. е. для процесса усложнения органического мира, так и для возникновения многообразия органических форм в пределах каждой ступени усложнения. Такой единой основой в представлениях Ламарка является деятельность флюидов. 289.
107 Ламарк допускает самозарождение паразитических червей, как родоначальников особой ветви развития (см. примечание 49 к «Введению»). Это было в какой-то степени связано с трудностями наметить точку отхождения червей от общего ряда. Интересно, что когда Ламарк столкнулся с аналогичной трудностью в отношении паукообразных, он высказал допущение о возможности самозарождения также животных этой группы («Extrait du cours de zoologie», Paris, 1812, стр. 82). 290.
108 Ламарк делает в конце этого тома следующее замечание, не включенное нами в текст, хотя оно представляет, на наш взгляд, не только «полиграфический» интерес: «Замечание. Необходимость оперировать прямыми линиями, что было связано с условиями печатания, совершенно не позволила мне графически показать отхождения в сторону боковых ответвлений в рядах; поэтому идея, которую я хотел отобразить в таблице, а именно — показать точки отхождения боковых ветвей в рядах, оказалась несколько искаженной; однако приведенное здесь обсуждение устраняет, как мне кажется, этот недостаток и способствует восстановлению [истинного вида] таблицы». 293.
109 В «Histoire naturelle des animaux sans vertebres» (т. V, стр. 9—10) Ламарк отмечает, что после эпизоев в общем ряде животных можно различить три отчетливо обособленные ветви, а именно; 1) ветвь бескрылых насекомых (блохи), от которых произошли все прочие насекомые; 2) ветвь паразитических паукообразных с сяжками (рицинусы), от которых произошли клещи и все остальные бессяжковые паукообразные; наконец, 3) ветвь свободноживущих паукообразных с сяжками (многоножки, щетинкохвостые), от которых ведут свое происхождение ракообразные. Первую ветвь составляют животные, у которых личиночная стадия резко отличается от взрослой формы, тогда как животным, составляющим две другие ветви, это различие не свойственно. Здесь же (на стр. 110) Ламарк высказывает взгляд о том, что ракообразные произошли от последних родов паукообразных, имеющих сяжки (Arachnides antenniferes), которых, по его мнению, следовало бы назвать ракообразноподобными паукообразными (Arachnides crustaceennes), потому что от настоящих ракообразных они отличаются только тем, что дышат посредством трахей и лишены системы циркуляции. Ю. 294. {801}
110 Ламарк затрагивает здесь большой и интересный вопрос о происхождении позвоночных животных. Он высказывает предположение, что низшие позвоночные животные, а именно рыбы, произошли от беспозвоночных, вероятно — от киленогих моллюсков. К этому вопросу Ламарк неоднократно возвращается в своей «Естественной истории беспозвоночных животных» (т. 3, стр. 242; т. 6, ч. 1, стр. 267; т. 7, стр. 671 и др.). 295.
111 Говоря о двух таблицах, Ламарк подчеркивает, что первая таблица должна иметь скорее методическое значение, вторая же отображает действительный порядок образования животных «одних от других».
Большое принципиальное значение этой таблицы очевидно, что же касается приведенной в ней конкретной филогенетической схемы, то не приходится доказывать, исходя из наших современных знаний, что таблица представляет только исторический интерес. 296.
| {802} |

Составил И.М.Поляков
1 Статья «Вид» (Espece) опубликована в десятом томе второго издания «Нового словаря естественной истории» Детервилля, вышедшем в Париже в 1816—1819 гг. в 36 томах («Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle». Deterville»). Ламарк опубликовал в этом издании 19 статей, из которых 7 были, с небольшими изменениями, использованы в его последнем труде «Аналитическая система положительных знаний человека» (1820). Статья «Вид» была опубликована в вышедшем в 1817 г. томе словаря, на стр. 441—451.
Статьи на тему «Вид» Ламарк писал неоднократно на протяжении всей своей научной деятельности. В первом томе настоящего издания (М., 1955) читатель найдет статью «Вид», написанную Ламарком в 1786 г., в доэволюционный период его деятельности, когда он еще разделял догматическую веру в постоянство видовых форм. В первом же томе читатель найдет написанные Ламарком-эволюционистом «Вступительную лекцию к курсу зоологии» (1803 г.) и третью главу первой части «Философии зоологии» (1809), целиком посвященные этой же теме.
Публикуемая в этом томе статья «Вид», хотя и повторяет кое-что из предыдущих высказываний Ламарка, в то же время очень ярко демонстрирует представление об изменчивости видов, вытекающее из общего ламарковского понимания природы. Важно отметить, что в этой статье Ламарка вид фигурирует как реальность (см. т. I, стр. 868, примечание 52). 301.
2 О возможности применения понятия «вид» к телам неорганическим см. примечание 12 к «Введению». 301.
3 Предыдущие абзацы представляют сжатую и очень четкую формулировку деистических воззрений Ламарка. 305. {803}
4 Блестящая формулировка изменчивости видов. Ламарк показывает здесь подвижность границ между видами и разновидностями, доказывает, что «существование разновидностей всегда будет служить явным опровержением неизменяемости видов». 307.
5 Перон (Peron Francois, 1775—1810) — медик, зоолог и путешественник, участвовал в качестве врача-натуралиста в экспедиции корвета «Натуралист», снаряженной для исследования Австралии, Земли Вап-Димсна и соседних островов; собрал около ста тысяч образцов различных животных, принадлежащих более чем к 2500 новым видам. Научные результаты экспедиции описаны Пероном в «Voyages et decouvertes aux terres australes» — сочинении, законченном после смерти автора Лезюером (Lesueur Charles Alexander, 1778—1857) изд. 1-е, 1797—1810, в двух томах; изд. 2-е, 1824—1825, в четырех томах. Ю. 309.
6 Bombix neustria, Phalena neustria, современное название — Malacosoma neustria L., кольчатый шелкопряд. Ю. 309.
7 Формулировка Ламарка: «законы всецело определяются теми обстоятельствами, при которых природа действует» — очень удачна. Если иногда его трактовка понятия «закон» звучит так, будто законы в неизменном виде изначально установлены ТЕОрцом, то этой своей формулировкой Ламарк приближается к пониманию исторического характера закономерностей. 311.
8 Очень интересное, проведенное Ламарком различение двух категорий разновидностей — менее устойчивых, возникших от случайных зародышевых вариаций, и более устойчивых возникших в течение жизни индивидуума. 312.
9 Важно указать, что в своей последней статье, посвященной проблеме вида, Ламарк ясно говорит о реальности этой систематической категории, в то время как раньше он давал по этому вопросу более неопределенные формулировки (подробнее см. т. I, стр. 868, примечание 52). 312.
10 Статья «Способность» (Faculte) была опубликована в «Новом словаре естественной истории» Детервилля (1817, т. XI, стр. 8—18). В этой статье Ламарк кратко формулирует снова свою общую концепцию природы и жизни, а затем детализирует представления о способностях, присущих живым телам. Этому вопросу в последних работах Ламарка уделяется все большее внимание. Ламарк сам отмечает в этой статье, что он вносит здесь некоторые разграничения, упущенные им в «Философии зоологии». 313.
11 Здесь опять флюиды приводятся как причина усложнения организации (см. примечание 60 к «Введению»), 319.
12 Ламарк отмечает, что разграничение способностей животных на: 1) способности постоянные и первостепенного значения, которые изменяющая причина не в состоянии уничтожить, и 2) способности, имеющие меньшее значение и подверженные изменению, — было им упущено в «Философии зоологии». Мы склонны были раньше трактовать это деление способностей как попытку Ламарка разграничить конкретно «сферы влияния» силы жизни, обусловливающей {804} градацию, и действия среды, вызывающей различные модификации. Полагаю сейчас, что для такого утверждения нет достаточных оснований, так как во «Введении» отчетливо выступает тенденция Ламарка найти единую материальную основу для изменений всех категорий (см. примечание 60 к «Введению»). 320.
13 К характеристике способностей и их классификации Ламарк обращался и в более ранних своих произведениях. Здесь уместно привести два отрывка из работ Ламарка 1797 и 1802 гг.
«Способности, которыми животные обладают и функции, выполняемые их органами:
|
Раздражимость Способность чувствовать Способность к произвольному движению |
|
Способности |
|
Циркуляция Дыхание Пищеварение Питание Секреция Воспроизведение. |
|
Функции |
Перечисленные способности и функции необычайно характерны для этих существ и дают представление о превосходстве их организации над организацией растений, хотя у животных, как и у растений, организация представляет ряд последовательных ступеней в отношении того, что может быть названо ее совершенством» Lamarck. Memoires de physique et d'histoire naturelle, Mem. 7. Paris, an V (1797), стр. 313—314. См. также Lamarck. Recherches sur l'organisation des corps vivans. Paris.an X (1802) стр. 84: «Чем проще организация, тем ограниченнее число способностей, но тем большей мощностью и широтой обладают имеющиеся способности. Так, например, способность воспроизведения присуща всем животным, независимо от степени сложности их организации, но способы размножения тем многочисленнее, а проявление этой способности тем легче, чем проще организация животного. Сравните размножение слона и голубя, кита и карпа, у позвоночных и беспозвоночных животных, наконец, у моллюсков и полипов... То же имеет место и в отношении способности восстановления утраченных частей [тела]: у собаки не восстанавливаются ни лапы, ни хвост; у рака отрастает утраченная клешня, а у морской звезды новое животное может образоваться даже из одного луча». 10. 321.
14 Трахелиподы (Trachelipoda) — буквально «шееногие». Отряд класса моллюсков, имеющих обособленную голову, раковину, завитую спирально и никогда не состоящую из двух створок, и ногу, прикрепленную у основания шеи и служащую для ползания. В «Histoire naturelle des animaux sans vertebres» (т. VI, {805} ч. 2 стр. 59—232; т. VII, стр. 1—530) Ламарк подразделяет трахелипод на растительноядных (Tr. phytophaga), куда входят семейства круговидных, турбовых, неритовых и др., всего 10 семейств (см. «Философию зоологии», гл. VIII), и плотоядных (Tr. zoophaga), включающих 5 семейств: желобковых, крылатых, пурпуровых, колумеловых, завитых. Конхиферы — раковинные (Conchiferae), буквально — «раковиноносные». Ламарк прежде считал их отрядом класса моллюсков (см. «Философию зоологии», т. I, гл. VIII, безголовые моллюски), но в 1816 г. выделил их в самостоятельный класс — одиннадцатый класс беспозвоночных животных. Эти животные по своим анатомическим признакам занимают, по мнению Ламарка, промежуточное положение между настоящими моллюсками, стоящими гораздо выше их по своей организации, с одпой стороны, и менее совершенными, чем они, оболочниками— с другой стороны. Ламарк подразделяет кон-хифер на два отряда: С. dimyaria, с двумя мускулами для прикрепления (семейства: хамидовые, сердцевидковые и др.), и С. monomyaria— с одним мускулом (устричные, биссусоносные, рудисты, брахиоподы). Конхиферам посвящен т. V (стр. 411—612 ) и т. VI, ч. 1 (стр. 1—258) «Histoiie naturcllc des animaux sand vertebrcs». Там же Ламарк приводит подробное обоснование произведенной им реформы классификации моллюсков. Ю. 322.
15 В своих сочинениях Ламарк неоднократно ссылается на свою «пиротическую теорию», рассматривает «материю огня» и различные видоизменения этой материл в природе. Все эти рассуждения Ламарка с развитием науки потеряли свое значение, да и в эпоху Ламарка уже были устаревшими. Особенно подробно различные «состояния огня в природе» рассматриваются Ламарком в следующих сочинениях: «Recherches sur les principaux faits physiques». Paris, an II (1794), т. I. Premiere partie: «Le feu» стр. 64—314; «Refutation de la theorie pneu-matique». Paris, au IV (1796), theorie pyrotique, стр. 79—481; «Memoires de physique et d'histoire naturelle». Paris, an V (1797). Sixieme memoire: «Sur la matie-re du feu», стр. 131—237; «Hydrogeologie». Paris, an X (1803), «Memoire sur la matiere dufeu», стр. 189—224. Ю. 325.
16 Здесь снова с большой настойчивостью Ламарк повторяет характерную для него ошибку и говорит о движении, как об одном из «сотворенных начал», чуждых материи как таковой. 325
17 Все статьи, на которые Ламарк здесь ссылается, опубликованы в этом же «Новом словаре естественной истории» Детервилля (статья «Представление» в т. XVI, стр. 19—94; «Инстинкт» — там же, стр. 331—343; «ум» — там же, стр. 344—360, «Органические функции» в т. XIV, стр. 593—596). 326.
18 Статья «Привычка» (Habitude) была опубликована в «Новом словаре естественной истории» Детервилля (1817, т. XIV, стр. 128—138).
Известно, какое большое значение анализу привычек и их изменению в разных условиях существования животных придается в эволюционной концепции Ламарка. {806}
В этой статье дается превосходная картина эволюции физиологических механизмов привычек. Конечно, она дана на уровне состояния науки той эпохи и характерных для Ламарка представлений о флюидах, тем не менее общий интерес этой статьи очевиден. Ламарк показывает, что первоначально привычки обусловливаются механическими причинами, лежащими вне организмов, первые нервы тоже возбуждаются флюидом извне. Далее «раздражитель» как бы переходит внутрь организма и внутреннее чувство (трактуемое материалистически) направляет флюиды к мышцам. Сохраненные привычки видоизменяют организацию, открывают и расширяют флюидам пути, по которым они должны проходить (идея проторенных путей, которой объясняются многие психические способности). В этом интереснейшем анализе Ламарк обнаруживает ясное понимание отличий инстинкта от умственных актов и фактически отождествляет внутреннее чувство с инстинктом. Эта краткая характеристика показывает, какой большой интерес представляет данная статья Ламарка. 327.
19 Под «индустрией» животных Ламарком подразумеваются их повадки, навыки, а так же различные сооружения, которые некоторыми животными возводятся (гнезда, плотины и т. п.). 334.
20 Интересный вариант формулировки представления об унаследовании приобретенных признаков. 334.
21 Ясное высказывание Ламарка против телеологии. 334.
22 Блестящая характеристика инстинкта! Читая ссылку Ламарка на инстинктивные действия пауков, невольно вспоминаешь слова Маркса: «Мы предполагаем труд в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека. Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей — архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове» (К. Маркс. Капитал, т. I, стр. 185. М., 1953). 336.
23 В предыдущих абзацах Ламарк в общем приближается к пониманию социальной специфики поведения человека, но в отдельных своих формулировках он сбивается на «биологизаторство». 335.
24 Ламарк проводит мысль об известной локализации функции в мозгу. Так как здесь он неудачно говорит об «обособленных участках», соответствующих по числу и значимости отдельным представлениям, то нелишним будет напомнить, что Ламарк резко критиковал френологические построения Галля (см. т. I, стр. 915, примечание 147). 339.
25 См выше примечание 17. 340.
| {807} |

Составил И. М. Поляков
1 Труд Ламарка «Аналитическая система положительных знаний человека, полученных прямо или косвенно из наблюдений» (см. в тексте титульную страницу оригинала), вышел в Париже в издании Белена (Belin) в 1820 г. После смерти Ламарка и распродажи его имущества, библиотеки, коллекций 300 несброшюрованных экземпляров «Аналитической системы» были приобретены, оформлены и выпущены в 1830 г. как «новое издание» Байером (Bailliere).
Этот труд представляет большую ценность для понимания философских, общебиологических, эволюционных и психофизиологических концепций Ламарка. В этом труде, в ясной форме, Ламарк подводит итоги своим неустанным многолетним исследованиям и размышлениям. Труд этот носит синтетический характер. Но Ламарк здесь не только синтезирует свои взгляды на окружающий мир, пытаясь рассмотреть мироздание «от атома до человека», но оттачивает ряд своих формулировок и развивает некоторые из высказанных им ранее положений. Что касается истории создания этого труда, то нужно полагать, что он был задуман Ламарком вскоре после выхода в свет «Философии зоологии».К 1810—1814 гг. мы относим оставшиеся в рукописи и впервые публикуемые в этом томе материалы Ламарка, озаглавленные им как «Аналитический обзор человеческих знаний» (см. «Дополнения» и примечание 19 к «Дополнениям»).
Вероятно, грандиозность задуманного Ламарком труда и загруженность другими работами (и прежде всего его обширной «Естественной историей беспозвоночных животных») заставили его отказаться от мысли написать труд в той форме, в какой он был намечен в «Аналитическом обзоре». Во «Вводных рассуждениях» к «Аналитической системе» Ламарк даже утверждает, что он «отнюдь {808} не предполагал выполнить этот труд», идалыпе про должает:«... несчастный случай, внезапно лишивший меня зрения, прервал ход наблюдений над животными, поставляющими предмет моей «Естественной истории беспозвоночных животных», и заставил меня спешно продиктовать приведенные здесь принципы». Известно, что здоровье Ламарка резко ухудшилось, а зрение ослабело в 1818 г. При подготовке «Аналитической системы» (1819—1820 гг.) Ламарк был уже слепым и диктовал этот труд своим дочерям Розалии и Корнелии, самоотверженная преданность которых неизменно поддерживала престарелого ученого в последние годы его жизни.
Для второй, психофизиологической части «Аналитической системы» Ламарк использовал свои статьи по вопросам психофизиологии, опубликованные в XV—XVI томах «Нового словаря естественной истории» Детервилля в 1817 г. Из этого же словаря была частично использована и статья «Природа» (т. XXI, 1818) при подготовке первой части «Аналитической системы». Во второй части «Аналитической системы» в известной мере повторяются и частично развиваются также соответствующие разделы третьей части «Философии зоологии». 349.
2 Это утверждение Ламарка представляет большой интерес, как показатель его отношения к религии. Что означает утверждение Ламарка, что к понятию божества человек пришел не непосредственно, а на основании неизбежных выводов, следующих из его наблюдений? С одной стороны, мы видим здесь непоследовательность, характерную для деистической формы ламарковского материализма, с другой же стороны, мы усматриваем здесь и иной оттенок. Религиозное мировоззрение обычно исходит из того, что идея божества является врожденной, дана человеку непосредственно. В той мере, в какой Ламарк отрицает это положение, его высказывание имеет антитеологическую направленность (см. также примечания 84 и 95 к «Введению»). 352.
3 О том, как Ламарк ставит проблему гармонии и дисгармонии, «добра и зла», целесообразности — см. примечания 89, 92, 94 к «Введению» и примечание 24 к «Дополнениям». 353.
4 Ламарк в предыдущих абзацах ограничивает сферу деятельности божества сотворением природы и материи. Дальше же он, в сущности, отметает все, что имеет отношение к богу и душе, считая, что все это находится за границами реального познания человека. Его агностические формулировки не могут скрыть здесь материалистической устремленности. Отдав дань идее божества, он затем «вытесняет» бога из природы, в которой царят причинная необходимость, закономерность. 354.
5 Здесь мы сталкиваемся снова со столь характерным для Ламарка и глубок» ошибочным отрывом материи от движения («Материя по существу пассивна,инертна, лишена собственного движения и активности»). На оценке этого утверждения Ламарка мы уже останавливались (см. т. I, стр. 904, примечание 101 и примечание 91 к «Введению»). Дополнительно отметим, что непонимание движения {809} как неотъемлемого свойства, формы существования материи характерно для метафизического и механистического периода в развитии естествознания. 3-57.
6 Кремний, иначе — «стекловатая земля», является, по Ламарку, предельной стадией изменения составных молекул сложных тел. Он неразложим, так как представляет собой один из четырех основных элементов, из которых состоят все тела, а именно — «элемент земли», почти в чистом виде. Кремний присутствует во всех телах, как органических, так и неорганических, однако он «замаскирован» в них примесью других основных начал. Ламарк считает кварц и горный хрусталь чистым кремнием. Ю. 359.
7 Здесь мы опять встречаем у Ламарка высказывание, направленное против телеологии («природа — слепое начало без цели»). 367.
8 См. примечание 31 к «Дополнениям». 369.
9 Здесь Ламарк снова провозглашает, что необходимость, причинная взаимозависимость является основой мира. Под «порядком вещей» подразумеваются более сложные причинные связи. 370.
10 О Бартезе см. примечание 37 к «Введению». 370.
11 Ламарк повторяет в дальнейшем изложении свои аргументы против пантеизма, высказанные им уже во «Введении к «Естественной истории беспозвоночных животных». Отдавая дань идее божества как «первопричины», Ламарк дальше «вытесняет» бога из природы. Его критика пантеизма направлена против идеалистической формы пантеизма («бог-мировая душа», «мир существует в боге»). Дальше Ламарк резко критикует телеологию (см. примечание 92 к «Введению»). 371.
12 Примечание 5 к «Системе). 375.
13 См. примечание 27 к «Дополнениям». 378.
14 Ламарк ошибочно полагал, что предыдущие абзацы взяты им из «Философии зоологии». На самом деле они дословно повторяют соответствующие места «Введения» к «Естественной истории беспозвоночных животных». 384.
15 Ламарк снова повторяет здесь характерную для французских просветителей XVIII в. мысль о том, что несчастья человека вытекают из незнания законов природы или из пренебрежения ими. Напомним в этой связи, что французский философ-материалист П. Гольбах начинает предисловие к своему сочинению «Система природы» словами: «Человек несчастен лишь потому, что он не знает природы». 386.
16 Здесь Ламарк в духе просветителей идеалистически трактует явления общественной жизни человека. 391.
17 Ламарк ограниченно понимает истину. За основу трактовки этого вопроса мы берем мысли В. И. Ленина о соотношении абсолютной и относительной истины: «Итак, человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной {810} истины, но пределы истины каждого яаучпого положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знания» (В.И.Ленин. Сочинения, изд. 4, т. 14, стр. 122). 402.
18 Взгляды Ж.-Ж. Руссо (1712—1778), выдающегося французского просветителя XVIII в. (в частности, взгляды Руссо, высказанные в его трактате «Эмиль, или о воспитании»), оказали очень большое влияние на Ламарка. В основном Ла-марк соглашается с Руссо, отвергая только его мнение о том, что знания скорее вредны, чем полезны человеку (см. примечание 86 к «Введению»). 404.
19 Статья в «Новом словаре» Детервилля — «Nature», т. XXII, стр. 363—399. 405.
20 См. примечание 38 к «Дополнениям». 413.
21 Оценку ламарковской теории самозарождения см. т. I, стр. 910, примечание 134. О клеточной ткани см. т. I, стр. 975, примечание 78. 418.
22 Для правильной оценки ламарковской концепции оплодотворения см. т. I, стр. 880, примечание 108 и стр. 911, примечание 135. 421.
23 Реомюр (R.A.Reaumur, 1683—1757) крупный и разносторонний французский естествоиспытатель, работавший в разных областях науки (физика, химия, зоология и т. д.). В своем шеститомном сочинении «Мемуары по истории насекомых» (1734—1742) Реомюр описывает также партеногенетическое размножение тлей. 421.
24 Ламарк упоминает здесь о статье: L.A.Hombres-Firmas. Relation d'un phenomene.— «Bull. Soc. philom. Paris, 1819, июль, стр. 105—107»), В этом «Сообщении об одном необыкновенном явлении» рассказывается, со слов четырех очевидцев, о том, что в стенке матки двухнедельного зародыша, извлеченного из тела зарезанного козленка, было обнаружено мясистое образование величиной в большой палец, обладавшее всеми признаками не вполне сформировавшегося зародыша. Оплодотворение зародыша самки, по-видимому, имевшее здесь место еще до ее рождения,— «факт, еще более необычайный, чем все описанные до сих пор уродства, хотя подобные случаи известны у животных других классов». В примечании автор указывает на результаты наблюдений Бонне, Реомюра и Лионне над размножением травяных тлей. Для обьяснения приведенного факта, говорит автор, можно допустить две возможности: либо козленок и обнаруженный внутри его зародыш зародились одновременно; при этом, в продолжение примерно пяти месяцев, пока оба они находились в чреве матери, или же, пока козленок питался материнским молоком, он развивался обычным образом, тогда как его близнец, не получивший достаточного питания, не мог нормально формироваться внутри него. Либо приходится предположить, как это делают некоторые натуралисты, предсуществование зародышей акту оплодотворения, т. е. признать, что все зародыши содержатся («вложены») один внутри другого изначала, с момента сотворения мира. В заключение автор высказывает мысль, что «творец всей природы, без сомнения, не {811} желал, чтобы мы проникли в тайну зарождения, ибо ее не могли раскрыть своими исследованиями даже столь прозорливые ученые, как Галлер, Бонне, Реомюр, а пришедшие на смену им ученые физиологи не отрицают того, что все существующие в этой области гипотезы не объясняют подлинной, сущности зарождения» Ю. 421.
25 Ламарк неоднократно и резко критиковал метафизическую концепцию преформизма. 421.
26 Ламарк в своих сочинениях определяет сущность жизни, характеризуя основные, существеннейшие признаки, свойственные всем организмам (см. т. I, стр. 906, примечание 110 и примечание 18 к «Введению)». 423.
27 Ламарк иногда ошибочно отрицает наличие подлинного усложнения в растительном мире, в других же случаях он его признает и располагает растения в порядке возрастающей сложности их организации. 426.
28 Еще одна формулировка причины градации: «Природа в дальнейшем, следуя своему постоянному стремлению, постепенно видоизменяла эти существа и последовательно усложняла их строение». 427.
29 Название «биссус» старых ботаников (пыпе упраздненное) относилось как к некоторым нитчатым водорослям, так и к мицелию некоторых плесневых грибков. 428.
30 Попытку естественного распределения растений в порядке возрастающей «ложности их организации Ламарк сделал в сочинении «Естественная история растений», 1803. (См. т. I, стр. 960, примечание 50). 428.
31 Говоря о «постепенном усложнении отклонений», Ламарк проводит мысль, что не только главная линия развития растительного мира, по и его «боковые ответвления», позволяют обнаружить постепенное усложнение. 428.
32 Ламарк всегда возражал против попыток отобразить соотношения между крупными подразделениями органического мира не при помощи схемы постепенно усложняющегося ряда, а при помощи других схем (см. т. I, стр. 858, примечание 13). 428.
33 Семейства магнолиевых и аноновых относятся к отряду многоплодниковых цветковых растений. Плоды некоторых видов тропических растений рода Апопа съедобны и культивируются. Тюльпанное дерево (Liriodendron), относящееся к семейству магнолиевых, произрастает — один вид в юго-восточной части Северной Америки, другой в Китае. Ю. 428.
34 Важно отметить, что Ламарк объединяет в одном (седьмом) тезисе оба фактора органической эволюции: изменения под влиянием среды, передающиеся по наследству, и стремление (tendence) природы к усложнению. Он говорит о «сочетании» этих двух факторов. 434.
35 Ламарк говорит здесь о «первичной форме животного» (type animal) не в смысле единого прототипа для всего животного мира, а в смысле примитивной, исходной формы. 435. {812}
36 В этом очень важном отрывке Ламарк говорит о силе, превышающей даже могущество природы, о власти обстоятельств: «Все то, что совершает природа, всегда подчинено власти обстоятельств, той необходимости, которую они налагают». Мы полагаем, что эти высказывания Ламарка представляют более глубокое, правильное понимание необходимости, закономерности; здесь имеются некоторые элементы исторического понимания закономерностей. Эти мысли Ламарка находятся в противоречии с теми его высказываниями, в которых он, наоборот, всячески подчеркивает незыблемость изначально сотворенных законов природы (см. также примечание 31 к «Дополнениям» и примечание 7 к «Статьям»). 435.
37 См. примечание 31 к «Системе». 436.
38 Последующий обзор классов представляет интерес как дальнейшее развитие «родословной схемы» животного мира. Эту схему следует сравнить со схемами, приведенными в «Философии зоологии» и в «Естественной истории беспозвоночных животных». Ламарк говорит здесь о 16 классах. В еще большей степени родословная схема «разветвляется». Допускается наличие трех ветвей, самостоятельных с самого возникновения, произошедших от полипов. Допускается, что особый ряд или ветвь составляют кольчецы. Ламарк продолжает и в этой последней своей работе говорить о «генеральном» ряде усложнения животного мира. В то же время оп подчеркивает, что и внутри отдельных разветвлений этого ряда выявляется та же картина градации. В целом же Ламарк далеко ушел от представления о единой прямолинейной схеме усложнения организмов и приблизился к схеме родословного древа. 436.
39 О раковинных см. примечание 14 к «Статьям». 437.
40 Ламарк здесь прямо и смело говорит о происхождении человека от животных, не прибегая к тем оговоркам маскировочного характера, которые он был вынужден допустить в «Философии зоологии» (см. т. I, стр. 899, примечание 96). 438.
| {813} |

Составил С.Г.Геллерштейн
41 Содержание второй части «Аналитической системы положительных знаний человека, полученных прямо или косвенно из наблюдений» представляет собой, в сущности, новый, более поздний вариант третьей части «Философии зоологии». В обоих этих сочинениях не только содержание, но и последовательность расположения материала и ход развития основных идей оказываются близкими, а иногда даже текстуально совпадающими. Можно было бы поэтому значительную часть комментариев, поясняющих важнейшие положения третьей части «Философии зоологии», распространить и на вторую часть «Аналитической системы». Однако в этом последнем своем произведении, отделенном от «Философии зоологии» более чем десятью годами, Ламарк не ограничился простым повторением уже высказанных им в «Философии зоологии» мыслей, но счел необходимым внести некоторые изменения в свои давно сложившиеся взгляды на психическую деятельность. Эти изменения представляют большой интерес для понимания научного мировоззрения Ламарка. Поэтому в дальнейших примечаниях будут в первую очередь оттенены изменения в философских и психофизиологических воззрениях Ламарка, явившиеся плодом исканий последних лет его неутомимой творческой жизни и получившие наиболее полное выражение во второй части «Аналитической системы».
Касаясь общей характеристики второй части этого труда Ламарка, следует прежде всего подчеркнуть, что Ламарк включил туда не все разделы третьей части «Философии зоологии». Так, «Аналитическая система» оказалась значительно обедненной в отношении чисто биологической и физиологической трактовки вопросов психической деятельности. Ламарк выступает в «Аналитической системе» больше как философ, пежели как естествоиспытатель, биолог. Кроме {814} того, наиболее яркие и сильные аргументы, приведенные Ламарком на страницах «Философии зоологии» в защиту своей психофизиологической концепции и продемонстрировавшие блеск и силу Ламарка, как одного из первых самостоятельных исследователей в этой области, также не были включены им в «Аналитическую систему». Замечательный по богатству мыслей раздел «Философии зоологии» — «О физической чувствительности и механизме ощущений» вошел в «Аналитическую систему» в заметно сокращенном виде. Небольшая глава «О воле» вовсе была исключена Ламарком, и этого вопроса он почти не касается в «Аналитической системе». В то же время Ламарк несколько расширил главы о внутреннем чувстве, о склонностях, об инстинкте — не за счет обогащения их новым фактическим материалом, а за счет общих рассуждений, повторений, а также ссылок на свои более ранние высказывания по данным вопросам, содержащиеся во «Введении» к «Естественной истории беспозвоночных животных». В целом вторая часть «Аналитической системы», для которой, как известно, Ламарк использовал свои статьи по вопросам психологии из «Нового словаря» Детервилля, хотя и проигрывает в известной мере в содержании по сравнению с «Философией зоологии», но в то же время знакомит нас с новыми плодотворными исканиями Ламарка в области психофизиологии. 439.
42 Сказанное в этом абзаце отражает общие представления Ламарка о происхождении человека (см. 1,т. стр.899, примечание 96).Отметим также,что тонкое и верное сравнение органов чувств человека и животных перекликается с более поздними высказываниями Энгельса, выразившего ту же идею превосходства человека над животными в отношении развития органов чувств в форме следующего теоретического обобщения: «Орел видит значительно дальше, чем человек, но человеческий глаз замечает в вещах значительно больше, чем глаз орла. Собака обладает значительно более тонким обонянием, чем человек, но она не различает и сотой доли тех запахов, которые для человека являются определенными признаками различных вещей» (Ф. Энгельс. Диалектика природы. М., 1952, стр. 136—137). Энгельс, как известно, приписывал мышлению огромную роль в расширении деятельности органов чувств человека как орудий познания, в то время как Ламарк придавал решающее значение взаимодействию органов чувств и их совокупному функционированию в связи с расширением потребностей и влиянием привычки. Но уже сама постановка Ламарком этого вопроса и направление, в котором оп искал его решения, свидетельствуют о замечательной его наблюдательности, о глубине и самостоятельности его естественнонаучного мышления. 440.
43 Говоря о большем совершенстве кавказской расы по сравнению с другими расами, Ламарк вовсе не имел в виду выразить свое согласие с проповедовавшимися уже в его время «теориями» физического и духовного превосходства одних человеческих рас над другими. Воспитанному в духе идей французского просвещения, последователю Руссо, глубоко проникнутому чувством социальной {815} справедливости, Ламарку совершенно чужды были представления о биологическом неравенстве людей, тем более — о превосходстве одной расы над другой. 440.
44 Эти как бы вскользь брошенные мысли о роли руки в развитии человека и человеческого общества примечательны в том отношении, что в них уже содержится в значительной мере то правильное естественнонаучное объяснение важнейшего этапа в истории становления человека в ходе эволюции животного мира, которое стало достоянием науки и получило строго теоретическую трактовку лишь много позднее, с появлением выдающихся работ Ч. Дарвина и классических произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. В высказываниях Ламарка мы не находим сколько-нибудь законченной, т. е. доведенной до логического конца точки зрения на роль труда в развитии человека. Но некоторые мысли Ламарка о влиянии освобождения верхних конечностей на изготовление орудий и развитие ловкости и т. п. служат свидетельством того, что эволюционный:, принцип был в руках Ламарка верным компасом, указывающим ему путь при решении самых сложных вопросов. 442
45 Разумеется, высказывания Ламарка о происхождении речи и языка не доведены были до той степени полноты и законченности, какая присуща стройным научным теориям. Но то немногое, что написал Ламарк по данному вопросу, столь глубоко и значительно, что можно с полным правом видеть в Ламарке одного из первых естествоиспытателей-эволюционистов, подготовивших почву для материалистического учения о происхождении и развитии речи. Свои мысли о речи, языке и мышлении Ламарк неоднократно излагал и в более ранних сочинениях, в частности в «Философии зоологии». Так, в конце последней главы первой части, касаясь причин, обусловивших господствующее положение человека в животном мире, Ламарк писал, что особи уже упомянутой господствующей породы, «нуждаясь в увеличении числа знаков для быстрого обмена понятиями, постепенно становившимися все более и более многочисленными, с другими индивидуумами своей породы и не имея уже возможности выразить все это множество сделавшихся необходимыми знаков ни пантомимическими жестами, ни теми или иными осуществимыми изменениями голоса, по-видимому, приобрели путем различного рода усилий способность производить членораздельные звуки. На первых порах они, без сомнения, применяли лишь небольшое число таких звуков, продолжая пользоваться для этой цели оттенками голоса, впоследствии они увеличили, разнообразили и усовершенствовали их соответственно приобретенным навыкам в произнесении этих звуков» (см. т. I, стр. 428). Под навыком Ламарк разумел в данном случае достигшую высокого совершенства способность к расчленению звуков, обусловленную привычным упражнением гортани, языка и губ. Далее, в третьей части «Философии зоологии», в главе VII, посвященной вопросу о происхождении разума, Ламарк снова возвращается к проблеме знаков и, полемизируя с Кондильяком, развивает несколько {816} соображений об основной функции языка — служить средством общения и обмена мыслями между людьми (см. т. I, стр. 936, примечание 231). Но именно в последнем своем сочинении — в «Аналитической системе» — Ламарк сумел придать своим мыслям о происхождении речи наиболее ясный и законченный характер. В этих последних его высказываниях уже не остается никаких недомолвок, которые могли бы подать повод к ложным толкованиям взглядов Ламарка. Мы убеждаемся, что только сознательным намерением извратить эти взгляды можно объяснить появление психоламаркистских теорий, приписывающих — якобы в согласии с Ламарком — таинственному психологическому фактору роль движущей силы в развитии человека и его способностей. Верный своему мировоззрению, Ламарк, конечно, выдвигает на первый план роль потребности и привычки. Но если вдуматься в смысл, вкладываемый Ламарком в эти понятия, и попытаться вникнуть в них в том контексте, в котором их применяет в данном случае Ламарк, то нетрудно убедиться в последовательности эволюционных воззрений Ламарка при трактовке проблемы происхождения речи и языка. Примечательны — с точки зрения наших современных представлений о языке — мимоходом сделанные Ламарком замечания о причинах различий отдельных языков, о роли условий жизни в дифференциации языковых средств, служащих для выражения мыслей, о праязыке, существование которого Ламарк решительно отвергал. В истории материалистических учений о языке все эти идеи Ламарка должны запять достойное место. 443.
46 Эту последнюю фразу нельзя рассматривать как выражение пессимистического взгляда на природу человека. Это скорее чисто риторическая фраза, за которой скрывается глубокая скорбь подлинного гуманиста, болеющего за судьбы человечества и опечаленного социальным злом и неустройством человеческого общества. 442.
47 Сопоставление этого места с тем разделом третьей части «Философии зоологии», в котором Ламарк с предельной отчетливостью ставит вопрос о единстве физической и духовной природы человека, может породить впечатление, будто во взглядах Ламарка на этот вопрос произошла перемена, что ои склонен внести известные ограничения в свою первоначальную, недвусмысленную и материалистически безупречную формулировку. Однако такое впечатление обманчиво. Выражение «в отношении своего физического существа» отнюдь не означает, что Ламарк подразумевал возможность существования особой духовной природы человека. Против такого заключения говорит весь ход рассуждений Ламарка, в которых не один раз подчеркивается идея подчинения человека, как природного существа, тем же законам природы, которым подвластны все животные организмы. В представлении Ламарка человек лишь в той мере и в том качестве отличается от других животных, в какой его физическая организация, и прежде всего центральная нервная система и головной мозг, обеспечили развитие особых способностей, являющихся не чем иным, как свойствами этой {817} физической, другими словами—материальной организации. Сама же эта организация, как явствует из всех сочинений Ламарка, представляет собой звено длинного эволюционного ряда, результат долгого пути развития и совершенствования видов. 443.
48 Для Ламарка, как для натуралиста с широким кругозором, чрезвычайно характерно вплетение социологических выводов и обобщений в ход естественнонаучных рассуждений. Хотя едва ли правомерно искать прямую связь между взглядами Ламарка на природу и его общественно-политическими убеждениями, все же нельзя не видеть, что в мировоззрении Ламарка более или менее гармонически уживаются чисто биологические взгляды с общефилософскими и общественными воззрениями, которые несут на себе печать прямого влияния французских просветителей XVIII в. и в первую очередь — Руссо. Так, в третьей части «Философии зоологии», связывая рост потребностей человека с его общественной жизнью, Ламарк доказывал, что способность воображения развивается в благоприятных социальных условиях и оказывается задержанной у тех, кто вынужден неблагоприятными условиями существования вращаться в кругу ограниченного круга представлений. Но, в отличие от «Философии зоологии», в которой экскурсы в сторону социальных проблем сравнительно редки, в «Аналитической системе» социологические рассуждения встречаются чаще.
Покидая почву естественнонаучных фактов, Ламарк нередко отклоняется в «Аналитической системе» от прямого пути и входит в область, в которой проявляются не столько аналитические стороны ума Ламарка, сколько благородный образ его мыслей и в то же время наивные представления о законах развития общества. В этом смысле «Аналитическая система» в целом представляет собой менее стройное и менее систематическое изложение психофизиологических выводов Ламарка, нежели третья часть «Философии зоологии», несмотря на многие превосходные, яркие страницы, поражающие глубиной мысли и логикой аргументации. 446.
49 В этой главе Ламарк частью воспроизводит, частью по-новому освещает основные положения, составлявшие содержание двух глав третьей части «Философии зоологии»: главы I — «О нервной системе, ее образовании и ее разнородных функциях» и главы II — О нервном флюиде. Ламарк внес незначительные изменения в характеристику строения различных органов и в их классификацию. Так, в стремлении представить в более сжатом и в то же время в обобщенном виде свой взгляд на строение и функции нервной системы, Ламарк ввел два новых понятия: «ясно различимые органы» (organisme distinct) и «неявственные органы» (organisme indistinct). По мысли Ламарка, нервная система и все относящиеся к ней специальные части представляет собой «неявственный орган», в том смысле, что многие структурные ее особенности и совершающиеся в ией процессы не поддаются точному анатомическому изучению. Эта новая терминология не только не внесла большей ясности в понимание морфологических и функциональных свойств нервной системы, но скорее затемнила смысл ранее высказанных {818} Ламарком взглядов по этому вопросу. Насколько выигрывает по сравнению с этим разделом «Аналитической системы» глава о нервной системе в третьей части «Философии зоологии», видно не только из простого перечня вопросов, разобранных Ламарком в этих сочинениях, но и из способа рассмотрения этих вопросов. В «Философии зоологии» Ламарк придерживался правил строгого естественнонаучного описания нервной системы с эволюционной точки зрения, опираясь на современный ему уровень знаний в этой области. В «Аналитической системе» почти вся конкретная биологическая сторона проблемы оказалась выхолощенной и замененной общими рассуждениями и терминологическими тонкостями. 446.
50 Сквозящий в последней фразе Ламарка оттенок не должен быть истолкован как отступление от прежде горячо отстаиваемого им убеждения в познаваемости всех явлений природы. Никакой уступки агностицизму Ламарк не мог допустить. Он хотел лишь подчеркнуть, что для постижения тончайших процессов, разыгрывающихся в нервной системе, средства опытного познания еще недостаточны. Принципиальная позиция Ламарка по этому вопросу лучше всего выражена во введении к третьей части «Философии зоологии», где Ламарк определяет сюе отношение к агностицизму Галля и Шпурцгейма. На этой позиции Ламарк стоял непоколебимо до конца своей жизни (см. т. I, стр. 915, примечание 147). 448.
51 Говоря о физических законах, Ламарк имел в виду не столько физические законы в современном значении этого слова, сколько законы физиологии,— законы, которым подчиняется материальная основа психической деятельности. 449.
52 По смыслу всех многочисленных высказываний Ламарка о нервном флюиде можно заключить, что он смотрел на нервный процесс как на процесс материальный, предполагающий распространение особого нервного тока по определенным путям. Отсюда он и делал вывод о движении гипотетического «вещества» подобного электрическому току, обладающего особо тонкой структурой, обеспечивающей исключительную скорость передвижения. О флюидах см. т. I, стр. 864, примечание 30. 450.
53 Говоря о многозначности понятия «чувство», Ламарк имел в виду не только неопределенный объем этого понятия: чувство в узком и в широком значении (эта неопределенность сохранилась и в наши дни), но подразумевает также и качественную неоднозначность этого понятия: чувство как ощущение жщ чувство как эмоция. Первое из этих значений вводит чувство в сферу сенсорных актов, второе — сближает чувство с инстинктами, с переживаниями страха, боли, удовольствия, страдания и т. д. Уже в «Философии зоологии» Ламарк пытался устранить неоднозначность понятия «чувство» и придать ему более строгий смысл. В настоящем сочинении Ламарк внес новые оттенки в свое первоначальное определение — в связи с введенным им впервые в «Аналитической {819} системе» подразделением органов на «ясно различимые» и «иеявственные». По Ламарку, чувства обязаны своим происхождением процессам, совершающимся в «неявствепыых органах», лишь в редких случаях возможно появление чувства в результате воздействия извне или изнутри на тот или иной «ясно различимый» орган. 451.
54 В развиваемом Ламарком учении о чувствах и их происхождении значительное место отводится характеристике движений нервного флюида. Если в «Философии зоологии» Ламарк пытался детально представить различия в движении нервного флюида при возбуждении мышц, при возникновении ощущения, при появлении эмоций внутреннего чувства, при умственных актах и т. п., то в «Аналитической системе» оп дал более концентрированное определение всех особенностей этого движения, развив понятия «простого отражения» и «двойного отражения». Этим Ламарк весьма приблизился к пониманию нервного процесса, как рефлекторного акта, но, не будучи в состоянии преодолеть вставшие на его пути затруднения и расчистить почву для идеи рефлекса, он продолжал резко отграничивать область чувствования от области движений и действий. 451.
55 Идея общего единого очага, или центра, отношений принадлежит к числу фундаментальных идей психофизиологической системы Ламарка. Чрезвычайно характерен путь, которым он пришел к этой идее. Прослеживая шаг за шагом эволюцию нервной системы и не всегда располагая фактическими данными, относящимися к строению нервной системы, Ламарк строил догадки анатомического характера на основании хорошо изученных им функций нервной системы на различных стадиях ее усложнения. Исходя из руководящего принципа единства и взаимодействия органа и функции, Ламарк приходил к плодотворным гипотезам, находившим впоследствии экспериментальное подтверждение. К числу таких гипотез принадлежит и представление о едином очаге чувствительной системы (см. т. I, стр. 924, примечание 182). 452
56 Отказываясь признать существование материи, которой присуща способность чувствовать, Ламарк как будто вступает в противоречие с своими яге собственными — притом — первостепенного значения — исходными положениями, составляющими основу его мировоззрения как эволюциониста. В действительности противоречия здесь нет. Речь идет об отрицании Ламарком особой формы одушевленной материи, якобы обладающей свойствами, отличающими эту материю от всех прочих видов материи и не подчиняющейся общим законам природы. Весь пафос третьей части «Философии зоологии» и второй части «Аналитической системы» именно и заключается в утверждении существования психики, как свойства высокоорганизованной материи. Значит, примененное Ламарком выражение «материя, живая сама по себе», и отрицание существования подобной материи надо понимать не иначе, как нежелание следовать по пути витализма и психовитализма, как протест против всяческого обособления живого как «особого жизненного начала». В этом нас убеждает весь предшествующий ход {820} рассуждений Ламарка, его иронические замечания по адресу тех, кто предпочитает веру в чудесное упорному изучению природы, наконец, многократное подчеркивание непосредственной обусловленности психических явлений строением и функциями нервной системы. 454.
57 Настойчивость и уверенность, с какими Ламарк и в данном сочинении и в «Философии зоологии» отстаивает необходимость резко разграничивать ощущения и внутреннее чувство, заставляют думать, что размежеванию этих явлений Он придавал принципиальное значение. Между тем у Ламарка встречаются в ряде мест «Философии зоологии» указания на возможность возбуждения внутреннего чувства теми же внешними воздействиями, какими вызываются и ощущения. Ламарк по-своему нашел выход из этого противоречия, и это в тем большей степени должно быть признано его заслугой, что в его время знания об ощущениях были еще весьма ограниченными, ничего еще не было известно об ощущениях внутренних, классификация ощущений была слабо разработана, а вопрос о развитии ощущений в филогенезе и в онтогенезе еще не мог быть поставлен на научную почву. 454.
58 «В Аналитической системе» Ламарк впервые представил в виде наглядной классификации все многообразие явлений, относящихся к области чувства. Однако сделанные Ламарком пояснения к этой классификации не соответствуют предложенному им делению. Так, основное подразделение ощущений на специальные и общие не нашло отражения в классификационной схеме, в которой указаны две другие категории ощущений: 1) постоянные и 2) возникающие под влиянием обстоятельств. Поясняя, что надлежит разуметь под постоянными ощущениями, Ламарк прежде всего называет «чувство собственного существования». Между тем в «Философии зоологии» чувство существования рассматривается как внутреннее чувство, а не как ощущение. Таким образом, классификация явлений, обозначаемых общим понятием чувства, далеко не отличается стройностью и последовательностью, а главное — не соответствует делаемым в тексте разъяснениям. В «Философии зоологии» весь этот раздел был изложен и полнее и логичнее. 456.
59 Воспроизводя в этой главе «Аналитической системы») основные мысли соответствующего раздела третьей части «Философии зоологии», Ламарк почти целиком опустил всю общебиологическую и физиологическую часть (ощущения и нервная система, механизм ощущений, эволюция ощущений и т. п.) и ограничился в основном повторением своих соображений о характерных для ощущений движениях нервного флюида и об основном признаке ощущений: обязательности воздействия раздражителя на окончания первов для возникновения самого ощущения. По своим теоретическим истокам эта сторона учения Ламарка об ощущениях несет на себе печать прямого влияния сенсуалистов (Локк, Кондильяк, Кабанис и др.). Основная идея Ламарка, подчеркивающая воздействие объекта на органы чувств как источник ощущений, сближает его с теми {821} философами и учеными, которые решали основной вопрос о природе ощущений в материалистическом духе. 466.
60 О фантомной боли и объяснении этого явления см. т. I, стр. 925, примечание 185. 457.
61 Ламарк повторяет общепринятое деление ощущений, в основу которого положено существование пяти органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Последнее Ламарк считал первообразом всех ощущений, не требующим специального органа, и относил его поэтому к категории общих ощущений. 457.
62 Физиология начала XIX столетия не обладала надежными фактами о физико-химической стороне процессов, происходящих в органах чувств и в нервной системе при воздействии на них различных раздражителей. Ламарк пытался самостоятельным путем, привлекая те скудные сведения, которыми располагала наука его времени, объяснить с физико-химической точки зрения различия между зрением и слухом, с одной стороны, и обонянием и вкусом — с другой. Как ни фантастичны с современной точки зрения догадки Ламарка, все же нельзя не отдать должное его наблюдательности и упорному стремлению проникнуть в особенности той материальной среды, вне которой не мыслил возможности воздействия раздражителей на дистантные рецепторы. Смелые гипотезы, которые строил Ламарк, открывали путь будущим исследователям, и в этом их историческое значение. Некоторые из этих гипотез Ламарк впервые высказывает в данном сочинении (условия химической передачи возбуждения органам обоняния и вкуса и др.). 460.
63 В этом рассуждении Ламарка наглядно проявляется механистический характер его физиологических объяснений. Но для того времени, когда это писалось, такой путь изучения ощущений был плодотворным, так как он открывал хоть какую-то возможность установления связи между физическими и физиологическими явлениями, происходящими в процессе воздействия объекта на органы чувств. Именно на этом пути были впоследствии достигнуты значительные успехи в области психофизики (Вебер, Фехнер и др.), создавшей реальные возможности решения вопроса об измерении интенсивности ощущений,-— вопроса, тонко и вскользь затронутого Ламарком. Из сформулированной Ламарком в общих чертах идеи о перемене эмоционального знака ощущений при переходе от одной их интенсивности к другой можно заключить, что он ясно представлял себе то направление, по которому должна будет пойти наука для более точного изучения ощущений. Можно пожалеть, что Ламарк не подкрепил свои мысли фактами, которых у него, по его словам, было немало. Это позволило бы нам с большей уверенностью говорить о Ламарке, как об ученом, предвосхитившем работы в области психофизики. 462.
64 «Чувство собственного бытия», или «чувство существования», Ламарк в прежних своих работах рассматривал как одно из самых характерных проявлений {822} внутреннего чувства. В «Философии зоологии» глава о внутреннем чувстве открывается разделом «О чувстве существования». Примечательно, что доказывая принадлежность чувства существования к области внутреннего чувства, Ламарк в то же время не мог не видеть связи его с определенными ощущениями, возникающими в результате постоянного воздействия «жизненных движений на внутренние чувствительные части тела». По сути Ламарк тогда уже наметил контуры будущего учения о внутренних ощущениях, получившего лишь в самое последнее время, благодаря работам И. П. Павлова и его школы, четкое физиологическое объяснение и известного сейчас под названием учения об интерорецеп-ции. Но непоследовательность Ламарка и отсутствие у него прочных фактов помешали ему довести до логического конца эту мысль и, отклонившись в сторону общих рассуждений, он вступил на чуждый ему путь чисто словесных схем и классификаций. Можно, однако, думать, что новая редакция этого раздела в «Аналитической системе», в которой «чувство существования» отнесено к области ощущений, а не внутреннего чувства, вызвано было именно тем соображением, что в основе чувства существования лежат ощущения, возникающие при раздражении чувствительных окончаний внутрепних органов. Если это так, то следует признать новую трактовку этого вопроса шагом вперед по сравнению с трактовкой, данной в «Философии зоологии». Дальнейшие разъяснения Ламарка, уточняющие его мысль, не оставляют сомнений в том, что идея внутренних ощущений была Ламарку весьма близка (см. примечание 66). 463.
65 Эта заключительная фраза лишний раз убеждает в том, что Ламарк не считал смутное чувство существования отличным по своей природе от ощущений иного рода. Физическую, т. е. физиологическую, причину этого чувства он видел в возбуждении окончаний нервов, распространяющемся по определенным путям и вызывающем особое состояние всей чувствующей системы, субъективно выражающееся в смутном чувстве существования. 463.
66 Указание Ламарка на факторы, воздействие которых на внутренние органы причиняет «всевозможные неудобства или вред», свидетельствует о том, что ему присущ был более широкий взгляд на внутренние ощущения, что он ясно представлял себе многообразие порождающих их раздражителей и не ограничивал этого рода ощущения только «чувством существования». 464.
67 В системе психофизиологических взглядов Ламарка вопрос о внутреннем чувстве (термин, введенный Ламарком) занимает чуть ли не центральное место. В третьей части «Философии зоологии» ему посвящена пространная глава под названием «О внутреннем чувстве, его эмоциях и о приобретаемой им благодаря этим эмоциям способности производить действия». Сопоставляя эту главу с соответствующей главой «Аналитической системы», мы замечаем, что и здесь и там Ламарк затрагивает один и тот же круг вопросов и оставляет в почти неизмененном виде их трактовку. Единственное изменение, внесенное Ламарком, заключается в указании на двойственную природу чувства существования. Чувство {823} это рассматривалось в предыдущей главе как ощущение, а в этой главе — как внутреннее чувство. В примечании 63 разъяснялась возможная причина такой нечеткости и противоречивости. В дополнение к этому примечанию можно было бы высказать предположение, что сам Ламарк не видел в этом никакого противоречия. Можно предположить также, что на процессы воздействия на нервные окончания внутренних органов Ламарк смотрел лишь как на толчок к возбуждению внутреннего чувства, а не как на его причину. Во всяком случае, несомненно одно: внутреннее чувство — это, по Ламарку, не мистическое явление, возникающее само собой, спонтанно. Это реакция организма на определенные раздражения, реакция, более сложная, чем элементарное ощущение. В такой точке зрения нет ничего, что давало бы основание приписывать Ламарку взгляд на особую внутреннюю силу, как на фактор развития,— взгляд, широко пропагандировавшийся дсихоламаркистами. 466.
68 Возможность непосредственного возбуждения общего очага ощущений минуя периферические нервные окончания не только не оспаривается современной физиологией, но признается совершенно реальным фактом, получающим объяснение в учении И. П. Павлова о центральном раздражении, в котором он разъясняет, как кинестетическая клетка, раздражаемая не с периферии, а центрально, приводит в деятельное состояние двигательный аппарат. (См. статью И. П. Павлова «Физиологический механизм так называемых произвольных движений».— Полное собрание трудов, т.III, стр. 554). При учете явления центрального раздражения получает физиологическое объяснение влияние представлений на движения (так называемые идеомоторные акты), обычно трактовавшееся идеалистами как «влияние души на тело». Как известно, Ламарка и сторонники материализма обвиняли в том, что он допускает спонтанное действие внутренних сил, враги же материализма с готовностью отстаивали принцип спонтанности, опираясь на Ламарка. В действительности обвинения одних и похвала других основаны на ложном понимании сущности учения Ламарка. В том, как Ламарк разъяснял свой взгляд на внутреннее чувство, при многих недомолвках и противоречиях, не только нельзя усмотреть веру в таинственные внутренние силы, а скорее можно видеть предвосхищение выяснившихся лишь в недавнее время механизмов высшей нервной деятельности, в частности — механизма центрального раздражения. 466.
69 В свете разъяснений, сделанных в предыдущем примечании, становится понятным, почему и в каком смысле Ламарк смотрел на внутреннее чувство, как на «единственный двигатель всех действий человека и животных». Своеобразная форма, в которую Ламарк облекал свои мысли, и новизна введенной им терминологии в значительной степени повинны в неправильном понимании, а нередко и в извращении его идей. Исходным понятием для Ламарка служит понятие потребности, но от потребности к действию нет непосредственного перехода, а он опосредован внутренним чувством, т. е. почувствованной или {824} испытанной потребностью. Лишь когда потребность становится ощущением или чувством, она дает толчок к действиям. В таком взгляде ничего противоречащего материализму нет. 467.
70 Трактовка механизма сновидений принадлежит к наиболее ярким страницам психофизиологических работ Ламарка. Поражает точность в описании характерных для спа физиологических процессов: непроизвольного оживления следов, оставленных впечатлениями прошлого, беспорядочного течения воскресших образов и т. п. 468.
71 В начале главы о внутреннем чувстве Ламарк обронил замечание о близости этого чувства к сознанию бытия, к «я» индивидуума. Поясняя эту мысль, Ламарк подчеркнул, что внутреннее чувство свойственно лишь тем животным, которые обладают способностью мыслить. Таким образом, в понимании Ламарка внутреннее чувство какими-то своими гранями соприкасается с высшими психическими функциями, подчиняющими себе все прочие функции организма и регулирующими все стороны поведения. Такая же трактовка внутреннего чувства дана и в том месте «Философии зоологии», на которое ссылается здесь Ламарк. В свете такого понимания внутреннего чувства становится ясной мысль Ламарка, изложенная в соответствующем месте «Философии зоологии». Частично подавленное или скованное в своих функциях внутреннее чувство лишается регулирующей функции. Следствием этого могут быть сповидные состояпия, со всеми сопровождающими их беспорядочными потоками образов, картин, мыслей, воспоминаний, фантастических сплетений, некогда воспринятых впечатлений и т. д. Если перевести описание этих состояний, сделанное Ламарком, на язык современной физиологии, то поражающим окажется сходство симптомов подавления внутреннего чувства и торможения подкорковых функций, этом, по выражению И. П. Павлова, «фонде основных внешних жизнедеятельностей организма». Если не считаться с расплывчатостью и широтой введенного Ламарком понятия «внутреннее чувство», то приходится признать, что анализ сложных проявлений и механизмов нервной деятельности сделан Ламарком, для своего времени, исключительно верно. Это особенно относится к описанию механизма подавления (или тормошения) основной системы, которую Ламарк называл внутренним чувством. 468.
72 Ламарк снова возвращается к уже затронутому им вопросу о связи между ощущепием и внутренним чувством. Сделанные им здесь дополнительные разъяснения помогают лучше понять, в чем Ламарк видел общие признаки и в чем усматривал различия между ощущением и внутренним чувством. Разъяснения эти подтверждают справедливость сделанного нами в примечании 67 вывода о том, что Ламарк своим путем дошел до мысли о возможности непосредственного возбуждения общего или центрального очага ощущений и правильно описал характерные для этого состояния явления. 469.
73 Это место легче уяснить, если принять во внимание, что различия в {825} ощущениях легче замечаются, чем само ощущение. Возможно, Ламарк имел в виду распространить эту особенность ощущений также и на внутреннее чувство. Мысль Ламарка об отличии чувства бытия от внутреннего чувства (непрерывность одного и эпизодичность другого в сознании) после сделанного им в начале главы определения этих понятий, хотя и звучит противоречиво и как будто затемняет вопрос, заключает в себе зерно истины и согласуется с новейшими данными по этому вопросу. 469.
74 Более подробно вопрос о силе, сообщающей животным способность к действию, освещен в третьей части «Философии зологии». В «Аналитической системе» опущены чрезвычайно существенные факты из области сравнительной зоологии, привлеченные Ламарком для обоснования главной идеи этого раздела. В то же время Ламарк обстоятельнее и глубже вскрыл в «Аналитической системе» понятие «почувствованной потребности». 470.
75 Волевые акты, по Ламарку, всегда возникают из суждений. Действия же инстинктивные, противопоставляемые волевым, возникают из внутреннего чувства. Этого старого традиционного деления действий на разумно-волевые и на инстинктивные, сохранившегося в психофизиологии и по сей день, придерживался и Ламарк. Но, стремясь обосновать его естественнонаучными данными, Ламарк вводит в качестве источника действий «почувствованную потребность», доказывая, что потребность эта может возникать двумя путями: либо непосредственно от внутреннего чувства, либо в результате умственного акта. Сложное, запутанное, несколько противоречивое объяснение Ламарком связи между потребностью, чувством и дейс1вием легко расшифровывается и становится вполне логичным, если представить эту связь, как подчиняющуюся принципу взаимодействия: смутное внутреннее чувство возбуждает потребность, почувствованная потребность делает более отчетливым внутреннее чувство и вызывает соответствующую эмоцию внутреннего чувства, дающую толчок к определенным действиям. Важно подчеркнуть, что Ламарк не довольствовался гомой схемой, а пытался наметить гипотезу о физиологических механизмах как сознательно-волевых, так и инстинктивных действий. В его объяснениях содержится, по существу, много верных, хотя и туманно сформулированных, мыслей. 471.
76 Изменения, внесенные Ламарком в «Аналитической системе» в трактовку проблемы эмоций, выразились в устранении таких терминов, как «физические» и «умственные эмоции», и в более сдержанном и строгом изложении предмета — без отвлечений в сторону и широких ассоциаций, изобиловавших в соответствующей главе «Философии зоологии». Эмоция у Ламарка,— не синоним чувства, это скорее чувство в динамике, т.е. чувство вместе с заключенным в нем импульсом к действию. 472.
77 Выражение «не могут быть сообщены им извне» следует понимать не в смысле отрицания внешнего источника возбуждения. Ламарк хорошо понимал {826} и много раз подчеркивал значение внешних раздражений, но он отказывался видеть в них род энергетического заряда, количественно и качественно эквивалентного ответному движению. Для Ламарка раздражитель — это толчок извне (или изнутри), вызывающий сложный процесс нервного возбуждения, завершающегося определенными движениями и действиями. В этом процессе нервного возбуждения решающую роль играет чувствительность, как основная предпосылка возбуждения, далее — эмоция, стимулируемая потребностью, наконец,— сила, производящая действие. Ламарк был противником того взгляда, что силе раздражения соответствует и сила ответного действия. Ламарк сумел по-своему, т. е. на уровне физиологических знаний его времени, дать правдоподобное обьяснение таким фактам, как появление бурного и сильного двигательного разряда в ответ на слабое раздражение. В существе своем это обьяснение близко к той трактовке этого явления, которое впервые дано было в яркой и физиологически убедительной форме И. М. Сеченовым, специально разобравшим этого рода случаи в «Рефлексах головного мозга» (см. И.М.Сеченов. Избранные произведения, т. I. M., 1952). 473.
78 Противопоставляя животных, лишенных чувствительности, животным, обладающим способностью чувствовать, и подчеркивая различие в «возбуждающей причине» движений у тех и у других, Ламарк как бы становится на путь умаления роли внешних раздражителей для чувствующих животных. В действительности Ламарк хочет подчеркнуть, что непосредственной причиной, возбуждающей действия у этих животных, служит «почувствованная потребность», ни в малой степени не отвергая при этом необходимости определенного внешнего или внутреннего раздражения. Такая позиция вполне согласуется с современными материалистическими воззрениями на действия животных.
Характерна также позиция Ламарка в вопросе о внутренних раздражителях. С точки зрения физиологии сегодняшнего дня нет никаких принципиальных различий между внешними и внутренними раздражителями. Воздействие последних на нервные окончания внутренних органов играет по отношению к психической деятельности роль внешнего раздражения. Расплывчатый и неотчетливый способ изложения Ламарком своих представлений по этому вопросу не должен служить помехой для правильного его понимания. Никакой надчувственной или сверхчувственной внутренней силы, возбуждающей действия, Ламарк не признает. В этом основной смысл его учения о чувствительности. Известно, что вопрос о внешних и внутренних раздражителях далеко не сразу приобрел ту ясность, какую внесли в него И. М. Сеченов и последующий павловский этап развития физиологии.Примечательно,однако,что Сеченов не избежал резких нападок за допущение им существования внутренних раздражителей. С суровой критикой за это «отступление от материализма» обрушился на Сеченова передовой орган 60-х годов журнал «Русское слово», в лице В. А. Зайцева, ближайшего сотрудника Д. И. Писарева. Разгоревшаяся в 60-е годы вокруг вопроса о {827} внешних и внутренних раздражителях полемика, в которой принял участие журнал «Современник» (статья Антоновича), свидетельствует о том, что для материалистического естествознания далеко не сразу определились все стороны сложной проблемы внешнего и внутреннего — в связи с воздействием среды на организм (см. «Русское слово», 1864, декабрь и «Современник», 1865, февраль).
К чести Ламарка надо сказать, что уже в начале XIX столетия он занял в этом вопросе четкую материалистическую позицию и далеко опередил свое время в понимании тонких взаимоотношений между внешним и внутренним как в теоретико-познавательном, так и в чисто физиологическом плане. 473.
79 Ламарк применяет понятие «склонность» в том неопределенном значении, в каком оно употреблялось в психологии того времени и в каком оно почти без изменений применяется и в современной психологии. Это — не столько научное, сколько житейское понятие. Подразделение склонностей на общие и специальные (точнее — индивидуальные) носит у Ламарка чисто эмпирический характер. Ламарк сделал попытку проанализировать и те и другие склонности с естественнонаучной точки зрения, по дальше описательных характеристик он не пошел. Мысль Ламарка о неспособности человека преодолеть общие склонности можно понять только в том смысле, что общие склонности действуют с силой непреодолимых инстинктов, например инстинктов самосохранения. В «Философии зоологии» Ламарк в большей степени связывает склонности с потребностями и инстинктами. От этой линии он отступил в «Аналитической системе», рассматривая склонности и инстинкты как два ряда явлений и видя общий их признак лишь в их отнесенности к внутреннему чувству. 475.
80 В отличие от прежних работ Ламарка, «Аналитическая система» характеризуется значительным отрывом психологических взглядов Ламарка от его общебиологических позиций. Отсюда — обилие общих рассуждений, потерявших в наше время научное значение. К такого рода рассуждениям относятся и данные высказывания Ламарка об общих и специальных склонностях. 476.
81 В этих взглядах чувствуется влияние идей Руссо, под влиянием которого складывалось мировоззрение Ламарка. 477.
82 Отступление Ламарка от эволюционного принципа при рассмотрении проблемы склонностей не могло не сказаться на разработанной им классификации склонностей, лишенной научного обоснования и значения. Современному читателю очень трудно будет понять разницу между инстинктом самосохранения и склонностью к самосохранению. То же относится к страху. 479.
83 Все рассуждение о склонности к самосохранению подтверждает справедливость предыдущего примечания о полной немотивированности разграничения и одновременно сближения склонностей и инстинктов. 480.
84 Пример неправомерного перенесения понятий из наук естественных в область социальной жизни человека. 480.
85 Подойдя вплотную к важному вопросу о связи склонности и инстинкта, {828} Ламарк ограничился лишь указанием на существование такой связи, не подвергнув проблему в целом никакому анализу. 481.
86 В решении проблемы человеческого характера и отличительных его свойств Ламарк допускает типичную для натуралистов XVIII столетия погрешность, выводя такие качества, как тщеславие, гордость, зависть и т. п. из природных свойств человека и ошибочно биологизируя социальные особенности человека. В изложении этого раздела Ламарку не пришлось проявить ни одной, черты своего сильного аналитического ума. 482.
87 Почва все больше и больше ускользает из-под ног Ламарка, и его попыт ки подойти к вопросам происхождения идеологии и мировоззрения с естественно-научной, биологической точки зрения выглядят как крайне наивные и беспомощные. 483.
88 Ламарк приписывает биологической природе человека черты, целиком детерминированные общественно-историческими условиями жизни. 486.
89 В этих словах слышится отзвук печальных размышлений Ламарка о собственной жизни, принесшей ему, наряду с радостями творческого труда, слишком много незаслуженных страданий. 486.
90 Об отношении Ламарка к религии см. примечания 84 и 95 к «Введению» и примечание 2 к «Системе». 487.
91 Здесь взгляды Ламарка на природу инстинкта раскрыты полнее, чем в других сочинениях, в частности — в третьей части «Философии зоологии», где этой проблеме посвящена небольшая глава. В прежних высказываниях Ламарка инстинкт связывался с внутренним чувством, а не с физическими чувствованиями, т. е. не с воздействием на органы чувств. Правда, в «Философии зоологии» Ламарк, возражая Ришерану и Кабанису, указывал на возможность возбуждения ипстинктивного акта внешним раздражением. Однако характерную особенность инстинкта Ламарк видит не в первом толчке к действию, а во влиянии этого толчка на внутреннее чувство. Вот почему Ламарк оспаривал мнение Кабаниса, утверждавшего, что инстинктивное действие рождается только из внутренних впечатлений, а рассудочный акт — только из внешних. По Ламарку, внутреннее чувство может возбуждаться двумя путями: 1) непосредственно почувствованной потребностью, порожденной внутренними раздражителями, и 2) опосредствованно — актами разума. Касаясь вопроса о происхождении инстинкта, Ламарк подчеркивал, что корни инстинкта заложены в самой организации (в смысле организма), но сама организация, по Ламарку, прошла долгий путь развития, прежде чем сформировалась в благоприятном для сохранения и поддержании жизни направлении. Решающими факторами такого формирования являются потребности, упражнения и привычки. Такой взгляд на инстинкты сближает позицию Ламарка с позицией Дарвина, который считал, что инстинктивные действия — продукт развития, что в ходе естественного отбора и приспособления к окружающим условиям у животных вырабатывались {829} те свойства, которые впоследствии наследственно закреплялись и приобретали характер инстинктов. Нелишне заметить, что такая точка зрения на инстинкт не противоречит и новейшей физиологии,оплодотворенной учением И. П. Павлова. Нельзя считать опровергнутым предположение, что инстинкты, как «сложнейшие безусловные рефлексы», могли возникнуть и развиться на базе условных рефлексов, некогда вырабатывавшихся в ходе филогенетического развития. 489.
92 Если в прежних работах Ламарк не выходил за рамки чисто биологической трактовки понятия «потребность», то в «Аналитической системе» он не удержался в этих границах и допустил чрезмерное расширение этого понятия. Тем самым оказалась нарушенной стройность эволюционного учения Ламарка о развитии сложных мотивов поведения из более элементарных потребностей. Разграничение трех родов потребностей, проводимое Ламарком без указания на связь между ними, приводит к обособлению потребностей высшего порядка и затемняет основную идею развития, столь убедительно и настойчиво отстаиваемую Ламарком в других сочинениях. Вопрос о связи высших, или духовных потребностей с потребностями, относящимися к области ощущений и чувств, получает у Ламарка частичное и недостаточно аргументированное объяснение в указании на то, что умственная деятельность осуществляется не иначе, как через внутренпео чувство. 491.
93 В этом стремлении Ламарка провести резкую грань между явлениями, на самом деле тесно связанными между собой, проявляется своеобразная черта его мышления, наложившая отпечаток на всю систему психофизиологических воззрений Ламарка. 492.
94 Верное наблюдение Ламарка о неподконтрольности инстинктивных действий разуму и воле привело его к неправильному обобщению, будто все действия, носящие непреднамеренный характер и не подчиняющиеся разуму и воле, относятся к категории инстинктивных действий. В согласии с данными современной науки это положение опровергается тем, что мпогие так называемые автоматические действия (например, действия, совершающиеся под гипнозом или внушением, в состояпии сна, по привычке и т. п.) отнюдь не причисляются к инстинктам. Это обстоятельство не снижает ценности замечательных наблюдений Ламарка и особенно тех точных описаний инстинктивных действий, которыми изобилует его последний труд. 494.
95 Из этого абзаца с логической необходимостью следует, что Ламарк считал исходной органической предпосылкой инстинктивных действий наличие чувствительности и способности ощущения, а внутреннее чувство рассматривал как обязательную передаточную инстанцию, через которую ощущение только и может вызвать возбуждение всей нервной системы и тем обусловить немедленные действия. Ламарк был сам настолько увлечен открывшейся ему идеей внутреннего чувства, что нередко допускал искусственное отграничение {830} этого чувства от ощущений. Комментируемое место вносит значительную ясность в точку зрения Ламарка на механизм инстинктивных действий. 495.
96 Смутный, неотчетливый характер некоторых ощущений, особенно внутренних, не раз описывался в литературе, но почти не встречается попыток дать объяснение этому явлению. Вскользь высказанное Ламарком тонкое соображение заслуживает внимания. Оно наталкивает на предположение, что причина «смутности» этого рода ощущений заключается в том, что они не локализованы, что человек испытывает их «во всем своем существе». Такое предположение нуждается, разумеется, в проверке, но оно весьма правдоподобно. 497.
97 Уже в «Философии зоологии» бросается в глаза крупный пробел в психофизиологических воззрениях Ламарка, заключающийся в том, что глава о движениях и действиях по сравнению с другими главами недостаточно разработана. Странным образом идея рефлекса, провозглашенная еще Декартом, не была подхвачена Ламарком и прошла мимо его внимания, хотя он своим особым путем весьма близко к ней подходил.
Многократные утверждения Ламарка о том, что ощущение само по себе не может вызвать действия, что для этого требуется возбуждение внутреннего чувства, воспринимаются современным физиологом, который не в состоянии сделать ни одного шага без понятия рефлекса, как плод заблуждения. Такому физиологу приходится преодолеть большое внутреннее сопротивление, чтоб из-за этой формулировки Ламарка не отвергнуть психофизиологическую концепцию Ламарка в целом. Современный физиолог хорошо помнит, что единство сенсорно-моторного акта, в котором находит свое выражение принцип рефлекторной дуги, проходит красной нитью через труды И. М. Сеченова. У Ламарка же переход от ощущения к движению опосредствован внутренним чувством. В чем причина такого игнорирования Ламарком простой и понятной идеи рефлекса? Если вдуматься в действительный смысл взгляда Ламарка на проблему связи ощущений и движений, то станет понятным, почему Ламарку понадобилось прибегнуть к понятию силы, производящей движения и действия, и искать источник этой силы во внутреннем чувстве. Как материалист механистического толка, Ламарк стремился найти физические и физиологические причины чувств, действий, разумных актов (вспомним заглавие третьей части «Философии зоологии»). Он не мог довольствоваться указанием на то, что ощущение влечет за собой движение, не разобравшись в самом процессе перехода от ощущения к движению. Ламарк пытался проникнуть в самые глубины этого процесса и дать наглядную схему, объясняющую самый механизм ощущения и его последствий. Он хотел соединить понятной механической и физиологической связью все последовательные звенья того акта, который начинается с ощущения и заканчивается движением. Вопросы, перед которыми и современная физиология останавливается, как перед самыми трудными (природа нервного возбуждения, физико-химические процессы, связанные с {831} распространением нервного возбуждения, сущность ощущения и т. п.), не смутили пытливый ум Ламарка. Если наука его времени не давала готовых ответов на эти вопросы, он сам брался за их решение. Естественно, что на этом пути его ожидали, наряду с ценными догадками, ташке и ошибки и заблуждения. Он не без гордости заявляет, что ему принадлежит важнейшее открытие, а именно — открытие внутреннего чувства. Введя это понятие, он действительно сумел построить синтетическое представление о механизме всех важнейших процессов, характеризующих психическую деятельность. Он соорудил стройное здание, во многих отношениях опередив свое время. Но, принужденный восполнять пробелы знаний своей эпохи искусственными построениями, Ламарк подчас принимал свои общие идеи за отображение реальных явлений, и — враг бесплодного воображения — он сам подчас становился его жертвой. Эта двойственность Ламарка, как естествоиспытателя, доверяющего только наблюдению и фактам, и как ученого и философа, мечтавшего представить весь органический мир в виде стройной системы, сказалась и на трактовке Ламарком фундаментального вопроса психофизиологии—о связи ощущений и движений, о механизме перехода от одних к другим. 497.
98 Чтобы лучше понять основную идею главы об инстинктах, необходимо обратить особое внимание на это место. По мысли Ламарка, без внутреннего чувства невозможно осуществление ни разумно-волевых, ни инстинктивных актов. Но в то время как инстинкты возникают в результате непосредственного возбуждения внутреннего чувства, акты разума и воли суть следствия опосредованного возбуждения этого чувства. Именно поэтому, при совершении разумных действий импульсы, идущие от внутреннего чувства, могут и подавляться и регулироваться. Такая регуляция доступна только человеку. В этих взглядах Ламарка мы видим своеобразную трактовку физиологической проблемы большого значения, лишь в наше время получившей ясное решение и известной под наименованием проблемы взаимоотношения корковых и подкорковых процессов. 499.
99 В «Философии зоологии» вопрос о роли фактора упражнения в инстинктивных действиях разрешался в том смысле, что само инстинктивное действие возникло в результате привычки упражнять тот или другой орган, или ту или иную часть тела, для удовлетворения определенных повторяющихся потребностей. Ламарк считал, что инстинкт — это приобретенная привычка, которая становится неотъемлемым природным свойством, не поддающимся изменению. В вопросе об изменчивости инстинктов Ламарк, таким образом, занял позицию, несколько отличающуюся от той, которую впоследствии занял Дарвин. Но в более «крупном плане» Ламарк, будучи эволюционистом, не мог не признавать изменения привычек, а следовательно, и инстинктов. 499.
100 Мы уже видели, что в главе о склонностях Ламарк нечетко определил различие между склонностью и инстинктом. Странным образом глава об инстинктах {832} не предваряет у Ламарка главу о склонностях, что было бы понятнее и логичнее, если стоять на эволюционной точке зрения; наоборот, анализ склонностей предваряет анализ инстинктов. Между тем в «Философии зоологии» Ламарк, определяя понятие инстинкта, указывал, что инстинкт животных — это склонпость, вызываемая ощущениями на основе возникших потребностей и понуждающая к выполнению действий без всякого участия мысли, без всякого участия воли. Таким образом, приходится признать, что Ламарку не удалось внести ясность в вопрос о склонностях, особенно в вопрос о связи склонностей и инстинктов. То обстоятельство, что склонности, по Ламарку, в своих проявлениях могут достигать различных степеней силы, едва ли может считаться отличительным признаком одних только склонностей. Ламарк не объяснил, почему он отвергает возможность различий в степени интенсивности инстинктивных действий. 499.
101 Ламарк говорит здесь о своей статье «Homme», напечатанной в уже неоднократно упоминавшемся «Новом словаре» Детервилля (т. XV, стр. 270— 276, 1817). 501.
102 Это место вызывает недоумение, так как Ламарк не приводит ни одного нового довода в доказательство отличия между склонностью к самосохранению и инстинктом самосохранения. 502.
103 При верности чисто описательной характеристики особых чувств, утверждение Ламарка о том, что эти чувства (особенно — специфические для человека социальные чувства) имеют своей причиной внутренние чувства, носит бездоказательный характер. Характерно, что в других сочинениях Ламарк подчеркивает двойственную природу этих чувств и их большую зависимость от внешних воздействий и условий воспитания. Показательно также, что Дарвин в книге «Выражение эмоций у человека и животных» также разграничивает чувства природные и чувства приобретенные. Понятно, почему введенное Ламарком понятие «особых чувств», в том широком"значении, в каком он его трактовал, не могло удержаться в науке вследствие его искусственности. Впрочем надо сказать, что вся эта область остается и по сей день недостаточно разработанной. 503.
104 Ламарк частью повторяет, частью дополняет новыми соображениями свои критические замечания по адресу Кабаниса и его взглядов на природу инстинкта. В «Философии зоологии» возражения Ламарканаправлены были против мнения Кабаниса о зависимости инстинкта от одних только внутренних впечатлений. Аргументы Ламарка звучали сильно и убедительно (см. т. I, стр. 941, примечание 248). Здесь Ламарк выдвигает другие возражения, приписывая слабые стороны учения Кабаниса об инстинктах тому, что Кабанис не подозревал о существовании внутреннего чувства. Нетрудно видеть, что в «Аналитической системе» Ламарк выдвигает против Кабаниса менее убедительные доводы и даже отчасти противоречит тому, что он писал в «Философии зоологии». {833}
О Галлере и его учении о раздражимости и чувствительности, см. т. I, стр. 883, примечание 7. 504.
105 В «Аналитической системе» Ламарк несколько изменил композицию соответствующего раздела «Философии зоологии»: он начал с изложения содержания главы VIII (в «Философии зоологии» названной «О главных умственных актах, или актах первого порядка, от которых происходят все остальные») и лишь затем перешел к содержанию главыУП (в «Философии зоологии» названной «Об уме, его происхождении и о происхождении представлений»). Такая перестановка нарушила последовательность, которой он придерживался и которая хорошо отражала ход развития идей Ламарка, как эволюциониста. Будучи сенсуалистом, Ламарк отправлялся от локковской формулы: «Nihil est in intellectu, quod поп fuerit in sensu» и доказывал в «Философии зоологии», что корни представлений, понятий, разумных актов, суждений, воображения и т. п. надо искать в чувственном опыте, строющемся на базе ощущений. Уже сам по себе такой путь анализа умственной деятельности гармонировал с центральной идеей третьей части «Философии зоологии» и служил лучшим доказательством и в то же время выражением материалистического характера психофизиологических воззрений Ламарка. В «Аналитической системе» Ламарк отступил от этого пути и начал главу с рассуждений о способностях ума, упустив те замечательные страницы из «Философии зоологии», в которых дан был яркий очерк происхождения разума, анализ его биологических основ и т. д. Как и другие разделы «Аналитической еистемы», этот раздел проигрывает, по сравнению с первой редакцией, представленной в «Философии зоологии». 505.
106 Перечень способностей ума или основных функций органа ума воспроизводит классификацию, данную в «Философии зоологии», не текстуально, а в новых формулировках и понятиях. Напоминаем перечень актов умственной деятельности из «Философии зоологии»:
1) Акт, составляющий внимание.
2) Акт, дающий место мысли, от которой рождаются сложные представления всех порядков.
3) Акт, вызывающий ранее приобретенные представления и носящий название воспоминания или памяти.
4) Наконец, акт, составляющий суждения.
В «Философии зоологии» содержится также объяснение мотивов, побудивших Ламарка ограничиться этими четырьмя актами и не включать в перечень такие качества, как воля, желание и ощущение. 506.
107 Глава о внимании, на которую ссылается Ламарк, принадлежит к наиболее ярким и сохранившим во многом свое значение разделам главы VIII третьей части «Философии зоологии». Этот раздел Ламарк в основном воспроизводит в сокращенном виде в «Аналитической системе». 507.
108 речь идет о статье «Idee» в т. XVI «Нового словаря» Детервилля. В главе {834} VII третьей части «Философии зоологии» Л амарк подробно развивает свои взгляды на сущность и происхождение представлений, разъясняет, что он разумеет под простыми, что под сложными представлениями, подвергает их подробному анализу и т. п. Все это изложено не в связи с анализом второй способности — ума, как это сделано почему-то в «Аналитической системе», а значительно обстоятельнее, в предваряющей эту проблему главе, посвященной вопросу происхождения ума (в «Аналитической системе» вопросу этому частично посвящена глава I третьего раздела). Что касается второй способности — ума, то в «Философии зоологии» она обозначена как способность мышления, и изложение этого предмета не совпадает с тем, что сказано о второй способности в «Аналитической системе». 508.
109 Изложение взглядов Ламарка на память (третья основная умственная способность) в «Аналитической системе» мало чем отличается от изложения этого предмета в «Философии зоологии». Как и глава о внимании, это одна из лучших глав психофизиологического учения Ламарка (см. т. I, стр. 939, примечание 245). 510.
110 Ламарк говорит здесь о своей статье «Imagination», напечатанной. в «Новом словаре» Детервилля (т. XVI, стр. 126—132, 1817). 511.
111 Анализом процессов суждения (четвертой основной умственной способности) Ламарк заканчивает третью часть «Философии зоологии». Что касается «Аналитической системы», то Ламарк дважды затрагивает эти вопросы, частью воспроизводя сказанное в «Философии зоологии», частью расширив этот раздел за счет повторений и малозначащих дополнений. 517.
112 Ламарк говорит здесь о своих статьях, напечатанных в «Новом словаре» Детервилля,— «Jugement» (т. XVI, стр. 570—579, 1817) и «Idee» (т. XVI, стр. 19—94, 1817). 518.
113 Нам не приходится доказывать, что все эти рассуждения Ламарка могут быть в известной мере применимы только к обществу, где господствует эксплуатация одних людей другими. 524.
114 Ламарк, как материалист, критикует идеалистическое представление о врожденных идеях, т. е. об идеях, якобы независимо от опыта изначально присущих человеку. Это представление неоднократно развивалось различными философами (Платон, Декарт и др.). 530.
115 Этот абзац представляет большой интерес. Ламарк утверждает, что мозг большинства людей принципиально одинаково способен к развитию, и большие различия в умственном уровне зависят от причин социального характера, от разной степени упражнения умственных способностей и т. д. В этой связи Ламарк упоминает имена выдающихся мыслителей: М. Монтеня (1533—1592) — французского философа периода Возрождения, ожесточенного врага теологии и схоластики, Фр. Бэкона (1561—1626) — великого английского философа-материалиста, Ш. Л. Монтескье (1689—1755) — чрезвычайно популярного {835} в XVIII в. французского просветителя-социолога, Ф. Фенелона (1651—1715) — французского писателя и педагога, одного из предшественников эпохи просвещения, и Ф. М. А. Вольтера (1694—1778) — виднейшего и влиятельного французского философа-просветителя и писателя. 536.
116 Нетрудно заметить, что все предыдущие высказывания Ламарка (кстати сказать, более детализированные по сравнению с «Философией зоологии») о суждениях, о причинах ошибочных суждений, об истинности суждений и т. д. в философском отношении являются неприемлемыми, ибо они грешат односторонним, узкобиологическим подходом к вопросам, по существу социального порядка. Не выдерживает критики и проводимое Ламарком отождествление психологии и идеологии. Далеко не ясно ставит Ламарк тот вопрос, который мы бы назвали вопросом о соотношении относительной и абсолютной истины. На это мы обращали внимание и в других местах (см. т. I, стр. 941—942, примечания 252, 253, 254, 255 и примечание 17 к «Системе»). 557.
117 В «Философии зоологии» воображению был посвящен небольшой раздел VIII главы. В «Аналитической системе» вопрос о воображении освещен более подробно, но не за счет обогащения его новыми мыслями, а главным образом за счет новых вариантов уже прежде высказанных положений. Этими вариантами являются выдержки из других работ Ламарка, которыми он дополняет основной материал. 561.
118 См. примечание 35 к «Системе». 567.
| {836} |

Составил И.М.Поляков
1 Центральная библиотека Национального музея естественной истории (Париж) хранит рукописи Ламарка. Благодаря исключительной любезности администрации Музея, о чем мы писали в предисловии к этому тому, нам удалось получить фотокопии нескольких заинтересовавших нас рукописей.
Некоторые из рукописей, хранящихся в Музее, были целиком или частично использованы Ламарком при публикации его работ (так, например, они вошли в качестве отдельных разделов в «Философию зоологии»). Другие работы Ламарка так и остались в виде рукописей и нигде и никогда не публиковались. Среди заинтересовавших нас рукописей были три «Вступительные лекции к курсу зоологии». Напомним, что в первом томе настоящего издания опубликованы четыре вступительные лекции, относящиеся к 1800, 1802, 1803 и 1806 гг., т. е. к годам, предшествовавшим выходу в свет «Философии зоологии». Три неизданные вступительные лекции, по справке библиотеки Музея (где они хранятся под номером Ms-742), относятся к 1809, 1813 и 1814 гг. Из этих трех лекций одна, а именно лекция 1809 г., представляет, согласно справке Музея, лишь вариант лекции 1806 г. Нас заинтересовали две другие лекции, которые, по сообщению библиотеки Музея, не издавались. Рассмотрение одной из них — лекции 1814 г. — показало, что текст этот целиком был использован Ламарком во «Введении» к «Естественной истории беспозвоночных животных», опубликованном в этом томе нашего издания. Сорок страничек этой рукописи соответствуют вступительной части «Введения», занимающей в первом издании (вышедшем в 1815 г.) стр. 1—27, и предпосланной первой части «Введения».
При сопоставлении оказалось, что материал рукописи дословно воспроизведен во вступительной части. Исключение составляют стр. 21 рукописи, {837} в сущности повторяющая предыдущие рассуждения, а также две заключительные странички, в которых Ламарк сообщает слушателям о плане лекций. Эти две странички заменены в тексте вступительной части «Введения» изложением плана семи частей книги. В связи с этим мы сочли нецелесообразным публиковать отдельно лекцию 1814 г.
Иначе обстоял вопрос с публикацией рукописи вступительной лекции, фотокопия которой была прислана нам с пометкой, что лекция относится к 1813 г. Мы публикуем эту лекцию как «Вступительную лекцию к курсу 1816 г.». Дело в том, что на первой титульной страничке этой рукописи рукой Ламарка написано «Вступительпая лекция к курсу 1813 г., долженствующая служить началом к Введению». Эта надпись перечеркнута, и несколько ниже рукой Ламарка написано «Вступительпая лекция к курсу 1816 г.». В самом тексте этой лекции мы найдем прямые ссылки Ламарка на «Введение» к «Естественной истории беспозвоночных животных», вышедшее в 1815 г. Так, он пишет: «Изложив во «Введении» к моей «Естественной истории беспозвоночных животных», первые томы которой теперь выходят...» и т. д. Это не оставляет сомнения в том, что данная лекция относится к 1816 г.
А как же обстоит дело с лекцией 1813 года? Анализ рукописи создал у нас впечатление, что Ламарк частично использовал рукописный текст своей лекции 1813 г. при подготовке лекции 1816 г.
Текст рукописи занимает 29 страниц (включая титульную), исписанных характерным почерком Ламарка, с рядом помарок, исправлений, вставок и вычеркиваний. Мы даем перевод этой рукописи целиком, исключив несколько абзацев, вычеркнутых Ламарком. Лекция эта представляет большой интерес. Ламарк излагает в ней, в сжатой форме, но с большой выразительностью, свои общебиологические концепции. Ламарк говорит здесь и о трудности предпринятого им труда — «поднять целину», как он выразился, в деле надлежащего и последовательного изучения природы. 573.
2 «Музей естественной истории» был учрежден (па основе реорганизации Королевского ботанического сада в Париже) решением революционного Национального конвента от 10 июня 1793 г. Как известно, Ламарку было предложено организовать и'возглавить в Музее кафедру зоологиибеспозвоночнхживотных, В списке персонала Музея за 1794 г. его должность обозначена следующим образом: «профессор зоологии насекомых, червей и микроскопических животных». Ламарк принимал активное участие в жизни Музея. В 1793 г. ему было поручено вместе с Фуркруа организовать библиотеку Музея, в 1795 г. он был секретарем ассамблеи (совета) профессоров Музея, в 1796 г. был избран «директором ассамблеи профессоров», в 1802 г. он впервые избран казначеем Музея, а затем снова занимал этот пост с 1805 по 1811 г. 573.
3 Аристотель делил весь животный мир на две большие группы: животных с кровью и животных без крови. Это деление держалось в науке долгое время. {838}
Так, его повторяет в XVI в. Э. Уоттон, в XVII в. Д. Рей и другие. В XVIII в. распространяется определение беспозвоночных животных, как животных с белой (или бесцветной) кровью. Это определениемынаходим у Линнея, о нем упоминает здесь и Ламарк. 573
4 О сырном клещике (Mitte du fromage, Acarus siro) и о клещиках, паразитирующих на коже человека и вызывающих воспалительное ее состояние, подробно говорится в т. V «Histoire uaturelle des animaux sans vertebres». Там же Ламарк приводит интересные данные об установлении им класса паукообразных «для животных, которые не могут принадлежать ни к ракообразным, ни к насекомым», впервые предложенного им на лекциях в Музее еще в 1800 г., включенного в «Systeme des animaux sans vertebres» (1801), но получившего общее признание лишь в 1810 г. после выхода в свет «Considerations generates sur l'ordre naturel des animaux» Латрейля. Ю. 574.
5 Здесь рукопись обрывается. 576.
6 Напомним, что Ламарк ошибочно отрицал наличие раздражимости у растений (см. т. I, стр. 947, примечание 10). 577.
7 Слово «подчиненное» (assujettie) нужно понимать как «подчиненное законам». 577.
8 Здесь ясно выражена мысль о постоянно совершающемся (и в настощее время) процессе самозарождения живых существ, а также о том, что «исходных» рядов животных было несколько (во «Введении» Ламарк говорит о двух рядах, но впоследствии допускает возможность и трех рядов). 578.
9 После слова «действий» стоят зачеркнутые Ламарком слова: «и увеличивающих разнообразие животных». Вероятно, Ламарк счел излишним еще раз повторять здесь столь характерную для него мысль. 579.
10 Весь этот абзац представляет огромный интерес. Нужно думать, что «профессор зоологии», о котором здесь идет речь, не кто иной, как Жоффруа Сент-Илер, занимавший в Музее естественной истории кафедру естественной истории позвоночных животных. Под «важными для науки открытиями», сделанными «недавно» этим профессором зоологии, вероятно, подразумевается ряд сравнительно-анатомических работ Жоффруа Септ-Илера и особенно его классическое, вышедшее в 1807 г. исследование, посвященное структуре черепа позвоночных животных. В этом исследовании сравнительно-анатомический метод сочетается со сравнительно-эмбриологическим, здесь доказывается идея единства организации позвоночных животных, принадлежащих к разным классам, и формулируются основы синтетической морфологии.
Идею единства плана строения животных Ламарк принимал, однако, только в пределах известной ступени развития животного мира. Абсолютизация этой идеи, распространение идеи «единого плана строения» на весь животный мир, характерная для Жоффруа Сент-Илера и его последователей, Ламарку была чужда, да она и не Мвгла быть совмещена с его эволюционной концепцией. Здесь Ламарк {839} как бы полемизирует с Жоффруа Сент-Илером. Ламарк блестяще вскрывает здесь основной дефект концепции Жоффруа Сент-Илера. Смысл его критического замечания заключается в указании, что важные факты сравнительной анатомии, касающиеся единства строения, могут получить правильное истолкование только в свете учения о развитии животного мира, при учете «порядка образования» животных и их изменения, «отклонения» в различных условиях среды (см. т. I, «тр. 872, примечание 66; стр. 892, примечание 54). 579.
11 Ламарк удачно употребляет здесь выражение «вызвавшим его разветвление» (et l'ont ramifie). Интересно и то обстоятельство, что он говорит здесь ясно о применимости своей концепции в области не только зоологии, но и ботаники. S80.
12 Три направления, о которых говорит Ламарк, можно было бы охарактеризовать как: 1) морфолого-систематическое, 2) физиологическое и 3) эволюционное. Последнее Ламарк не противопоставляет двум другим, а в известном смысле ставит над ними. 583.
13 Здесь опять вид выступает как реальная категория— «произведение природы» (см. примечание 9 к статье «Вид» и т. I, стр. 868, примечание 52). 584.
14 Интересно, что при изложении задач «второго направления» Ламарк зачеркнул более расплывчатую формулировку «...явления организации животных, причины этих явлений и отношения, которые существуют между состоянием органов и способностями, произведенными этими органами», и заменил комментируемой формулировкой, в частности ввел слова «механизм органических функций, обусловливающих эти явления». 585.
15 Ламарк говорит здесь об «упрощении различных видов организации животных». Это нужно понимать в обычном для Ламарка смысле. Он часто рассматривает «ряд животных» первоначально в условном порядке деградации, переходя от лучше изученных высших животных к низшим, а затем уже — в порядке постепенного усложнения животного мира. Слова о «многообразии планов организации» беспозвоночнх животных в известной мере противопоставлены концепции Жоффруа Сент-Илера (см. выше примечание 10). 588.
16 Последующие абзацы дают замечательно яркую картину эволюции нервной системы и ее функций. Ламарк выступает здесь снова как материалист, трактуя психику как производное определенного вида материи. По мере развития и усложнения нервной системы животных — «материальной основы» психики — развивается и усложняется психическая деятельность животных, достигая наибольшей сложности у человека. 589.
17 Ламарк говорит здесь о локализации функций в различных частях головного мозга.Трактовка имэтого вопроса ошибочна (см. примечание 24 к «Статьям» в т. I, стр. 915, примечание 147).
Интересно отметить, однако, что в рукописи, на странице, посвященной этому вопросу, Ламарк вычеркнул большой отрывок. В этом отрывке он еще более {840} прямолинейно связывал отдельные участки мозга с определенными психическими функциями (сравнение, воображение, суждение и т. д.). По-видимому, он почувствовал необходимость более осторожно выразить свое отношение к этому вопросу. 59^ .
18 В свете всего изложенного выше последнюю фразу надо понимать как рекомендацию широко применять сравнительный метод исследования. 592.
19 История оставшейся до сих пор неопубликованной работы Ламарка «Аналитический обзор» такова. Благодаря исключительной любезности директора Национального музея естественной истории в Париже академика Р. Гайма и вниманию библиотекаря г-жи М. Мадье мы узнали о наличии в архиве Ламарка, хранящемся в Центральной библиотеке Музея, рукописи Ламарка, посвященной обзору человеческих знаний. Мы получили микрофильм рукописи, с которого приготовили фотокопии, состоящие из 237 снимков, соответствующих отдельным страницам рукописи.
Перед нами, естественно, встал вопрос: каково место этой работы Ламарка среди других его трудов? Ничего похожего Ламарк в таком виде не опубликовал. То обстоятельство, что отдельные отрывки рукописи напоминают соответствующие высказывания из других работ Ламарка, представлялось естественным, так как Ламарк развивает характерные для него вообще теоретические положения, а кроме того, часто прибегает в своих работах к повторению отдельных своих формулировок. В целом же рукопись представляла нечто весьма оригинальное — своеобразную попытку общего обзора и систематизации всех знаний человека, формулировки теоретических положений, лежащих в основе каждой отдельной области знания. У нас возникла мысль, что это прообраз последнего замечательного синтетического труда Ламарка «Аналитическая система положительных знаний человека», вышедшего в 1820 г. (перевод его публикуется в этом же томе). Известно, что «Аналитическую систему» Ламарк диктовал своим дочерям, будучи уже слепым. Напрашивается предположение, что Ламарк давно задумал подобный труд, частично написал его (вернее, сделал черновые наброски), но не успел завершить эту работу. Ослепнув, он продиктовал в известной мере аналогичную работу. При этом, возможно, для I части «Аналитической системы» наряду с другими материалами, уже опубликованными, были частично использованы и эти его черновые наброски, а для второй, психофизиологической, части, как известно, Ламарк использовал свои статьи из «Словаря» Детервилля.
Сходства и отличия «Аналитического обзора» и первой части «Аналитической системы» ясны. Сходство заключается в общем плане труда, в развиваемых Ламарком основных положениях. Отличие состоит в том, что «Обзор» был задуман, как произведение более широкое. В этом его достоинство, но, вероятно, и его недостаток. Если «Аналитическая система» поражает своей стройностью, отточенностью формулировок, высокой синтетичностью, то «Обзор», если даже судить по законченным его главам, представляется нам более расплывчатым, перегруженным {841} многими частностями. Впрочем, об этом, может быть, и не следовало говорить, ибо очевидно, что мы имеем дело с черновиком, и Ламарк мог многое изменить, если бы перед ним стал вопрос о публикации этой работы.
Рукопись, хранящаяся в Париже, не имеет заглавия, она начинается сразу с заголовка 1 части. Мы публикуем здесь эту работу под общим названием «Аналитический обзор» и т. д. Что дало нам право поступить таким образом? Ответ на этот вопрос представляет большой интерес. В библиотеке Музея сравнительной зоологии Гарвардского университета (США) хранятся шесть небольших рукописей Ламарка. Пять из них (в общей сложности 86 страниц в одном перейдете) были приобретены А. Агассицом в Париже в 1896 г. Шестая (маленькая ботаническая заметка) была приобретена позже. Рукописям Ламарка была посвящена небольшая статья Бэшфорд Дина (В. Dean. The Lamarck manuscript in Harvard.— Amer. Nat., 1908, т. 42, стр. 145—153). В 1933 г. все шесть рукописей были опубликовапы У. Уилером и Т. Бербором на языке оригинала и в. английском переводе (W. Wheeler and Th. Barbour. The Lamarck manuscripts at Harvard. Cambrige., Mass., 1933, XXXI + 202). Среди опубликованных рукописей, имеется несколько страниц (в указанной книге стр. 75—83) работы Ламарка, озаглавленной «Аналитический обяор». Дин, а позже Уилер и Бербор оценили эту рукопись как набросок плана «Аналитической системы». Анализ этого отрывка и сопоставление его с архивными материалами, полученными мною из Парижа, привели меня к неожиданному выводу, что опубликованные в Гарварде страницы — не что иное, как оглавление и вступительные рассуждения к большой парижской рукописи. Эти страницы, видимо, хранились отдельно от всей рукописи, а затем, подобно многим другим материалам Ламарка, после его смерти были проданы и попали в руки неизвестного коллекционера.
Это дает нам право восстановить целостность работы, предпослать эти страницы публикуемой нами рукописи (они предшествуют ее I части) и принять заголовок работы в целом — «Аналитический обзор», ибо этот заголовок дан самим Ламарком.
Каким годом или годами следует датировать рукопись? Упомянутые американские авторы датируют попавший в их руки отрывок рукописи 1818 годом. Это представлялось нам сомнительным. Ламарк в то время был очень занят публикацией других своих работ. Кроме того, зрение его резко ухудшилось, вскоре он ослеп, рукопись же написана четким, красивым почерком Ламарка, местами очень маленькими буквами. Наши сомнения были разрешены самим Ламарком.
В полученной нами из Парижа рукописи имеется несколько ссылок на «Философию зоологии», вышедшую в 1809 г. С другой стороны, в одном месте Ламарк пишет о подготовляемом им втором издании «беспозвоночных животных». Как известно, первое издание ламарковской «Естественной истории беспозвоночных животных» начало выходить в марте 1815 г.. а второе издание было подготовлено {842} и реализовано уже после смерти Ламарка; оно относится к 1835—1845 гг. О каком же втором издании мог писать Ламарк? Очевидно, не о втором издании «Естественной истории беспозвоночных животных». Ответ на этот вопрос становится ясным, если учесть, что Ламарк иногда характеризовал свою «Естественную историю беспозвоночных животных», как второе, сильно расширенное издание своего труда «Systeme des animaux sans vertebres», вышедшего в 1801 г. Тогда слова Ламарка о подготовке им второго издания являются свидетельством того, что публикуемая нами по рукописи работа была написана до 1815 г. Вероятная дата ее написания — 1810—1814 гг.
В наиболее обстоятельной монографии, посвященной Ламарку, автором которой является М. Ландриё, отмечается, что «почти все личные бумаги Ламарка, заметки, письма или рукописи исчезли» (М. Landrieu. Lamarck, le fondateur du transformisme. Paris, 1909, стр. 105). Действительно, Ландриё оставалась неизвестной и публикуемая нами работа Ламарка. «Но, — пишет дальше Ландриё, — быть может, нас ожидают неожиданности, и случай поможет извлечь из архивов или частных коллекций новые документы, которые прольют свет на воззрения и методы работы основателя учения о эволюции» (там же, стр. 107). Как видим, предсказание Ландриё начинает сбываться!
Оговорим некоторые особенности рукописи. Поскольку мы имеем дело с черновыми набросками, разделы рукописи неравноценны. Одни части и главы в большей или меньшей степени логически закончены, другие — фрагментарны. Некоторые разделы представлены только планом или даже одним заголовком. Пропал ли относящийся к ним материал, или он вообще не был Ламарком написан,— об этом можно только догадываться.При подготовке рукописи Ламарк, вероятно, изменял несколько раз план труда и соответственно перекладывал черновые наброски. Это особенно бросается в глаза при сравнении различных вариантов оглавления, имеющихся в рукописи, а также сопоставление их с планом глав второй части. Поэтому некоторые нелогичности в нумерации частей и глав нас ее должны смущать. Логическая последовательность изложения в общем выдержана. Из 237 страниц рукописи около 50 не были включены в перевод по тем или иным соображениям: некоторые страницы представляли или переписанные Ламарком почти без изменений другие страницы или содержали только варианты заголовков, или же материал этих страниц был Ламарком целиком зачеркнут. Кроме того, мы сочли возможным опустить три небольшие главы, посвященные астрономии, минералогии и механике.
После изготовления фотокопий рукопись была мною прочтена и я уточнил Место отдельных ее листов. Расшифровку и перевод рукописи выполнила А. В. Юдина. Все слова, набранные курсивом или в разрядку, подчеркнуты в рукописи Ламарком. 593.
20 Ламарк допускает здесь, что под словом «природа» подразумевают одновременно как совокупность материальных тел, так и движение, законы {843} и т. д. Обычно же Ламарк употребляет термин «природа» только в смысле «порядка вещей», т. е. совокупности движения, законов, а также времени и пространства, материальные же тела он относит в. категории «вселенной». См. также примечание 87 к «Введению». 604.
21 Ламарк обычно различает способность производить (produire, иногда — former) и способность творить (сгёег). Первое приписывается природе, второе — верховному существу. 606.
22 Здесь находит свое выражение мысль о целостности и материальном единстве вселенной. 607.
23 Мысль о том, что в природе царят «неизменные» законы, устанавливающие «нерушимые порядок и гармонию», в которых нет места случайности и дисгармонии, неоднократно высказывается Ламарком, хотя по этому вопросу у него имеются и несколько разные формулировки. См. также примечания 89 и 92 к «Введению». 608.
24 Ламарк очень резко выступает здесь против идеалистического представления о цели в природе, против телеологии. Он противопоставляет телеологии материалистические идеи причинной необходимости, закономерности; природа, по Ламарку, «совершает свои деяния лишь в силу необходимости». Очень близкие формулировки мы находим во «Введении» к «Естественной истории беспозвоночных животных». См. примечания 89 и 92 к «Введению». 609.
25 Ламарку был чужд агностицизм, он был убежден в огромных возможностях человеческого познания. Поэтому комментируемый отрывок следует понимать только, как отражение уровня познаний его эпохи. Сейчас границы познания как макро- так и микромира неизмеримо расширились. 610.
26 Одно из характерных деистических высказываний Ламарка. 610.
27 Нужно заметить, что в ту эпоху,когда писал Ламарк, в понятие «метафизический» вкладывалось не то содержание, как сейчас, когда мы говорим о метафизике как о противоположности диалектике. Тогда под «метафизическим» понималось обычно «выходящим за пределы опыта, умозрительным» и т. п. Понятие «метафизическое» употреблялось в смысле противопоставления физическому. Так, Ламарк в «Аналитической системе» пишет: «Понятие метафизическое, созданное его воображением и отвлечением от всего физического, утратит для него всякое положительное значение». 611.
28 В этой формулировке Ламарк, исходя из своих деистических воззрений, допускает отступление от материализма, так как для материалиста неприемлем тезис о конечности материии. 613.
29 Ламарк ограниченно — механистически трактовал движение только как перемещение тела в пространстве, а не как форму существования материи (см. т. I, стр. 904, примечание 101). 614.
30 В предшествующих абзацах Ламарк затрагивает большой философский вопрос о понятии времени и пространства и об их отношении к движению. {844}
Он рассматривает пространство и время как объективную реальность и в этом смысле стоит на позициях материализма. В то же время его мысли в общем сформулированы в духе ныотонианских воззрений, трактующих время и пространство как нечто внешнее по отношению к материи и движению. Это связано с особенностями деистической формы ламарковского материализма.
Диалектический материализм понимает время и пространство как объективную реальность, как основные формы существования движущейся материи. Напомним по этому вопросу слова В. И. Ленина: «Признавая существование объективной реальности, т. е. движущейся материи, независимо от нашего сознания, материализм неизбежно должен признавать также объективную реальность времени и пространства, в отличие, прежде всего, от кантианства, которое в этом вопросе стоит на сторопе идеализма, считая время и пространство не объективной реальностью, а формами человеческого созерцания..... В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени» (Сочинения, изд. 4, т. 14, стр. 162). Здесь же В. И. Ленин напоминает слова Энгельса о том, что пространство и время — «основные формы всякого бытия». 616.
31 Ламарк, как материалист, исходит из объективной закономерности, господствующей в природе, из закономерности всего совершающегося в мире. Но в его трактовке законов имеются и правильные и неправильные положения. Он прав, признавая объективную закономерность, правильны и те формулировки, которые приближают к пониманию историзма законов (законы действуют, по Ламарку, при определенных «обстоятельствах»). Он не прав, когда утверждает, исходя из деистических представлений, что законы «сотворены», стоят над материей, неизменны. 617.
32 Интересно, как отчетливо формулирует Ламарк материалистическое представление: «Иначе пришлось бы предположить, что природа вечна, что она не имеет творца». Но Ламарк, разделявший непоследовательную деистическую форму материализма, ищет первопричину — «могущественное начало, создавшее природу» — и утверждает дальше, что природа — «причина каждой вещи, но не ее первопричина». 618.
33 Построение второй части вызывает, на первый взгляд, некоторое недоумение. Семи глав, обозначенных Ламарком в плане второй части, мы вообще не найдем. Три главы обозначены как «первая глава» и одна, как «вторая». По содержанию же эти главы соответствуют второй части второго варианта оглавления. Все вопросы, обозначенные в этом втором варианте, затрагиваются в этих главах: о телах вообще, о движении тел, о телах, находящихся вне нашей планеты. По-видимому, Ламарк объединил, в соответствии со вторым вариантом оглавления, под рубрикой «Вторая часть» главы, первоначально предназначавшиеся для других частей. {845}
Мы не включили в перевод две небольшие главы, относящиеся ко второй части, одну—посвященную механике и другую — астрономии. 618.
34 Построение третьей части ясно. Содержание ее полностью соответствует второму варианту оглавления. Ламарк, конструируя третью часть, взял две главы (3 и 6), предназначавшиеся для второй части (см. план второй части) и из них составил третью часть. 626.
35 Мириаметр равен 10 000 метров. Jlb'S имеет различные значения: старинное льё — 4444,44 метра. Таким образом, Ламарк утверждает здесь, что высота земной атмосферы составляет примерно 60—70 км. Сейчас известно, что высота атмосферы равна приблизительно 1300 км (тропосфера— от 7 до 18 км, стратосфера — около 80 км, остальное — ионосфера). 628.
36 Ламарка очень интересовали вопросы метеорологии. Он вел наблюдения, обобщал метеорологические данные и на протяжении ряда лет издавал «Ашшаires mit6orologiques» (см. библиографию). Всего Ламарк издал с 1800 по 1810 г. 11 томов этого ежегодника. В соответствии с общей своей концепцией о закономерности всего происходящего в природе Ламарк был убежден, что и атмосферные явления позволяют обнаружить соответствующие закономерности и что знание этих закономерностей следует поставить на службу человеку. В комментируемых абзацах эта мысль выражена со всей отчетливостью. 632.
37 Здесь мы встречаемся, по-видимому, с единственным случаем, когда Ламарк для объяснения не движения вообще, а одной из частных его форм (вращение земного шара) апеллирует к «верховному творцу всего существующего». 634.
38 Ламарк ссылается здесь на свое сочинение, озаглавленное «Hydrogeologie» (см. библиографию). Напомним, что в этом своем сочинении Ламарк выступил с резкой критикой реакционной концепции катастрофизма как один из ранних представителей того направления в геологии, которое получило название актуализма. Сторонники этого направления указывали, что естественные силы, повседневно действующие, медленно и постепенно изменяли, как в прошлом, так и в настоящем, земную поверхность. Несмотря на некоторые свои недостатки, актуализм сыграл большую роль в разработке материалистического представления об эволюции поверхности земного шара, что явилось одной из предпосылок и при разработке представлений об эволюции обитающих на земле организмов (см. т. I, стр. 956, примечание 35; стр. 959, примечание 45). 637.
39 Название четвертой части и ее содержание соответствуют тому, что намечено во втором варианте оглавления. Из двух разделов этой части первый, в форме глав 1—3, был написан Л амарком достаточно подробно, второй только намечен. Эту часть мы публикуем без первой главы, посвященной минералогии. 637.
40 Представление о флюидах см. в примечании 16 к «Введению» и т. 1, стр. 864, примечание 30. 640. {846}
41 Под жидкими битумами Ламарк подразумевает нефть. 641.
42 В рукописи имеется и другой, несколько отличающийся заголовок и другая нумерация главы: «Глава четвертая. Знание находящихся на земном шаре тонких видов материи, невидимых и не способных служить содержимым, проникающих, распространяющихся и движущихся то в частях [тел], то между ними». 647.
43 Напомним, что Ламарк продолжал упорно придерживаться отброшенного наукой уже в его время понятия «теплород». 651.
44 От второго раздела сохранился только план. Имеется и другой вариант названия этого раздела. «Знание тел и видов материи, рассматриваемых в отношении образующих их частей, в отношении тесного взаимодействия, по-видимому, проявляющегося между этими частями; в отношении законов, управляющих их соединением, разложением и их различными изменениями; наконец, в отношении явлений, вытекающих из этих действий и этих законов. (Предмет химии)». 656.
45 Заголовок пятой части точно соответствует второму варианту оглавления. Из намеченного Ламарком обширного плана этой части, долженствующей состоять из двух разделов (I — знание животных, 4 главы, II — знание растений, 2 главы), в рукописи мы находим только фрагменты. Остается догадываться, пропал ли соответствующий материал, или он был использован Ламарком при подготовке других работ, или же вообще он не был написан. 656.
46 Это замечание Ламарка очень важно для установления времени написания данной рукописи (см. примечание 19 к «Дополнениям»). 661.
47 В виде отдельных набросков, относящихся к данной рукописи, в архиве хранятся и страницы, озаглавленные «Аналитическое деление человеческих знаний». Эти страницы представляют еще один вариант плана труда, задуманного Ламарком. Здесь более детально расшифровывается содержание двух основных частей этого произведения, именуемых: «Знания, основанные на фактах» и «Знания, получаемые при помощи разума». Ко второй части Ламарк сделал несколько набросков о философии, науке, развитии человеческих знаний и т. д., содержащих характерные для Ламарка суждения по этим вопросам (оговорены в ряде предыдущих наших примечаний). 663.
48 Место этой 4 части не вполне ясно. Сходные заголовки мы находим и в оглавлении «анализа знаний, основанных на фактах» и в плане раздела «знания, получаемые при помощи разума». В первом случае Ламарк предполагал говорить о науках, во втором о философии наук. 665.
| {847} |

Составил И.М.Поляков
1744. Первого августа этого года Ламарк родился в небольшом селе Базантен в Пикардии (северо-восточная Франция). В акте о рождении записан, как «Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet chevalier de Lamarck». Ламарк был одиннадцатым ребенком в небогатой дворянской семье весьма древнего рода. Представители этого рода почти все были военными.
175..—1760. Ламарка предназначали к духовному званию и он был отдан в содержавшуюся иезуитами в г. Амьене школу. Точная дата поступления в школу неизвестна. Ушел из школы, по одним данным, в 1760 г., по другим — в 1761 г.
1761. В июле этого года Ламарк вступает в ряды французской армии; принимает участие в заканчивавшейся тогда Семилетней войне. После этого он продолжает служить в армии до 1768 г. (по другим данным, до 1767 г.).
1768. Ламарк выходит в отставку, поселяется в Париже и начинает изучать различные области естествознания; особенное внимание уделяет ботанике и медицине.
1772. Начиная с этого года, Ламарк усиленно изучает ботанику, собирает гербарии, слушает лекции в Королевском Ботаническом саду. Одновременно он изучает медицину, посещает занятия медицинского факультета (а возможно, и Хирургической академии, что не уточнено).
1776. К этому году относится первая научная работа Ламарка, оставшаяся неопубликованной,— «Мемуар об основных явлениях в атмосфере», доложенная в Академии наук. К этому же году относится написание труда, озаглавленного «Исследования о причинах главнейших физических явлений» (этот труд был опубликован только в 1794 г.).
1778. Выходит в свет трехтомный труд Ламарка «Флора Франции». Труд этот является одним из классических произведений научной ботаники. В этой {848} работе Ламарк предлагает свою систему растений, приближающуюся в некоторых пунктах к естественной, описывает большое количество растительных видов, уделяя особое внимание практическому значению тех или иных видов, разрабатывает дихотомические таблицы, значительно облегчившие определение растений. «Флора Франции» доставила Ламарку заслуженную известность (второе издание вышло в 1795 г., третье, в соавторстве с А. П. де Кандоллем, в 1805 г.).
1779. Ламарка утверждают в составе Академии наук, первоначально в качестве адыонкта ботаники.
1781—1782. Ламарк вместе с сыном Бюффона путешествует по Голландии, Германии, Австрии, Венгрии, заводит многочисленные знакомства с натуралистами, проводит наблюдения, собирает коллекции.
1783. Начиная с этого года, выходят ботанические статьи Ламарка в «Словаре ботаники», являвшемся составной частью известной «Методической энциклопедии». Перу Ламарка принадлежат все статьи первого и второго томов,часть статей третьего тома и некоторые статьи четвертого тома. В 1791 г. Ламарк начал выпускать иллюстративные материалы о растениях, описанных в «Методической энциклопедии», под названием «Иллюстрации родов».
1785. В Париже, в «Мемуарах Академии наук», выходит труд Ламарка «Сочинение о классах, которые должны быть установлены наиболее правильным образом среди растений, и об аналогии, существующей между их числом и числом классов, установленных в царстве животных, при учете в обоих случаях постепенного совершенствования органов». Значение этоготруда— в разработке системы растительного мира (из 94 семейств), приближающейся к естественной системе. В этом произведении мы находим одну из первых очень отчетливых формулировок представления Ламарка о градации живых существ, о цепи существ, на одном конце которой расположены наиболее простые, а на другом наиболее сложпые организмы. Эта идея станет краеугольной для всего его дальнейшего научного творчества в области ботаники и зоологии.
1792. Ламарк издает, совместно с Оливье, Гаюи, Брюгьером и Пеллетье, «Журнал естественной истории». Вышло два тома, содержащих свыше 20 статей Ламарка, посвященных главным образом вопросам ботаники. Выходят первые зоологические работы Ламарка.
1793. Ламарк назначается профессором по кафедре «зоологии насекомых, червей и микроскопических животных» в Музее естественной истории (это учреждение было создано 10 июня 1793 г. решением революционного Нацао-нальпого Копвента, на основе преобразования Королевского Ботанического сада). Вся дальнейшая деятельность Ламарка связана с этим учреждением. Ламарк занимал одновременно в Музее различные выборные
| {849} |
 |
|
ГОРЕЛЬЕФ НА ПАМЯТНИКЕ ЛАМАРКУ У ВХОДА В ПАРИЖСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД Памятник работы скульптора Л. Фажеля (L. Fagel) Ламарк изображен слепым, рядом с дочерью Корнелией, которой приписываются Важнейшие даты жизни и творчества Ламарка |
| {849} |
должности (в 1795 г.— секретарь совета профессоров, в 1796 г.— директор совета, в 1802 и 1805—1811 гг.— казначей).
1794. Выходит труд Ламарка «Исследования о причинах главнейших физических явлений». Ламарк, являвшийся убежденным сторонником революции, преподносит эту книгу Конвенту и в посвящении ее французскому народу вдохновенно пишет: «Народ, великодушный и одерживающий победы над всеми врагами, народ, сумевший вернуть себе священные права, неотъемлемо принадлежащие ему от природы, прими не льстивый привет, какой при старом режиме приносили пресмыкавшиеся рабы королям, министрам или знати, им покровительствовавшей, но дань восхищения, заслуженного твоими добродетелями и развитыми мудростью и неустрашимой преданностью твоих представителей».
В этом году Ламарк начипает в Музее чтение курса зоологии. Ежегодно Ламарк предпосылал курсу вступительную лекцию, в которой излагались общие принципиальные положения курса.
1797. Издается сочииепие Ламарка «Мемуары по физике и естественной истории». В этих мемуарах весьма полно изложены своеобразные физические и химические теории Ламарка, его натурфилософская концепция, рассматривающая все природные тела как видоизменение четырех «пер во веществ», из которых главным является огонь, находящийся в различных состояниях. Излагаются также представления о флюидах, о роли живых существ в круговороте веществ и т. д. Этим вопросам были посвящены и некоторые другие работы Ламарка.
1798—1799. Выходят в свет важные зоологические исследования Ламарка, посвященные главным образом моллюскам.
1800. Одиннадцатого мая этого года (21 флореаля 8-го года Республики) Ламарк читает в Музее вступительную лекцию к курсу зоологии. Лекция этого года представляет особенно большой интерес,так как в ней Ламарк впервые ясно формулирует свою эволюционную концепцию. В дальнейшем Ламарк развивает эту концепцию во вступительных лекциях 1802, 1803 и 1806 гг. Эти лекции являются как бы «предварительными этюдами» к главному труду Ламарка — «Философия зоологии».
1800—1810. Ламарк выпускает 11 томов «Метеорологических ежегодников». Убежденный, что все природные явления совершаются закономерпо, Ламарк на протяжении мпогих лет искал закономерностей в метеорологических явлениях, пытался делать в этой области некоторые предсказания.
1801. Выходит сводное сочинение Ламарка «Система беспозвоночных животных». В этом сочинении заложены основы новой научной систематики беспозвоночных животных. Здесь же была опубликована и «Вступительная лекция к курсу зоологии 1800 г.». В качестве приложения опубликована также статья Ламарка «Об ископаемых», в которой приводятся глубокие {850} соображения о природе ископаемых и об истории Земли, являющиеся составной частью эволюционной концепции Ламарка.
1802. Выходят в свет выдающиеся труды Ламарка «Гидрогеология» и «Исследования организации живых тел».
В «Гидрогеологии» Ламарк весьма полно излагает свои взгляды по общим вопросам геологии, палеонтологии и минералогии. Он считает, что земная поверхность изменяется на протяжении веков медленно и постепенно, главным образом, под влиянием деятельности морских и пресных вод. Ламарк выступает в защиту историзма, актуализма в трактовке геологических явлений, резко критикует метафизическую реакционную теорию катастроф и создает этим предпосылки для победы эволюционного учения в области биологии. Ламарк декларирует в «Гидрогеологии» эволюционную концепцию и впервые смело заявляет, что и сам человек является лишь конечным результатом исторического развития органического мира.
В книге «Исследования организации живых тел» впервые систематически и достаточно полно излагаются общебиологические и физиологические взгляды Ламарка. Здесь рассматриваются вопросы самопроизвольного зарождения простейших организмов, градации живых существ и др., являющиеся важной составной частью эволюционной концепции Ламарка. В известной степени эта книга является как бы первым вариантом труда Ламарка «Философия зоологии».
1802—1806. Выходят в свет «Мемуары об ископаемых из окрестностей Парижа» (в 8 томах, посвященные главным образом ископаемым моллюскам). Исследования Ламарка в этой области позволяют считать его одним из основоположников палеонтологии беспозвоночных животных. В 1805—1809 гг. Ламарк издает относящиеся к этим мемуарам таблицы рисунков. Палеонтологический материал Ламарк освещает с эволюционных позиций. В эти годы продолжают выходить и другие зоологические и палеонтологические работы Ламарка.
1803. Ламарк, совместно с Мирбелем, приступает к изданию «Естественной истории растений». В этом 15-томном сочинении перу Ламарка принадлежат первые два тома, посвященные истории и принципам ботаники. Здесь Ламарк впервые прилагает эволюционную концепцию к растительному миру, дает детальную картину градации растений.
1809. Выходит в свет великий труд Ламарка — «Философия зоологии» (в двух томах). В этом труде с наибольшей полнотой изложена эволюционная теория Ламарка-— первое в истории науки целостное учение об историческом развитии органического мира. В «Философии зоологии» подробно изложены также воззрения Ламарка на сущность и происхождение жизни в детально разработаны вопросы психофизиологии. {851}
1810—1814. Ламарк приступает к написанию обширного синтетического труда «Аналитический обзор человеческих знаний». Задача эта не была осуществлена полностью, а фрагменты этого труда оставались до сих пор неопубликованными (впервые публикуются в этом издании). Одновременно Ламарк ведет подготовку материалов для большой сводной работы по зоологии беспозвоночных животных.
1815—1822. Выходят семь томов классического труда Ламарка «Естественная история беспозвоночных животных», явившегося основополагающим для этой области биологии. В этом труде Ламарк завершает свою работу по обоснованию новой систематики животного мира (его система разрабатывалась и совершенствовалась им на протяжении примерно 20 лет). В знаменитом «Введении» к этому труду, занимающем большую часть первого тома, в чрезвычайно выразительной форме получает развитие эволюционное учение Ламарка. «Введение» содержит много важных формулировок по общефилософским вопросам, а также по вопросам общей теории жизни и психологии.
1817—1818. Ламарк сотрудничает в «Новом словаре естественной истории» Детервилля (второе издание этого словаря, в 36 томах, вышло в 1810—1819 гг.). Перу Ламарка принадлежат в этом словаре 19 статей. Некоторые из них представляют большой интерес для понимания философских. и эволюционных взглядов Ламарка (статьи «Природа», «Способность», «Вид» и др.).
1820. Выходит в свет последний, «итоговый» труд Ламарка — «Аналитическая система положительных знаний человека». В этом выдающемся синтетическом труде в яркой, выразительной форме излагается философское кредо, общебиологические, эволюционные и психофизиологические воззрения Ламарка. Ламарк продиктовал этот труд своим дочерям, так как в 1818—1819 гг. здоровье его резко ухудшилось и он потерял зрение.
1828. Одиннадцатого июля Ламарк последний раз присутствует на собрании профессоров Музея.
1829. Восемнадцатого декабря Ламарк скончался в возрасте 85 лет. Погребение Ламарка состоялось 20 декабря на кладбище Монпарнас. У могилы были произнесены речи Латрейлем от имени Академии наук и Этьеном Жоффруа Сент-Илером от своего имени и по поручению профессоров Музея. Могила Ламарка не сохранилась.
| {852} |

Составила А.В.Юдина
Помещенная в настоящем томе библиография составлена на основании подробного ознакомления с подлинниками монографий и статей Л амарка, имеющимися в библиотеках Москвы и других городов СССР. Работы, получить которые не удалось, описаны по библиографическим и литературным источникам. Эти работы отмечены звездочкой.
Материал расположен по тематическому принципу. Однако приложение этого принципа почти ко всем основным работам Ламарка, отличающимся исключительно широким и многосторонним содержанием, вызвало необходимость создания «суммарных» рубрик, охватывающих несколько самостоятельных дисциплин.
Каждая работа отнесена к той или иной рубрике, в зависимости от ее основной ведущей темы, причем там, где имеются отдельные части или разделы, относящиеся к другим рубрикам, это отражено в форме аннотаций или ссылок.
Для эволюционного учения отдельной рубрики не дается, так как, за исключением нескольких ранних работ, все труды Ламарка проникнуты идеей постепенного развития и изменения органического и неорганического мира.
В приведенном списке трудов Ламарка приняты следующие рубрики. 1. Общие вопросы. Биология. Физиология. Сравнительная психология. Антропология. 2. Зоология и палеонтология. 3. Ботаника. 4. Геология, минералогия д кристаллография. 5. Метеорология. 6. Физика. Химия. 8. Разные работы.
В пределах каждой рубрики материал расположен в хронологическом порядке. Названия сочинений воспроизводятся по титульным листам; кое-где допущены незначительные сокращения (адреса книгоиздателей и книгопродавцев и т. д.).
Библиография охватывает лишь работы Ламарка на французском языке, а также переводы и с на русском языке.
Ниже приводится список сокращений.
| {853} |
«Act. Soc. hist, nat.» — Actes de la Societe d'histoire naturelle.
«Ann. Mag. nat. hist.» — Annals and Magazin of natural history.
«Ann. Mus. hist, nat.» — Annals du Museum national d'histoire naturelle.
«Bull. Soc. philom.» — Bulletin des sciences par la Societe philomatiquc de Paris.
«Bull. sci. France Belgique» — Bulletin scientifique de la France et de la Belgique.
«Encycl. method. Bot.» — Encyclopedic methodique. Botanique.
«Le Moniteur» — Gazette nationale on le Moniteur universel.
«Hist. nat. anim. sans vert.» — Histoire naturelle des animaux sans vertebres.
«Hist. nat. veget.» — Histoire naturelle des vegetaux.
«Journ. hist, nat.» — Journal d'histoire naturelle.
«Journ. phys., chim., hist, nat.» — Journal de physique, de chimie, d'histohe naturelle et des arts. «Mem. Acad, sci.» — Memoires de PAcademie des sciences. «Mem. du Mus. hist, nat.» — Memoires du Museum national d'histoire naturelle. «M6m. Soc. hist, nat.» — Memoires de la Societe d'histoire naturelle. «Nouv. Diet. hist, nat.» — Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle. «Philos. zool.» — Philosophie zoologique.
«Proc. Zool. Soc. London» — Proceedings of the Zoological Society of London. «Syst. anal, connais. posit.» — Systeme analytique des coniiaissances positives de l'homme. «Syst. anim. sans vert.» — Systeme des animaux sans vertebres.
* Memoire sur les cabinets d'histoire naturelle et particulierement sur eelui du Jardin des plantes, contenant l'exposition du regime et de l'ordre qui convien-nent a cet etablissement pour qu'il soit vraiment utile. Paris, (1790?).
* Memoire sur les cabinets d'histoire naturelle d'apresdes principes a pen pies semblables a ceux qui les dirigent aujourd'hui.
Описано по кн. Querard J. M. La France litteraire ou Dictionnaiie bibliographique des savants. T. IV. Paris, Didot, 1830, p. 474. Выходные данные не указаны.
* Sur les ouvrages geniraux en histoire naturelle; et particulierement sur Pedition du «Svstema naturae» do Linnaeus, que M. Gmelin vient de publier — «Act. Soc. hist, nat.», Paris, 1792, p. 81—85. {854}
Recherches sur les causes des principaux faits physiques. T. II. Paris, l'au-teur, Maradan, 1794. Quatrieme partie. Recherches sur les etres organiques..., p. 184—270.
Memoires de physique et d'histoire naturelle, Paris, an V(1797). Septieme mёmоire. Sur les resultats des facuhes organiques des corps vivans... Theorie des etres vivans, p. 238—315.
Systeme de Gall.— В кн.: The Lamarck manuscripts at Harward edited by William Morton Wheeler and Thomas Barbour. Cambridge, Massachusetts. Harward University Press, 1933, p. 3—38.
Издатели полагают, что рукопись является неопубликованной лекцией, прочитанной Л амарком в Музее естественной истории [1798—1806?]. Она свидетельствует о серьезных познаниях Ламаркав области медицины и представляет особый интерес, поскольку до нас не дошли документальные данные о занятиях Ламарка медициной в Academie de Chirurgie или в Faculte de medecine.
La Biologie. Texte in edit de Lamarck presente par Pierre Grasse. — «La Revue Scientifique: Revue rose illustree», 1944, 82 annee, Fascicule 5, Juin-Juillet, p. 267-276.
Текст и фотокопиифаксимилерукописи (MS742),1802—1809(?),хранящейся в Библиотеке Музея естественной истории в Париже. Комментарии Грассе. Discours d'ouverture, prononcele 21 floreal an 8.—В кн.: «Systeme des Anlmaux sans vertebres. Paris, Deterville, 1801, p. 1—48.
Ландрие («Bull. sci. France Belgique», 1906, p. 454) называет эту лекцию «актом рождения трансформизма»-.
Discours d'ouverture, prononce le 27 floreal an 10 au Museum d'histoire naturelle. Recherches sur Г organisation des corps vivans.— В кн.: Recherches sur l'or-ganisation des corps vivans. Paris, l'auteur, Maillard, an X, p. 1—67.
При переиздании дополнена приложением (Appendice): Des especes parmi les corps vivans.
Discours d'ouverture d'un cours de zoologie, prononce en prairial an 11 au Museum d'histoire naturelle sur la question: Qu'est-ce que l'espece parmi les corps vivans?
Как указывает Ландрие («Bull. sci. France Belgique», 1906, t. XL, p. 456—457) единственный сохранившийся экземпляр находится в Библиотеке Музея естественной истории. Найти следы второго экземпляра, принадлежавшего А. Милп-Эдвардсу ему не удалось. В библиографическом введении Ландрие анализирует связь этой лекции с третьей главой «Философии зоологии».
Discours d'ouverture du cours des animaux sans verlbbres, prononce dans le Museum d'histoire naturelle, en mai 1806.
Единственный сохранившийся экземпляр принадлежит А. Ж'иару(А. Giard). {855}
Discours d'ouverture des cours de zoologie donnes dans le Museum d'histoire naturelle (an VIII, an X, an XI et 1806 ). Avec un avant-propos d'Alfred Giard (p. 443—451) et une introduction bibliographique par Marcel Landrieu, (p. 453— 457) — «Bull. sci. France Belgique», 1906, t. XL, p. 459—595.
Переиздание четырех Вступительных лекций (1800, 1802, 1803 и 1806) с предисловием Жиара и библиографическим введением Ландрие. Discours d'ouverture (des cours de zoologie donnes dans le Museum d'histoire Qaturelle, an VIII, an X, an XI et 1806. Avec avant-propos de A. Giard et introduction bibliographique de Marcel Landrieu), Lille, Danel, 1907, 157 p. (Extrait du «Bull. sci. France Belgique», 1906, t. XL). Отдельное издание Discours d'ouverture du cours (donne en) 1814.
Рукопись имеется в библиотеке Музея естественной истории (Париж). Discours d'ouverture du cours (donne en) 1816. Рукопись имеется в библиотеке Музея естественной истории (Париж).
Вступительные лекции к курсу зоологии.— В кн.: Жан Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах. М., Изд. АН СССР, 1955, т. 1,стр. 9—164.
Вступительная лекция, прочитанная 21 флореаля 8-го года Республики [1800], стр. 9—36.
Вступительная лекции, прочитанная 27 флореаля 10-го года Республики (1802) в Музее естественной истории, стр. 37—80. Исследования об организации живых тел, стр. 40—76. Приложение: О видах среди живых тел, стр. 76—80.
Вступительная лекция к курсу зоологии, прочитанная в прериале 11-го года Республики [1803] в Музее естественной истории по вопросу: что такое вид ереди живых тел?, стр. 81—105.
Вступительная лекция к курсу беспозвоночных животных, прочитанная в Музее естественной истории в мае 1806 г., стр. 106—164.
Перевод всех четырех лекций сделан по тексту, опубликованному в «Bull. sci, France Belgique», 1906, Т. XL, p. 459—595.
Вступительная лекция к курсу 1816 г. [Перевод с рукописи] — В кн.: Жан Батист Ламарк. Избранные произведения в двух.томах. М., Изд. АН СССР, 1959, т. II, стр. 573—592.
Recherches sur l'organisation des corps vivans, et particulierement sur son origine, sur la cause de ses developpemens et des progres de sa composition, et isor celle qui, tendant continuellement a la detruire dans ctiaque individu, {856} amene necessairement sa mort; precede du Discours d'ouverture du. cours de zoologie, donne dans lc Museum d'histoire naturelle l'an X de la Republique par J. B. Lamarck, dc l'lnstitut national de France, l'un des professeurs-adxuinistrateurs du Museum d'histoire naturelle, des Societes d'histoire naturelle, des pharmaciens et philomatique de Paris, de celle d'agriculture de Seine-et-Oise etc. Paris, Pauteur, au Museum d'histoire naturelle; Maillard.an X (1802), VIII,216 p. Premiere partie. Motifs de cet ouvrage, p. V—Vlll. Discours d'ouverture prononce le 27 floreal an X, au Museum d'histoire naturelle..., p. 1—67. Seсоnde partie. De la formation direete des premieis traits de 1'organisation, de la cause qui produit et entretient le mouvement orgauique et par suite de l'origine des corps vivants, p. 68—123. Quelques considerations relatives a l'homrne, p. 124—140. Appendice. Des especes parmi les corps vivans, p. 141—148. De l'es-pece parmi les mineraux, p. 149—156. Recherches sur le fluide nerveux, p. 156— 189. Quelques verites utiles a consigner, p. 189—200. Table raisonnee des matieres, p. 201—216.
Philosophie zoologigue ou exposition des considerations relatives a Vhistoire naturelle des animaux; a la diversity de leur organisation et des lacultes qu'ils en obtiennent; aux causes physiques qui maintiennent en eux la vie et donnent lieu aux mouvements qu'ils executent; enfin a celles qui produisent, les uns le sentiment et les autres l'intelligence de ceux qui en sont douees, par J.-B. P.-A. Lamarck, Professeur de Zoologie au Museum d'histoire naturelle, membre de l'lnstitut de France et de la Legion d'honnour, de la Societe philomatique de Paris etc. T. I—II. Paris, Dentu; l'auteur, 1809, T. I—XXV, 428 p. T. II —475 p.
Philosophie zoologigue ou exposition des considerations relatives a Vhistoire naturelle des animaux... Nouvelle edition. T. I—II. Paris, Bailliere, 1830. T I— XXV, 428 p. Т. П—475 p.
Отличается от издания 1809 г. только титульным листом («Новое издание»).
Philosophie zoologigue ou exposition des considerations relatives a Vhistoire naturelle des animaux. Nouvelle edition, revue et precedee d'une introduction biographique par Charles Martins. T. I—II. Paris, Savy, 1873. T. I— LXXXIV, 412 p. T. 11—431 p.
Philosophie zoologigue ou exposition des considerations relatives a Vhistoire naturelle des animaux. Preface par Ernest Haeckel. Paris, Schleicher, s. d. [1907], XLII, 316 p.
Перевод первой части «Философии зоологии». (Гл. I—VIII).
Oeuvres choisies de J. В. Lamarck. Avec une preface par Felix Le Dantec. Paris. Flammarion, s. d., 340 p. (Les meilleurs auteurs classiques francais et etran-gers). Premiere partie. Extraits de «l'Histoirc naturelle des animaux sans vertebres», I. Avertissement de Lamarck. II. Sixieme partie de l'«Introduction»: De la nature...» Deuxieme partie: Extraits de la «Philosophie zoologique». I. Avertissement. II. Discours preliminaire. III. Chapitre I—VII; {857} premiere page du chap. VIII; quelques observations relatives a l'homme. Troisieme partie; Extrait du discours d'ouverture prononce par Lamarck le 21 floreal, an. VIII.
Lamarck. Choix de texles et introduction par G. Revault d'Allonnes. Paris,
Michaud, 1910, 222 p. avec grav. et portr. (Les grands philosopbes francais et et rangers).
Главы и отрывки из «Syst. anim. sans vert.», «Philos. zool.», «Hist. nal. anim. sans vert., Introduction», «Syst. anal, connais. posit.», сгруппированные тематически под рубриками, часть которых воспроизводит назвавия глав или разделов названных сочинений Ламарка, другие введены составителем.-
Ж.Б. Ламарк. Философия зоологии, гл. 3 и 7. Пер. с франц. П. Ю.Шмидта.— В кн.: Теория развития. Сборник статей под ред. В. А. Фаусека. СПб., Брокгауз, 1904, стр. 3—42 (Библиотека самообразовании).
Ламарк Жан Батист. Философия зоологии. Пер. о франц. С. В. Сапожникова. Ред. и вступ. статья Вл. Карпова. М., «Наука», 1911, XXX, 313 стр.
Ламарк Жан Батист. Философия зоологии (Основные положения). С нредигл. и Двумя вступ. статьями М. П. Виноградова. Л., Сойкип, 1929, 64 стр. (Классики мировой науки).
Ламарк Жан Батист. Философия зоологии. Пер. с франц. С. В. Сапожшшова. Ред. и биогр. очерк В. П. Карпова. Вступительные статьи В. Л. Комарова п И. М. Полякова. Т. 1—2. М.—Л., Гос. изд. биол. и мед. лит-ры, 1935—37. Т. 1.-XCVI, 330 стр. Т. 2 — LXXXVIII, 483 стр.
Философия зоологии, ч. 1—3.— В кн.: Жан Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах. Ред. II. М. Полякова и II. И. Нуждина. Пер. А. В. Юдиной, М., Изд. АП СССР, 1955. Т. I, стр. 165—775.
Apercu aualylique des connuissauces humaines avec des divisions et des reflexions tendant a montrer leur degre de certitude, leur source, leurs branches principales,— В кн.: The Lamarck manuscripts at Harward edited by William Morton Wheeler and Thomas Barbour. Cambridge, Massachusetts, Harward University press, 1933, XXXI, 202 p. with ill., p. 75—83.
Этот текст является частью публикуемой впервые в настоящем издании рукописи, хранящейся в Музее естественной истории.
[Aperfu analytique des connaissances humaines avec des divisions et des reflexions tendant a montrer leur degre de certitude, leur source, leurs branches principales]. {858}
Рукопись [237 лл.] без заглавия [1810—1814(?)]. Имеется в Библиотеке Музея естественной истории (Париж).
Аналитический обзор человеческих знаний с их подразделениями и рассуждениями, направленными к выявлению степени их достоверности, их источника, их основных ветвей.— В кн.: Жан Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах. М., Изд. АН СССР, 1959, т. И, стр. 593—673.
Questions zoologiques.— В кн.: The Lamark manuscripts at Harward edited by William Morton Wheeler and Thomas, Barbour. Cambridge, Massachusetts. Harward University press, 1933, p. 84—95.
Различные вопросы общебиологического порядка (примерно 1810—1820). «Hist.nat. anim. sans vert.,t. I. Introduction», Paris, Verdiere, 1815,XVI,382. p. «Hist. nat. anim. sans vert., t. I. Introduction». Paris et Londres. Bailliere, 1835, p. 11—325.
Histoire naturelle.— В кн.: The Lamarck manuscripts at Harward edited by William Morton Wheeler and Thomas Barbour. Cambridge, Massachusetts, Harward University press, 1933, p. 96—98.
О значении естественной истории как науки и об ее основных подразделениях. По мнению издателей, рукопись написана Ламарком до 1816 г. L'idee. L'imagination—В кн.: The Lamarck manuscripts at Harward edited by William Morton Wheeler and Thomas Barbour. Cambridge, Massachusetts, Harward University press, 1933, p. 39—74.
Как указывают издатели, текст этих двух рукописей полностью совпадает с текстом статей того же названия, опубликованных в «Nouv. Diet. hist. nat.», P., Deterville, 1817. T. XVI, p. 78—94, p. 126—132.
Естественная история беспозвоночных животных. Введение.— В кн.: Жан Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах. М., Изд. АН СССР, 1959, т. II, стр. 13—297.
Статьи в «Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle», Paris, Mterville, 1817—1818.
Espece.—1817, t. X, p. 441—451.
Faculte.— 1817, t. XI, p. 8—18.
Fonctions organiques.— 1817, t. XI, p. 593—596.
Habitude — 1817, t. XIV, p. 128—138 {859}
Homme.— 1817, t. XV, p. 270—276. Idee.— 1817, t. XVI, p. 78—94. Imagination.— 1817, t. XVI, p. 126—132. Instinct.— 1817, t. XVI, p. 331—343. Intelligence.— 1817, t. XVI, p. 344—360. Irritabilite.— 1817, t. XVI, p. 396—402. Jugement.— 1817, t. XVI, p. 570—579. Nature.—1818, t. XXII, p. 363—399.
Вид.— «Природа», 1940, № 7, стр. 85—89.
То же.— В кн. Жан Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах. М., Изд. АН СССР, 1959, Т. II, стр. 301—312.
Способность.— «Природа», 1940, № 7, стр. 89—93.
То же.— В кн.: Жан Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах. М., Изд. АН СССР, 1959, Т. II, стр. 313—326.
Привычка — В кн.: Жан Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах. М., Изд. АН СССР, 1959, Т. II, стр. 327—340.
Systeme analytique des connaissances positives de l'homme, restreintes a celles qui proviennent directement ou indirectement de 1'observation. Par M. le Chevalier De Lamarck, Membre de l'Academie Royale des Sciences de Paris, de la Legion d'honneur et de plusieurs Societes savantes de l'Europe, Professeur de Zoologie au Museum d'histoire naturelle. Paris, l'auteur, Belin, 1820, 364 p.
Systeme analytique des connaissance positives de l'homme restreintes a celles qui proviennent directement ou indirectement de 1'observation. Par M. le Chevalier De La Marck, Membre de l'Academie Royale des Sciences de Paris, de la Legion d'honneur et de plusieurs Societes savantes de l'Europe, Professeur de Zoologie au Museum d'histoire naturelle. Paris, Bailliere, 1830, 364 p.
Для «издания» 1830 г. была использована оставшаяся нераспроданной
часть тиража издания 1820 г.
Ламарк Ж. Анализ сознательной деятельности человека. Пер, с франц. В. Половцева и В. Симановской. Под ред. П. Лесгафта. СПб., 1899, 182 стр.
То же. — Известия С. Петербургской биологической лаборатории. Т. III— IV, 1899—1900. Т. Ш, 1899, вып. 3, стр. 1—41; вып. 4, стр. 44—78. Т. IV,1900, вып. 1, стр. 79—110, вып. 2, стр. 111—144, вып. 3, стр. 145—179.
Аналитическая система положительных знаний человека, полученных прямо или косвенно из наблюдений.— В кн. Жан Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах. М., Изд. АН СССР, 1959, Т. II, стр. 341—569.
| {860} |
Encyclopedic methodique. Histoire naturelle des vers par J. G. Bruguiere, de Lamarck et G. P. Deshayes. T. I—III. Paris, Panckoucke, 1792—1832, T. 1, pt. 1—1789; pt. 2—1792 par Bruguiere. T. II, pt. 1, pt. 2—1830 par Bruguiere, Lamarck et Deshayes. T. Ill—1832 par Deshayes.
Установление точной даты опубликования отдельных частей «Методической энциклопедии» было предметом кропотливых исследований как зоологов, так и ботаников. Трудность этой работы усугублялась тем, что многие авторы рассматривали части «Энциклопедии» как самостоятельные публикации; помимо того, в ряде случаев дата опубликования не совпадала с датой, указанной на титульном листе томов или выпусков (livraisons). Исчерпывающие данные об авторах разделов зоологии и ботаники, дате опубликования и т. д. в виде таблиц с примечаниями и указанием источников приведены в статьях: Sherborn Davies С. and Woodward В. В.— On the dates of publication of the natural history portions of the «Encyclopedie methodique».— «Ann. Mag. nat. hist.», 7th series, vol. XVII, London, 1906, p. 577—582. Sherborn Davies C. and Woodward В. В.— On the dates of the «Encyclopedie methodique».— «Proc. zool. soc. London», 1893, June 20, p. 582—585. Additional note — там же, 1899, May 2, p. 595. См. также: Roth-maler W. Die Erscheinungsdaten von Lamarck's Encyclopedic.— «Chronica Botanica», 1939, vol. V, No 4/6, p. 438—440.
Шерборн (Sherborn) и Удуорд (Woodward) отмечают, что ни Брюгьер (умер в 1798 г.), ни Ламарк не принимали участия в составлепии третье! о тома, автором которого был один Дезэй (Deshayes).
Tableau encyclo pedique et methodique des trois regnes de la nature: vers tes-taces a coquiiies bivalves. Paris, an VI (1798); Mollusques et polypes divers, 1816 (Agasse), formant suite a l'histoiredesvers de Bruguiere, 1791 (Pancoucke) termine par Rory de Saint-Vincent (1824).
Шерборд и Удуорд указывают, что после смерти Брюгьера труд этот должен был быть завершен Ламарком, и, действительно, под руководством последнего был опубликован ряд таблиц (1814—1816); им же был написан текст к таблицам, начиная с табл. CCCXCI. Продолжателем труда Ламарка был Бори де Сен-Венсан, написавший стр. 138—180 и объяснения к ряду таблиц.
* Observations sur les coquiiies, et sur quelquesr-uns des genres qu on a etablis dans Vordre des vers testaces. Purpurea, Fusus, Murex, Terebra, etc.— «Journ. hist, nat.», 1792, II, p. 260—280.
* Sur quatre especes d'Helices. — «Journ. hist, nat», 1792, II, p. 347—353. Описано по кн. Packard A. Lamarck the founder of evolution. London and
Bombay, 1901, p. 429 («Journal d'histoire naturelle», redige par M.M. Lamarck, {861} Olivier, Bmgiere, Ilaiiy, Pelletier. Vol. I—II. Paris, chez les direc-teurs de l'Imprimerie du Cercle Social, 1792, а также «Choix de memoires sur divers objets d'histoire naturelle» par MM. Lamarck, Bruguiere, Olivier, Haiiy et Pelletier, formant les collections du Journal d'histoire naturelle, Paris, Imprimerie du Cercle Social, 1792, представляют библиографическую редкость даже во Франции).
Extrait d'un memoire sur le genre de la Seiclie, du Calmar et du Poulpc, vulgare-iiient nommes polypes de mer, par le C. Lamarck. Lu a l'lnstitut national le 21 floreal, an VI (1798).— «Bull. soc. philom.», Paris, an VI de la Rep. (1798), thermidor, No 17, p. 129—131.
* Prodrome d'une nouvelle classification des coquilles comprenant une redaction appropriee des caracteres generiques et l'etablissement d'un grand nombre de genres nouveaux. Lu a l'lnstitut national le 21 frimaire, an VII.— «Mem. Soc. hist, nat.», 1799, p. 63—91.
Systeme des animaux sans vertebres, ou tableau general des classes, des ordres el des genres de ces animaux, presentant leurs caracteres essentiels et leur distribution d'apres les considerations de leurs rapports naturels et de leur organisation, et suivant l'arrangement etabli dans les galeries du Museum d'histoire naturelle, parmi leurs depouilles conservees; precede du discours d'ouverture du cours de zoologie, donne dans le Museum national d'histoire naturelle l'an VIII de la Republique. Par J. B. Lamarck de l'lnstitut national de France, l'un des professeurs administrateurs du Museum d'histoire naturelle, des Societes d'histoire naturelle, des pharmaciens et philomatique de Paris, de celle d'agriculture de Seine et Oise etc., Paris, Deterville, an IX (1801). VIII, 432 p.
Avertissement sur l'objet et le plan de cet ouvrage, p. V—VIII. Discours d'ouverture, prononce le 21 floreal an VIII, p. 1—48. Tableau general des divisions et des genres des animaux sans vertebres, p. 49—50. Classe premiere (la 5P du regne animal). Les mollusques, p. 50—142. Classe seconde (la 6e du regne animal). Les crustaces, p. 143—170. Classe troisieme (le 7e du regne animal). Les aracbnides, p. 171—184. Classe quatrieme (la8edu regne animal). Les insectes, p. 185—314. Classe сinquiёme (la 9° du regne animal). Les vers, p. 315—340. Classe sixieme (la 10е du regno animal). Les radiaires, p. 341—356. Classe septieme (la IIе du regne animal). Les polypes, p. 357—397. Addition, p. 398—402. Sur les iossiles, p. 403—412. Krrata, p. 412. Table des noms latins des genres, p. 423—432.
Об ископаемых.— В кн.: Жан Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах. М.. Изд. АН СССР, 19,15, Т. I, стр. 805-810. {862}
Перевод приложения: «Sur les fossiles» к «Syst. anim. sans vert.», Paris, 1801, p. 403—412.
Гидрогеология. (Отрывки из третьей главы). В кн.: Жан Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах. Т. I. M., Изд. АН СССР, 1955, с. 811—825.
[Об изменении поверхности земного шара, перемещении бассейпа морей и о природе и происхождении ископаемых].
Memoire sur laTubicinelle.— «Ann. du Mus. hist, nat.», an XI (1802), t. I, p. 461—464.
Extrait d'un memoire sur LaTubicinelle. Lu a l'assemblee des professeurs du Museum d'histoire naturelle par le Cfitoyeu] Lamarck.— «Bull. Soc. philom.», an XI (1802), No 70, p. 170—171.
Memoires sur les fossiles des environs de Paris, comprenant la determination des especes qui appartiennent aux animaux marins sans vertebres dont la plupart sont figures dans la collection des veiins du Museum.— «Ann. du Mus. hist, nat.», (1802—1806), t. I—VIII.
Premier memoire. Mollusques testacies dont on trouve les depouilles fossiles dans les environs de Paris, an XI (1802), t. I, p. 308—312.
Genre I. Escarbion (Chiton). Genre II. Patelle (Patella). Genre III. Fissurelle (Fissurella).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XI (1802), t. I, p. 383—391.
Genre IV. Emarginule (Emarginula). Genre V. Calyptree (Calyptraea). Genre VI. Cone (Conus). Genre VII. Porcelaine (Cypraea). Genre VIII. Tarriere (Terebel-lum). Genre IX. Olive (Oliva).
См. также: «Ann. du Mus. hist, nat.», t. XV, p. 20—40; 263—286, 422—442; t. XVI, p. 104—108.
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris,— t. I, p. 474—479.
Genre X. Ancille (Ancilla). Genre XI. Volute (Voluta).
См. также: «Ann. du Mus. hist, nat.», t. XVI, p. 302—306; t. XVII, p. 54—80.
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XI (1803), t. II, p. 57—64.
Genre XII. Mitre (Mitra). Genre XIII. Marginelle (Marginella) Genre XIV. Cancellaire (Cancellaria). Genre XV. Pourpre (Purpura).
См. также: «Ann. du Mus. hist, nat.», t. XVII p., 195—222.
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XI (1803), t. II, p. 163—169.
Genre XVI. Buccin (Buccinum). Genre XVII. Vis (Terebra). Genre XVIII.. Harpe (Harpa). Genre XIX. Casque (Cassis). {863}
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris an XI (1803), t. II, p. 217—227.
Genre XX Strombe (Strombus). Genre XXI. Rostellaire (Rostellaria). Genre XXII. Rocher (Murex).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XI (1803), t. II, p. 315—321.
Genre XXIII. Fuseau (Fusus).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XI (1803), t. II, p. 385—391.
Genre XXIII. Fuseau (Fusus) (Continuation). Genre XXIV. Pyrule (Pyrula).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XII (1804), t. Ill, p. 163—170.
Genre XXV. Pleurotome (Pleurotoma).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XII (1804), t. Ill, p. 266—274.
Genre XXV. Pleurotome (Pleurotoma) (Continuation). Genre XXVI. Cerite (Cerithium).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XII (1804), t. Ill, p. 343—352.
Genre XXVI. Cerite (Cerithium) (Continuation).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XII (1804), t. Ul, p. 436—441.
Genre XXVI. Cerite (Cerithium) (Continuation).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XII (1804), t. IV, p. 46—55.
Genre XXVII. Troque ou toupie (Trochus). Genre XXVIII. Cardan (Solarium).
Suite des memoires des fossiles des environs de Paris, an XII (1804), t. IV, p. 105—115.
Genre XXIX. Sabot (Turbo). Genre XXX. Dauphinule (Delphinula). Genre XXXI. Cyclostome (Cyclostoma).
Suite des memoires des fossiles des environs de Paris, an XII (1804), t. IV, p. 212—222.
Genre XXXII. Scalaire (Scalaria). Genre XXXIII. Turritelle (Turritella). Genre XXXIV. Bulle (Bulla).
Suite des memoires des fossiles des environs de Paris, an XII (1804), t. IV, p. 289—298.
Genre XXXV. Bulime (Bulimus). Genre XXXVI. Phasianelle (Phasianella) Genre XXXVII. Lymne (Lymnoea).
Suite des memoires des fossiles des environs de Paris, an XII (1804), t. IV, p. 429—436.
Genre XXXVIII. Melanie (Melania). Genre XXXIX. Auricule (Auricula). {864}
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XIII (1804), t. V, p. 28—36.
Genre XL. Volvaire (Volvaria). Genre XLI. Arapullairc (Anipiillaria). Genre XLM. Planorbe (Planorbis).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XIII (1804), t. V, p. 91—98.
Genre XLllI. Helicine (Heliciiia). Genre XL1V. Nerite (Nerita), Genre XLV. Natice (Natica). Goquillos univalves multilocnlaires, p. 96—98.
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XIII (1804), I. Y, p. 179—188.
Genre XLVI. Nautile (Nautilus). Genre XLVII. Discorhe (l)isoorbis). Genre XLVIII. Rotalie (Hotalia). Genre XLIX. Lonticuline (Lenticnlinn).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XllI (J804), t. Y, p. 237—245.
Genre XLVII. Nummulito (Nummulites). Genre XLVIII. Litiinle (Lituola).
Genre XLIX, Spiroline (Spirolina)*
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XIII (1804), t. V, p. 349—356. Coquilles bivalves, p. 356--357.
Genre L. Miliole (Miliol.i). Genre LI. Reuuline (Henulina). Genre LII. Gyrogone (Gyroffoua).
Suite lies memoires sur les fossiles des environs do Paris, an XllI (1805), t. VI, p. 117—126.
Genre LIII. Piune (Pinna). Genre L1V. Moule (Mytilus). Genre LV. Modiolc (Modiola). Genre LVI. Nucule (Nucula).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XIII (I805), t. VI, p. 214—221.
Genre LV1I. Petoncle (Pectunculus). Genre LV1II. Arche (Area).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XIII (1805), t. VI, p. 337—345.
Genre LIX. Cucullee (Cucullaea). Genre LX. Gardite (Gardita). Genre LXI. Bucarde (Cardium).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, an XllI (1805), t. VI, p. 407—415.
Genro LXII. Crassatelle (Crassatella). Genre LXIII. Mactre (Mactra). Genre LXIV. Erycino (Erycina).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, 1806, f. VII, p. 53—62.
Genre LXIV. Erycine (Erycina) (Continuation). Genre LXV. Venerioarde (Venericardia). Genre LXVI. Venus (Venus). {865}
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, 1806, t. VII, p. 130—132.
Genre LXVI. Venus (Venus) (Continuation). Genre LXVII. Cytheree (Cythe-rea). Genre LXVII I. Donace (Donax).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, 1806, t. VII, p. 231—241.
Genre LXIX. Telline (Tellina). Genre LXX. Lucine (Lucina).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, 1806, t. VII, p, 419—430.
Genre LXXI. Gyclade (Cyclas). Genre LXXII. Solen (Solen). Genre LXXIII. Fistulane (Fistulana).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, 1806, t. VIII, p. 156—166.
Genre LXXIV. Huitre (Ostrea).
Suite des memoires sur les fossiles des environs de Paris, 1806, t. VIII, p. 347—355.
Genre LXXV. Game (Chama). Genre LXXVI. Spondyle (Spondylus). Genre LXXVII. Peigne (Pecten).
Suite des memoires sur le fossiles des environs de Paris, 1806, t. VIII, p. 461—469.
Genre LXXVIII. Lime (Lime). Genre LXXIX. Gorbule (Gorbula).
Memoires sur les fossiles des environs de Paris. Paris, 1806, 284 p. Отдельное издание.
Explication des planches relatives aux coquilles fossiles des environs de Paris.— «Ann. du Mus. hist, nat.», Paris, 1805—1809, t. VI—IX, XII, XIV*.
PI. I(43), II(44), III(45), IV (46), 1805 t. VI, p. 222—228.
PI. V(13), VI (14), VII (15), 1806, t. VII, p. 242—244.
PI. VIII(35), IX(36), X(37), XI(59), ХII(60), ХIII(61), XIV(62), 1806, t. VIII, p. 77—79, 383—388, XIX(31), XX(32).
PL XV(17), XVI(18), XVII(19), XVIII(20), XIX(31), XX(32), 1807, t. IX, p. 236—240, 399—401.
PL XXI (40), XXII (41), XXIII (42), XXIV (43), 1808, t. XII, p. 456—459.
PL XXV(20), XXVI(21), XXVII(22), XXVIII(23), 1809, t. XIV, p. 374—375.
Recueil de planches des coquilles fossiles des environs de Paris. Par M. de La Marck avec leurs explications. On у a joint deux planches des lymnees fossiles, et auties coquilles qui les acoompagnent, des environs de Paris par M. Brard. Ensemb-Je 30 planches gravees en taille-douce. Paris. Dufour et Ocagne. 1823, 30 pi. Альбом гравюр с объяснительным текстом. {866}
Sur la Crenatule, nouveau genre de coquilles.— «Ann. du Mus. hist, nat.», an XII (1804), t. Ill, p. 25—31; pi. 2 (fig. 2, 3, 4).
Sur deux nouveaux genres d insectes (Chrisoscelis, Panops) de la Nouvelle-Hollande.— «Ann. du Mus. hist, nat.», an XII (1804), t. HI, p. 260—265.
Sur une nouvelle espece de Trigonie (Trigonia margaritacea) et sur une nouvelle d'huitre (Ostrea tuberculata) decouvertes dans le voyage du capitaine Baudin.— «Ann. du Mus. hist, nat.», an XII (1804), t. IV, p. 351—359, pi. LXVII, fig. 1, 2.
Sur la Galathee nouveau genre de coquillage bivalve.— «Ann. du Mus. hist, nat.», an XIII (1804), t. V, p. 430—434; pi. 28.
Memoires sur deux especes nouvelles de Volutes des mers de la Nouvelle Hol-ande.— «Ann. du Mus. hist, nat.», an XIII (1804), t. V, p. 154—160, pi. 12.
Sur l'Amphibulime.— «Ann. du Mus. hist, nat.», an XIII (1805) t. VI, p. 303— 306, pi. 55, fig. 1.
Sur la Dicerate, nouveau genre de coquillage bivalve.— «Ann. du Mus. hist, nat.», an XIII (1805), t. VI, p. 298—302, pi. 55, fig. 2.
Sur la division des mollusques aciphales conchylijeres et sur uu nouveau genre de coquille appartenant a cette division. Surl'Etheria, nouveau genre de coquille bivalve de la famille des Camacee.— «Ann. du Mus. hist., nat.», 1807, t. X. p. 389— 408, pi. 29-32.
Sur la determination des especes parmi les animaux sans veriebres et particu-Iierement parmi les mollusques tcstaces.— «Ann. du Mus. hist, nat.», 1810, t. XV, p. 20—40, Cone (Gonus), p. 26—29. Tableau des especes, p. 29— UK
Suite des especes du genre Cone.— «Ann. du Mus. hist, nat.», 1810, t. XV, p. 263—286, 422—442. Porcelaine (Cypraea), p. 443—454.
Suite du genre Porcelaine.— «Ann. du Mus. hist, nat,.», 1810, t. XVJ, p. 89— 114. Porcelaines fossiles, p. 104—108. Ovule (Ovula), p. 109—114.
Suite de la determination des especes des mollusques testaees.— «Ann. du Mus. hist, nat.», t. XVI p. 300—328.
Tarriere (Terebellum), p. 300—302. Ancillaire (Ancillaria) p. 302—306. Olive (Oliva), p. 306—328.
Suite de la determination des especes des mollusques testaci's.—«Ann. du Mus. hist, nat.»., 1811, t. XVII. Volute (Voluta), p. 54—80.
Suite de la determination des especes des mollusques testaces.—«Ann. du Mus. hist, nat.», 1811, t. XVII., Mitre (Mitra), p. 195—222.
Sur les poly piers em pates.— «Ann. du Mus. hist, nat.», 1813, t. XX, p. 294 — 312.
Polypiers empates, p. 295—297. Pinceau (Penicillus), p. 297—298. Flabella-ria (Flabellaria), p. 299—303. Synoique (Synoicum), p. 303—304. Eponge (Spon-gia), p. 305—312.
Suite du memoire intitule: Sur ]es polypiers empates.— «Ann. du Mus. hist, nat.», 181?, t. XX, p. 370—386. Eponge (Spongia). Especes, p. 370—386. {867}
Suite des eponges.— t. XX, p. 432—458.
Suite des polypiers empates, dont l'exposition commence au XX vol. des «Annales», p. 294.— «Mem. du Mus hist, nat.», 1815, t. I, p. 69—80. Tethie (Tethya), p. 69—71. Alcyon (Alcyonium), p. 72—80. Suite des polypiers empates.— «Mem. du Mus. hist, nat », 1815, t. I, p. 162— 168. Alcyon (Alcyonium) (Continuation), p. 162—168.
Suite des polypiers empates.— «Mem. du Mus. hist, nat.», 1815, t. I, p. 331— 340.
Alcyon (Alcyonium) (Continuation), p. 331—332. Geodie (Geodia), p. 333— 334. Sur lesBotryllides, p. 334—335. Botrylle (Botryllus), p. 335—338. Polycyclc (Polycyclus), p. 338—340.
Sur les polypiers corticiferes.—«Mem. du Mus. bist. nat.» 1815, t. I, p. 401 — 416.
Polypiers corticiferes. p. 402—407. Corail (Corallium), p. 407—409. Melite (Melitaea), p. 410—413. Isis (Isis), p. 413—416.
Suite des polypiers corticiferes.— «Mem. du Mus. hist, nat.», 1815, t. I, p. 467—476.
Cymosaire (Cymosaria), p. 467—468. Antipate (Antipathes), p. 469—476. Suite des polypiers corticiferes — «Mem. du Mus. hist, nat.», 1815, t. II, p. 76—84. Gorgone (Gorgonia), p. 76—84.
Suite des polypiers corticiferes.— «Mem. du Mus. hist. nat.». 1815, t. II, p. 157—164.
Gorgone (Gorgonia) (Continuation), p. 157—164.
Suite et fin des polypiers corticiferes.— Mem. du Mus. hist, nat.», t. II, p. 227— 240.
Coralline (Coralline), p. 227—231. Coralline (Corallina) (Especes), p. 231— 240.
Extrait du cours de zoologie du Museum d'histoire naturelle sur les animaux sans vertebres, representant la distribution et la classification de ces animaux, les caracteres des prinoipales divisions, et une simple liste des genres, a l'usage de ceux qui suivent ce cours. Par M. Delamarck, Professeur de Zoologie au Museum d'histoire naturelle... Paris, d'Hautel, Gabon, 1812, 127 p.
Animaux sans vertebres, p. 5—8. Distribution generale et divisions primal-res des animaux, p. 9—10. I. Animaux apathiques, p. 11—43. Сlasse premiere. Les infusoires, p. 13—16. Classe seconde. Les polypes, p. 17— 30. Classe troisieme. Les radiaires, p. 31—37. Classe quatrieme. Les vers, p. 38—43. II. Animaux sensibles, p. 44—96. Classe cinquieme. Les insectes, p. 46—80. Classe sixieme. Les arachnides, p. 81—86. Classe septieme. Les crustaces, p. 87—92. Classe huitiemo. Les annelides, p. 93—96. Classe neuvieme. Les cirrhipedes, p. 97— 98. Classe dixieme. Les mollusques, p. 99—127. {868}
Histoire naturelle des animaux sans vertebres., presentant les caracteres gcne-raux el, particuliers de ces animaux, leur distribution, leurs classes, leurs families, leurs genres, et la citation des principales especes qui s'y rapportent; precedee d'une introduction offrant la determination des caracteres essentiels de d'animal, sa distinction du vegetal et des autres corps naturels; enfin, l'exposi-tion des principes fondamentaux de la zoologie. Par M. le Chevalier de Lamarck, membre de l'lnstitut Royale do France, de la Legion d'honneur, et de plusieurs societes savantes de 1'Europe; Professeur de zoologie du Museum d'histoire naturelle. T. I—VII. Paris, Verdiere, 1815—1822.
T. I. Mars 1815. Avertissement, p. I—XVI. Introduction, p. 1—382. Premiere partie, p. 28—127; deuxieme partie, p. 128—164; troisieme partie, p. 165—212; quatrieme partie, p. 213— 258; cinquieme partie, p. 259—303; sixieme partie, p. 304— 311; septieme partie, p. 342—382. Histoire des animaux sans vertebres, p. 38?—388. Premiere partie. Animaux apathiques, p. 389 — 391. Classe premiere. Les Infusoires (Infusoria), p. 392—450. Supplement a la distribution generale des animaux,concernant l'ordre reel de formation relatif a ces etres, p. 451—462. T. II. Mars 1816. Classe seconde. Les Polypes (Polypi), p. 1—436. Classe troisieme. Les Radiaires (Radiata), p. 437—568. T. III. Aoflt 1816. Les Radiaires (Suite), p. 1—79. Classe quatriёme, Les Tuniciers (Tunicata), p. 80—130. Classe cinquieme. Les Vers, p. 131—234. Animaux sensibles, p. 235—244. Classe sixieme. Les Insectes (Insecta), p. 246—586. T. IV. Mars 1817. Les Insectes. (Suite), p. 1—603. T. V. Juillet 1818. Classe septieme. Les Artichm-des (Arachnidae), p. 1—108. Classe huitieme. Les Crustaces (Crustacea), p. 109—273. Classe neuvieme. Les Annelides (Annelides), p. 273—374. Classe dixieme. Les Cirrhipedes (Cirrhipeda), p. 375—410. Classe onzieme. Les Conchiferes (Conchifera), p. 411—612. T. VI. Premiere partie. Juinl819. Avertissement, p. V—VI. Les Conchiferes (Suite), p. 1—258. Classe douzieme. Les Mollusques (Mollusca), p. 259—343. T. VI. Deuxieme partie. Avril 1822. Les Mollusques (Suite), p. 1—232. T. VII. Aout 1822. Les Mollusques (Suite), p. 1—678. Table des classes et des genres, p. 679 — 696. Index classium et generum, p. 697—711.
Histoire naturelle des animaux sans vertebres, presentant les caracteres gene-raux et particuliers de ces animaux, leur distribution, leurs classes, leurs families, leurs genres, et la citation des principales especes qui s'y rapportent, precede© d'une introduction offrant la determination des caracteres essentiels del'animal, sa distinction du vegetal et des autres eorps naturels; enfin, 1'exposition des principes fondamentaux de la zoologie. Par J. B. P. A. de Lamarck, membre de l'lnstitut de France, Professeur au Museum d'histoire naturelle. Deuxieme edition revue et augmentee de notes presentant des faits nouveaux dont la science s'est enrichie {869} jusqu'a ce jour par MM. G. P. Deshayes et H. Milne Edwards. T. I — XI, Paris — Londres, Bailliere, 1835—1845.
T. I. 1835. Avertissement sur cette nouvelle edition, p. V—VIII. Avertissement de Lamarck, p. 1—10. Introduction, p. 11—32. Premiere partie, p. 33—108; deuxieme partie, p. 109—137; troisieme partie, p. 138—176; quatrieme parti e, p. 177—213; сinquieme partie, p. 214—249; sixieme partie, p. 250—280; septieme partie, p. 281—314. Supplement a la distribution generale des animaux..., p. 314—325. Histoire naturelle des animaux sans vertebres, p. 327 — 332. Premiere partie. Animaux apathiques, p. 332—337. Classe premiere. Les Injusoires p. 337—437. Table des matieres, p. 438—440. T. II. 1836. Histoire des Polypes. Classe seconde. Les Polypes, p. 1—677. Table des matieres, p. 679—683. T. III. 1840. Radiaires. Vers. Insectes. Avertissement par H. Milne Edwards, p. 1—IV. Echinodermes et Tuniciers — revision par Dujardin. Vers intestinaux par Nordmann. Classe troisieme. Les Radiaires, 1—473. Classe quatrieme. Les Tuniciers, p. 473—541. Classe cinquieme Les Vers, 542—
686. Deuxieme partie. Animaux sensibles. Observations, p. 687—693. Classe sixieme. Les Insectes, p. 693—762. Table des matieres, p. 763—770. T. IV. 1835. Histoire des Insectes (Suite), p. 5—773. Table des matieies, p. 774—787, T. V. 1838. Arachnides. Crustaces. Annelides. Cirrhipedes. Classe scptieme. Lcs Arachnides, p. 1—154. Classe huitieme. Les Crustaces, p. 154—498. Classe neuvieme. Les Annelides, p. 499—639. Classe dixieme. Les Cirrhipedes, p. 639 —
687. Tables des matieres, p. 688—699. T. VI. 1835. Histoire des Mollusques. Avertissement par Deshayes, p. I—IV. Classe onzieme. Les Conchiferes, p. 1— 596. Table des matieres, p. 597—600. T. VII. 1836. Histoire des Mollusques. Avertissement, p. V—VI. Les Conchiferes (Suite), p. 1—391. Classe douzieme, Les Mollusques, p. 393 — 731. Table des matieres, p. 733—735. T. VIII. 1838. Les Mollusques (Suite), p. 1—657. Table des matieres, p. 659—660. T. IX,
1843. Les Mollusques (Suite), p. 1—725. Table des matieres, p. 726—728. T. X.
1844. Les Mollusques (Suite), p. 1— 638. Table des matieres, p. 639. T. XI. 1845. Les Mollusques (Suite), p. 1—387. Table des matieres, p. 388—390. Table generale alphabetique de l'histoire naturelle des animaux sans vertebres, p. 391—665.
Histoire naturelle des animaux sans vertebres, presentant les caracteres gene-raux et particuliers de ces animaux, leur distribution, leurs classes, leurs families, leurs genres, et la citation des principales especes qui s'y rapportent, precedee d'un introduction offrant la determination des caracteres essentiels de l'animal, sa distinction du vegetal et des autres corps naturels; enfin, l'exposition des prin-cipes fondamentaux de la zoologie. Par G. B. P. A. de Lamarck, membre de l'ln-stitut de France, Professeur au Museum d'histoire naturelle. Troisieme edition, revue et augmentee de notes presentant des faits nouveaux dont la science s'est enrichie jusqu'a ce jour par MM. G. P. Deshayes et H. Milne Edwards. T. I —III. {870} Bruxelles, Meline et Cans, 1837—1844. T. I. 1837, 677 p. T. II. 1839, 698 p. T. Ill 1-er partie, 1841, 324 p. T. Ill, 2-е partie 1844, p. 325—764.
Это издание полностью воспроизводит предыдущее. Planches preparees, pour les figures des genres qui feront partie de la 1-е edition des «Animaux sans vertebres».— В кн.: The Lamarck manuscripts at Har-ward... Cambridge, Massachusetts, Harward University Press, 1933, p. 195 — 200. Таблицы XIII и XVIII и подписи к табл. I—XIX для первого издания «Hist. nat. anim.sans vert.», выполненные в 1810—1816г. (?), но не использованные для этого издания. Хранятся в рукописном фонде Музея сравнительной зоологии Гарвардского колледжа.
Статьи в «Nouv. Diet. hist, nat.», Paris, Deterville, 1817 — 1818.
Conchifreres.— 1817, t. VII, p. 409—411. Conchyliologie., 1817, t. VII, p. 412—428. Coquillage (Conchylium). 1817, t. VII, p. 547—556. Coquille (Testa).— 1817, t. VII, p. 556—583. Mollusques,— 1818, t. XXI, p. 266—292.
* Flore francoiseou description succinate de toutes les plantes qui croissent naiu-rellement en France, disposee selon une nouvelle methode d'analyse et a laquelle on a joint la citation de leurs vertus les moins equivoques en medecine, et de leur utilite dans les arts par M. le Chevalier de Lamarck. T. I—III. Paris. Imprime-rie Hoyale. 1778.
Содержание приводится ниже по второму изданию, полностью воспроизводящему первое.
Flore francoise ou descriptions succinctes de toutes les plantes qui croissent natu-rellement en France... Par le c[itoyen] Lamarck. Seconde edition. T. I—III. Paris. Agasse. An 3 de la Republique (1795). Tome premier. Extrait des registros de l'Academie Royale des Sciences du 6 Fevrier 1779 (Extrait du rapport fait par MM. Duhamel et Guettard de l'ouvrage de M. de Lamarck intitule «Flore francoise», p. 1—4. Discours preliminaire, p. I — VII). Premiere partie. De l'etat actuel de la botanique..., p. VII—X. Article I. Du peu de fixation des noms que Ton a donnes a certaines parties des plantes, et de la mauvaise determination de plusieurs expressions employees pour exprimer leurs caracteres.p.X—XV. Article II. Des families, des genres, des especes et des varieties, p. XVI—XXX. Seconde partie. De l'insuffisance des moyens qu'on a employes pour faci-liter l'etude en botanique. Article I, p. XXX—XXXII. Des differens arrange-mens qui ont ete amenages pour fair connoitre les plantes,p. XXXIII—XXXVI. Article II. Des systemes et des methodes p. XXXVI—XLIX. Trоisieme pаrtie. De la meilieure maniere de voir et de travailler en botanique, p. XLIX—LVII. {871} Quatrieme partie. Des moyens employes dans cet ouvrage pour faciliter Г etude de la botanique, p. LVIII—LIX. Article premier. De 1'analyse ou des principes d'une methode artificielle..., p. LIX—LXXXVI. Article II. De l'ordre naturel, p. LXXXVII—CXIX. Principes elementaires de botanique..., p. 1—8. Des plantes, de leurs parties constitutives et des termes que Ton emploie pour exprimer leurs caracteres..., p. 8 — 223. Methode analytique..,p. 1—130. Additions, p. 131—132. Table des matieres dans ce volume, p. 132—146. Table des termes latins usites en botanique, p, 147 — 159. Tome second. Avertissement, p. I—IV. Table des principales divisions de cette analyse par le moyen duquel on peut abreger le travail qu'exige la recherche des plantes.., p. 1. Methode analytique, p. 2—660. Tome troisieme. Methode analytique, p. 1—654. Table des noms francais des genres, p. 655—664. Table des noms latins, p. 165—674. На стр. 4 «Extrait» упоминается о том, что Ламарк предполагает выпустить через несколько лет обширный труд, материал для которого им уже собран. Сочинение это будет построено но типу «Flore francaise» и будет называться «Theatre universel de botanique». Намерение это не было им осуществлено.
Flore francaise ou descriptions succinctes de toutes les plantes qui croissent natu-rellement en France, disposers sur une nouvelle methode d'analyse, et precedees par un expose des principes elementaires de la botanique. Par De Lamarck et De Gandollc. 3-me edition. T. I—IV. Paris, Agasse, 1805.
Flore francaise ou descriptions succinctes de toutes les plantes qui croissent naturellement en France.. Troisieme edition, augmentee du tome V ou sixieme volume, contenant 1300 especesnon decrites dans les cinq premiers volumes. Par MM. De Lamarck et De Candolle; ouvrage accompagne d'une grande carte botanique coloriee et ornee de 11 planches contenant environ 200 figs. Paris. Desray, 1815. Tome premier. A. M. De Lamarck, membre de l'lnstitut national et de la Legion d'honneur etc... Lettre de A. P. Decandolle, Docteur en medecine, professeur a l'Academie de Geneve, etc. p. V—XVI. Discours preliminaire de la premiere edition, p. 1—60. Principes elementaires de botanique. Introduction, p. 61—64. Premiere partie. Description des organes des vegetaux, p. 65—159. Seconde partie. Action des organes des vegetaux ou physiologie, p.160—224. Tableau des principales divisions de l'analyse des genres..., p. 224. Methode analytique. Premiere partie. Analyse des genres, p. 1—75. Seconde partie. Analyse desespeces, p. 76—377. Table des noms francais des genres et des families, p. 378—388. 11 planches. Tome second. Carte botanique. Explication de la carte botanique de la France, p. V—XII. Description... des plantes qui croissent... en France. Premiere classe. [Plantes acotyledons, p. 1—545. Seconde classe. Plantes monocotylcdones. Plantes cryptogames, p. 546—591. Additions et corrections du tome II, p. 591—600. Tome troisieme. Monocotyledoncs phanerogames, p. 1—268. Troisieme classe. Plantes dicotyledones, {872} p. 269—718. Additions et corrections, p. 719—731. Tome quatrieme. Premiere partie. Suite des plantes dicotyledones, p.l—400. Seconde partie. p. 401—920. Genres non classes, p. 920—921. Additions et corrections, p. 920—924. Explanation des abbreviations, p. 925—930. Table des noms latins des genres et des families, p. 931—940. Table generate, p. 941—944. Tome cinquieme ou sixieme volume. Lettre a M.De Lamarck, membre de l'lnstitut.etc., de A. P. De Candolle (aofit 1815), p. 1—10. Description succincte des plantes..., p. 1—644. Additional corrections, p. 645—646. Liste supplemental des auteurs qui ont ecrit sur les plantes de la France, p. 647—649. Table latine des genres mentionnes dans le tome cinquieme, p. 650—656. Table rancaise des genres, p. 657—662.
Extrait de la Flore fransaise de M. le Chevalier de la Маrск. Рremiere pаrtie. Analyse des vegetaux pour arriver a la connaissance des genres. Seconde partie contenant l'analyse des genres pour arriver a la connaissance des especes fait par M. et Mme Neret de Saint-Qentin. Paris. Visse, 1792, 313 p. Encyclopédie methodique Botanique. (Dictonnaire de botanique). Par M. le Chevalier de Lamarck. Continuec par Poiret, professeur d'histoire naturelle... T. I—VIII, Supplement T. I—V. Paris, Panckoucke (Agasse, Veuve Agasse), 1783—1817 .T.I, 1783, XLIV, 752 p. (Aal-Chou).— T. II, 1786, 774 p. (Cicca — Gordon). T. HI, 1789, VIII, 759 p. (Gortere — Malva). T. IV, an IV, 764 p. (Mauvisque — Panf-cule) . T. V, an XII (1804), VIII, 748 p. (Pante ou papaya—Pyxidanthere). T. VI, an XII (1804), 786 p. (Quadrangulaire (tige) — Scirpus). T. VII, 1806, 731 p. (Sclerie — Tralliane). T. VIII, 1808, 879 p. (Trefle — Zuccagne). Supplement T. I, 1810, IV, 761 p. (Abalon— Burcharde). Suppl. T. II, 1811, 876 p. (Caa — Gyroselle). Suppl. T. Ill, 1813, 780 p. (Habenaria — Morelle). Suppl. T. IV, 1816, 731 p.(Morene,Hydrocharis—Rynehospora). Suppl. T. V, 1817, 780 p. (Sabal — Xylopicron).
Первые четыре тома написаны Ламарком, но в т. III имеется несколько статей Деруссо (Desrousseaux), в т. IV, кроме Ламарка, в работе принимали участие Деруссо, Савиньи (Savigny) и Пуаре (Poiret). Том V написан Пуаре и Декандолем (De Candolle). Остальные тома VI—VIII включительно, а также все пять томов Supplements написаны Пуаре.
Encyclopedie methodique. Botanique. является частью «Encyclopedie methodique ou par ordre de matieres par une Societe de gens de lettres, de savans, et d'artistes precedeed'un vocabulaire universel, servant de table pour tout ouvrage, ornee de portr. de MM. Diderot et d'Alembert, premiers editeurs de l'Encyclopedie». Paris, Panckoucke, 1781—1832. См. также аннотацию к «Encycl. method.» в разделе «Зоология». {873}
Неполный перечень статей общего характера из первых четырех томов «Encyclopedie methodique. Botanique».
Accroissement (des plantes).—1783, t. I, p. 24—25.
Analyse.— 1783, t. I, p. 142—145.
Botanique (Botanica res herbaria).— 1783, t. I, p. 439—449/
Botaniste (Botanicus).— 1785, t. I, p. 449.
Galice (Calyx.)— 1785, t. I, p. 559—561.
Gayeux.— 1783, t. I, p. 658—659.
Classes (classes plantarum).— 1786, t. II, p. 29—36..
Concordance ou synonimie.— 1786, t. II, p. 75—76.
Corolle (Corolla).— 1786, t. II, p. 117—119.
Couleur (des plantes).— 1786, t. II, p. 143—145.
Espece.— 1786, t. II, p. 394—396.
Etiolement des plantes.— 1786, t. II, p. 398—399;
Feeondation.— 1786, t. II, p. 451—452.
Feuille (Folium).— 1786, t. II, p. 467—473.
Fibres.— 1786, t. II, p. 473—474.
Fleur. Fleurette. Fleuron.—1786, t. II, p. 506—511..
Floraison (Florescentio).— 1786, t. II, p. 511—512.
Foret (Silva) — 1786, t. II, p. 519—521.
Fructification (Frictificatio).— 1786 t. II, p. 563—564'
Fruit (Fructus).— 1786, t. II, p. 564.
Germination.— 1786, t. II, p. 701—702.
Herbes.— 1789, t. Ill, p 111.
Herbier (Herbarium).— 1789, t. Ill, p. 111—116.
Herborisations.— 1789, t. Ill, p. 116—117.
Herboristes.— 1789, t. Ill, p. 117.
Jardin de botanique.— 1789. t. Ill, p. 211—215.
Nomenclature.— [1797?], t. IV p. 498—499.
В статье «Floraison» имеется таблица, указывающая период цветения растений каждого месяца.
Классы растений.— В кн.: Жан Батист Ламарк, Избранные произведения! в двух томах. М., Изд. АН СССР, 1955. Т. I, стр. 782—800.
Вид (Species).— В кн.: Жан Батист Ламарк. Избранные произведения, в двух томах. М., Изд. АН СССР, 1955. Т. I, стр. 779—781:
Tableau encyclopedique et methodique des trois regnes de la nature.Botanique. par De la Marck. Paris, Panckoucke, 1791—1800. {874}
Illustration des genres ou exposition des caracteres de tous les genres des plantes etablis par les botanistes, ranges suivant l'ordre du systeme sexuel de Linnaeus; avec les figures pour l'intelligence des caracteres et ces genres et le tableau de toutes les especes connues qui s'y rapportent et dont on trouve la description dans le Dietionnaire de botanique de l'Encyclopedie. T. I. Paris, Panckoucke, 1791. Preface, p. I—VIII. Introduction, p. IX—XVI. Illustration des genres du systeme sexuel de Linne, p. 1—496. T. II. Paris, Pankoucke, 1793, 551 p. T. Ill, Paris, Agasse, an VIII. Continued par J. L. M. Poirel. Paris, Agasse,1823, 728 p.
Recueil de planches de botanique de V Encyclopedic Paris, Veuve Agasse. 1823. Premiere partie, planches 1—250. Deuxieme partie, planches 251 — 500. Troisieme partie, planches 501—750. Quatrieme partie, planches 751—1000.
См. также: Rothmaler W. Die Erscheinungsdaten von Lamarck's Encyclopedie.— «Chronica Botanica», 1939, vol. V, N 4/6, p. 438—440.
См. также аннотацию к «Encycl. method.» в разделе «Зоология». Memoiresur un nouveau genre de plante nomme Brucea et sur le faux Bresillet d'Amerique.— В кн. Histoire de l'Academie royale des sciences. Annee 1784. Avec les memoires de mathematique et de physique pour la meme annee, tires des registres de cette Academie. Paris, 1787, p. 342—347.
Описание двух видов кустарника рода Brucea: Brucea floribus tetrandris (Brucea antidysenterica), вывезенного из Абиссинии, давно культивируемого в Королевском саду, но до сих пор никем не изученного и Brucea panniculata, также произрастающего в Африке и исследованного Ламарком по гербарным экземплярам. Там же Ламарк описывает мало известные ботаникам американские кустарники Pseudo-brasilium hirsutum и Pseudo-brasilium glabrum, близкие, по его мнению, к названным выше африканским видам.
Memoire sur les classes les plus convenables a etablir parmi les vegetaux, et sur l'analogie de leur nomlre avec celles determinees dans le regne animal, ayaut egard de part et d'autre a la perfection gradueo des organes.— В кн.: Histoire de l'Academie royale des sciences. Annee 1785. Avec les memoires de mathematique et de physique pour la meme annee, tires des registres de cette Academie. Paris, 1788, p. 437—453.
Та же работа под заглавием «Classes», опубликована в «Encycl. method. Bot.», 1786, т. II, стр. 29—36.
Memoire sur le genre du Muscadier (Myristica)— В кн.: Histoire de l'Academie royale des sciences. Annee 1788. Avec les memoires de mathematique et de physique pour la meme annee, tirees des registres de cette Academie. Paris, 1791 Первое точное описание мускатника (Myristica). Составлено Ламарком по экземплярам ветвей этого дерева, выписанных им из Королевского сада Иль-де-Франс. Приводится краткий обзор сведений о мускатпике в трудах {875} старых и современных авторов (Авиценна, Баугин, Линней, Адансои, боннера, Тунберг). Несмотря на то, что плоды этого дерева (мускатные орехи) с давних времен служили предметом колониальной торговли, цветы его либо вовсе не были известны, либо описывались ошибочно. Ламарк дает анализ видовых признаков и синонимику восьми видов мускатника и иллюстрации на отдельных листах (таблицы V—IX).
Instructions aux voyageurs autour du monde, sut les observations les plus essen-tielles a faire en botanique par M. de la Marck.— «Bull. Soc. philom.», 1791, t. I (de juillet a veiitose), p. 8.
Реферат доклада или неопубликованного мемуара Ламарка. Ламарк не советует путешественникам уделять главное впимание открытию и определению новых видов растений. Гораздо более полезным является, по его мнению, детальное исследование известных, но недостаточно изученных растений, в особенности — растений, используемых в медицине, промышленности, искусствах и ремеслах. В заключение он предлагает ответить на ряд специальных вопросов из области анатомии, физиологии и практического применения различных, преимущественно иноземных, растений.
* Sur l'histoire naturelle en general.— Sur la nature des articles de ce journal qui concernent la Botanique. Philosophie botanique. Un nouveau genre de plante: Rothia (Hothia carolinensis, pi. 1).— 1792, I, p. 1—19.
* Philosophie botanique.— 1792, I, p. 81—92. (Description de Mimosa obliqua, p. 89, pi. 5.).
* Sur les travaux de Linne.— 1792, I, p. 136—144
* Sur une nouvelle espece de Vantane:Vantanea parviflora, p. 145, pi. 7—1792, [, p. 144—148.
* Exposition d'un nouveau genre de plante nomme Drapetes.Drapetes muscosus et seq., p. 189, pi. 10, fig. I.— 1792, I, p. 1—190.
* Sur le Pliyllachne. Phyllacbne uliginosa, p. 192, pi. 10, fig. 2.-1792,1, p. 190 — 192.
* Sur THyoseris virginica, p. 222, pi. 12,-1792, I, p. 222—224.
* Sur le genre des Acacies, et particulierement sur l'Acacie heterophille.Mimosa heterophylla, p. 291, pi. 15, 1792, I, p. 288—292.
* Sur les systemes et lesmethodes de botanique et sur l'analyse.— 1792, I, p 300—307.
* Sur une nouvelle espece de Grassette.Pinguiculacampanulata, p. 336, pi. 18, ifig. I.— 1792, I, p. 334—338. {876}
* Sur Г etude des rapports naturels.— 1792, I, p. 361—371.
* Sur les relations dans leur port ou leur aspect,que les plantes de certaines contrees ont entre elles, et sur une nouvelle espece d'Hydropbylle: Hydrophyllum magellanicum, p. 373, pi. 19.— 1792, I, p. 371—376.
* Notice sur quelques plantes rares ou nouvelles, observees dans l'Amerique septentrionale par M. A. Michaux; adressee a la Societe d'bistoire naturelle de Paris par 1'auteur; et redigee avec des observations par M. Lamarck. Ganna i'lava. Pinguicula lutea. Ilex americana. Ilex aestivalis. Ipomaea rubra. Mussaenda frondosa. Kalmia hirsute. Andromeda mariana. A. formosis-sima. — 1792, I, p. 409—419.
* Sur une nouvelle espece de Loranthe: Loranthus cucullaris, p. 444, pi. 23.— 1792, I, p. 444—448.
* Sur le nouveau genre Polycarpea: Polycarpas teneriffae, p.5, pi. 25.— 1792, II, p. 3—8.
* Sur 1'augmentation continuelle de nos connaissances a 1'egard des especes et sur une nouvelle espece de Sauge: Salvia scabiosaefolia, p. 44, pi. 27.— 1792, II, p. 41—47.
* Sur une nouvelle espece de Pectis: Pectis pinnata, p. 150, pi. 31. 1792, II, p. 148—154.
* Sur le nouveau genre Sanvitalia: Sanvitalia procumbens, p. 178, pi. 35.— 1792, II, p. 176—179.
* Sur l'augmentation remarquable des especes dans beaucoup de genres qui n'en offraient depuis longtemps qu'une, et parti culierement sur une nouvelle espece d'Helenium: Helenium caniculatum, p. 213, pi. 35.—1792, II, p. 210—215.
* Sur l'administration forestiere, et sur les qualites individuelles des bois indigenes, ou qui sont acclimates en France; auxquels on a joint la description des bois exotiques, que nous fournit le commerce. Par P. C. Varenne-Tenille, Bourg (Philippon), 1792, 2 vol. — 1792, II, p. 299—301.
Указанные статьи описаны по Packard A. Lamarck the founder of evolution. London and Bombay, 1901, p. 427—429.
Course generate d'observation de la Societe des naturalistes de Paris, du 30 prairial, an V (18 juin 1797).Rapport sur les observations botaniques faite dans cette course par le С Lamarck.— В кн.: The Lamarck manuscripts at Harward... Cambridge, Massachusetts, Harward University Press, 1933, p. 99—100.
Histoire naturelle des vegetaux, classes par families, avec la citation de la classe et de l'ordre de Linne, et l'indication de l'usage que l'on peut faire des plantes dans les arts, le commerce, 1'agriculture, le jardinage, la medecine, etc., des figures dessinees d'apres nature etun genera complet, selon le systeme de Linne avec des renvois aux families naturelles de A. L. de Jussieu. Par J. B. Lamarck de l'ln-stitut nationale de France et Professeur au Museum d'bistoire naturelle et par B. Mirbel, membre de la Societe des sciences, lettres et arts de Paris, {877} Professeur de botanique a A then ее de Paris, T. I—XV. Paris, Deterville, an XI, 1803.
Tome premier. Avis du libraire, p. V — VIII. Table des noms latins qui se trouvent au has des planches avec leur traduction franchise, p. IX — XVI. Discours preliminaire. De la maniere dont les anciens ont traite la botanique, p. 7—27. Seizieme siecle. Epoque des premiers fondemens de la botanique; temps ой Ton commence a la distinguer de la medecine, p. 28 — 52. Dix-septieme siecle. Progres de la botanique jusqu'a Tournefort, p. 52 — 81. Dix-huitieme siecle. Des progres de la botanique jusqu'a 1'epoque actuelle, p. 81—168. Introduction contenant les notions preliminaires, essentielles a 1'etude des vegetaux, p. 169 — 324. Section premiere. Physique des vegetaux, p. 170—173. Parties qui composent 1'organisation des vegetaux, p. 17 3 — 175. Parties solides des vegetaux, p. 175 — 198. Parties fluides des vegetaux, p. 198—202. Sur l'irritabilite attribuee aux vegetaux, p. 202—213. Couleurs des vegetaux et de certaines de leurs parties dans differentes epoques de leur existence, p. 213 — 225. Du nceud vital, p. 225 — 230. Vegetation, p. 231— 237. Naissance et germination des vegetaux, p. 237 — 245. Des principales fonctions organiques des vegetaux, p. 245 — 290. Mort des vegetaux, p. 291—293. L'assimilation fournit plus de principes fixes que la cause des pertes n'en enleve ou n'en fait dissiper, p. 293 — 297. Mort des vegetaux an-nuels, p. 297—302. Resultat de la destruction des vegetaux et de celle de leurs productions, p. 303—324. Tome II. Suite de l'introduction. Principes de botanique, p. 1—9. Des plantes et de leurs parties exterieures, p. 9 — 13. Des organes necessaires au developpement des plantes et a la conservation de leur vie, p. 13—75. Des organes qui concourent a la reproduction des plantes, p. 75 — 194. Floraison, maturation, p. 195—202. Division et distribution des vegetaux. p. 202— 205. Methodes et systomes de botanique, p. 206—217. Families des plantes, p. 217—227. Genres des plantes, pp. 227—255. Distribution naturelle et methodique des vegetaux. p. 256 — 286. Plantes agamiques, p. 286 — 335.
Эти 15 томов составляют шестую и последнюю часть 80-томпого издания: Histoire naturelle de Buffon classee par ordres, genres et especes d'apres le systeme de Linne avec les caracteres generiques et la nomenclature Linneenne par Rene-Richard Gastel, auteur du poeme des Plantes. Nouvelle edition. T. I — LXXX. Paris, imprimerie Grapelet, Deterville, an X(1802) — an XI (1803). Theorie de la terre. Discours generaux sur l'histoire naturelle. Histoire de l'homme. Histoire naturelle des quadrupedes. Histoire naturelle des oiseaux par Buffon, classee par ordres, genres et especes depuis le systeme de Linne par Rene-Richard Castel — 26 vol. Histoire naturelle des mineraux par E. M. Patrin — 5 vol. Histoire naturelle des poissons par Bloch, classee d'apres le systeme de Linne et augmentee des ceta-ces par R. R. Castel —10 vol. Histoire naturelle des reptiles par Sonnini et Latreille — 4 vol. Histoire naturelle des insectes suivant la methode d'Olivier par Tigny et Brongniart — 10 vol. Histoire naturelle des crustaces, des coquilles et {878} des vers par L. A. Bosc — 10 vol. Histoire naturelle des vegetaux ou botanique par J. B. Lamarck et Mirbel — 15 vol.
* Ламарком написаны два первых тома «Hist. nat. vegct.», автором остальных томов является Мирбель.
* Histoire naturelle des vegetaux par J. B. L. Lamarck... et par B. Mirbel. Paris, Verdiere, 1825, vol. 1—15.
Описано по «Catalogue general des livres imprimes de laBibliotheque nationale», t. LXXXVII. Paris, 1926.
Ho Tliieme, H. Bibliographie de la litterature francaise de 1800 a 1930, t. II. Paris, Droz, 1933 и Querard J.M.La France litteraire ou Dictionnaire bibliographi-que des savants... T. IV. Paris, Didot, 1830, 2-е издание «Hist.nat .vegot.»Bbiiuno в изд-ве Verdiere в 1926 г.
Synopsisplantarum in flora Gallica descriptarum; auctoribus J. B. De Lamarck, ex Instituto scientiarum et artium, etc., et A. P. De Candolle, Profess, in Academia Genevensi, etc. Parisiis, Agasse, 1806. XXIV, 432 p.
Lectori,p.nn.Ordinum generumque anomalorum clavis analytica. p. V—XXIV. Synopsis plantarum in flora gallica descriptarum, p. 1—422. Index, p. 423—432.
Естественное и методическое распределение растений.— В кн.: Жан Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах. М., Изд. АН СССР, 1955, Т. I, стр. 826—843.
[Перевод отрывков из второго тома «Hist. nat. des veget.», Paris, Deterville, 1803].
Sur les fossiles et Гinfluence du mouvement des eaux, considered comme indices du deplacement continuel du bassin des mers, et de son transport sur differents points de la surface du globe (Memoirelu a l'lnstitut national le 21 pluviose.an VII). Мемуар опубликован не был.
См. об этом мемуаре в «Hydrogeologie», an X (1802), p. 172.
Hydrogeologie ou recherches sur l'influence qu'ont les eaux sur la surface du globe terrestre; sur les causes de l'existence du bassin des mers, de son deplacement ct de son transport succesif sur les differents points de la surface de ce globe; enfin sur les changements que les corps vivans exercent sur la nature et l'etat de cette surface. Par J. B. Lamarck. Paris, l'auteur, an X (1802), 268 p.
Chap. I. Quelles sont les suites naturelles de l'influence et des mouvements des eaux a la surface du globe terrestre? p. 9 — 25. Chap. II. Pourquoi ia mer a-t-elle constamment un bassin et les limites qui la contiennent et la separent {879} des parties seches du globe,toujours ensaillie au-dessus d'elle? p.26—38. Сhap.III. Le bassin des mers a-t-il toujours ete ou nous le voyons actuellement? Et si Ton trouve des preuves du sejour de la mer dans des lieux ou elle n'est plus, par quelle cause s'y est-elle trouvee et pourquoi n'y est pas encore? p.39—90. Сhap.IV. Quelle est l'influence des corps vivans sur les matieres qui se trouvent a la surface du globe terrestre, et qui composent la croute dont il est partout revetu; et quels sont les resultats generaux de cette influence, p. 91—171. Addition, p. 173—186. Appendice, p. 187—189. Memoire sur la maliere du feu, considered comme instrument chimique dans les analyses, p. 189—224. Memoire sur la matiere du son..., p. 225—258. Table raisonnee des matieres, p. 259—268.
В «Приложении» (Appendice), p. 187—188 Ламарк указывает, что считает весьма полезным перепечатать «Мемуар о материи огня» и «Мемуар о материи звука» в «Гидрогеологии» не только потому,что почти все его мемуары рассеяны в различпых и часто совсем неподходящих журналах, по главным образом, по той причине, что оба эти мемуара весьма близки по своему содержанию к вопросам, рассматриваемым в «Гидрогеологии» или «Физике Земли». Далее он говорит, что задумал написать большой труд, озаглавленный: «Физика Земли». В первую его часть, носящую название «Метеорология», должны войти наиболее существенные наблюдения, опубликованные в вышедших до сих пор томах «Метеорологического ежегодника», а также отдельные мемуары, касающиеся атмосферы. Вторая часть, или собственно «Физика земли», должна охватывать все наблюдения над тем, что происходит на поверхности и в наружной коре земного шара. Наконец, третью часть, или «Биологию», составят исследования о живых телах, послужившие предметом вступительной лекции к курсу зоологии в Музее в IX г. Республики.
Physique terrestre ou recherches sur les causes de Veldt de la surface exterieure du globe terrestre. s. a. (MS 756).
Рукопись под таким названием имеется в Библиотеке Музея естественной истории (Париж).
Гидрогеология (Отрывки из третьей главы).— В кн.: Жан Батист Ламарк. Избранные произведения в двух томах. М., Изд. АН СССР, 1955. Т. I, стр. 811 — 825.
Recherches sur 1'organisation des corps vivans... Paris, l'auteur; Maillard, an X (1802). Appendice. De Vespece parmi les mineraux, p. 149—156. {880}
Considerations sur quelques faits applicables a la theorie du globe, observes par M. Peron dans son voyage aux terres australes et sur quelques questions geologiques qui naissent de la connaissance de ces faits. Lu a l'lnstitut national, Ie 19 frimaire, an XIII.— «Ann. du Mus. hist, nat.», an XIII (1805), t. VI, p. 26 — 52.
Ламарк дает подробное изложение геологической части мемуара Перо-на и подчеркивает, что основные факты, приводимые автором, подтвержда-.ют положения, выдвинутые им самим в «Гидрогеологии».
Мемуар опубликован не был. Подробное изложение его приведено в кн.:
Memoires sur la meteorologie pour servirde suite et de supplement au Traite
de meteorologie publie en 1774 par P.Gotte. Paris, Imprimerie Royale, 1778.
Sentiment de M. Ie Chevalier de la Mark. p. 205— 215. L'evaporatoire t'a cadran de M. Chevalier de la Mark. p. 208, pi. VII.
Как указывает Котт (Gotte), мемуар был зачитан Ламарком на заседании Академии наук в 1777 г. (дату заседания Котт не приводит). Котт присутствовал на этом заседании и в дальнейшем имел возможность детально ознакомиться с рукописью мемуара. Не является ли этот мемуар тем же самым «Memoire sur les vapeurs de l'atmosphere», о котором упоминается в Extrait du rapport fait par MM. Duhamel et Guettard de l'ouvrage de M. de Lamarck, intitule «Flore francoise».См.«Flore francoise», t. I. Paris, 1778; P., 1795, p. 1—4.
* Annuaires meteorologiques. Paris, 1800 — 1810. 11 vols.
Annuaire meteorologique pour Van VIII de la Republique francoise, contenant l'expose des probabilites acquises par une longe suite d'observations sur l'etat du ciel et les variations de l'atmosphere..., chez l'auteur, 1799. Annuaire meteorologique pour Van IX. Paris, 1800. Annuaire meteorologique pour Van X de Гёге de la Republique francaise,
a 1'usage des agriculteurs, des medecins, des marins, etc... Paris, chez l'auteur. Annuaire meteorologique pour Van XI de Гёге de la Republique francaise.
a 1'usage des agriculteurs, des medecins, des marins, etc... Paris, chez l'auteur. Annuaire meteorologique pour Van XII de Гёге de la Republique francaise,
a 1'usage des agriculteurs, des medecins, des marins, etc... Paris, chez l'auteur. Annuaire meteorologique pour Van XIII de Гёге de la Republique francaise, a 1'usage des agriculteurs, des medecins, des marins, etc. Paris, chez l'auteur.
Annuaire meteorologique pour Van XIV,a 1'usage des agriculteurs, des medecins, des marins... Paris, Maillard.
Annuaire meteorologique pour Van 1807, a 1'usage de ceux, qui aiment la jmeteorologie. Paris, Treuttel et Wurtz. {881}
Annuaire meteorologique pour Van 1808, a l'usage de ceux qui aiment la meteorologie... Paris, Treuttel et Wurtz.
Annuaire meteorologique pour Van 1809, a l'usage de ceux qui aiment la meteorologie... Paris, Treuttel et Wurtz.
Annuaire meteorologique pour l'an 1810, a l'usage de ceux qui aiment la meteorologie... Paris, Treuttel et Wtitz.
О «Метеорологических ежегодниках» см. в кн.: Landrieu M. Lamarck le fondateur du transformisme. Paris, 1909, p. 451 — 452. Kepap (Querard J. M. La France liKeiaire ou Dictionnaire bibliographique des savants, t. IV. Paris, Didot, 1830) и Тиме (Thieme H. Bibliographie de la litterature francaise de 1800 a 1930, t. II. Paris, Droz, 1933) приводят следующие данные: Annuaires meteorologiques. Paris. 1800—1811. 11 vols.
De Vinfluence de la lune sur l'atmosphere terrestre. — «Journ. phys., chim., hist, nat.», an 6 (1798), t. XLVI, p. 428 — 435. To же.— «Bull. Soc. philom.», an VI (1798), No 15, prairial, p. 116—118.
Memoire sur le mode de rediger et de noter les observations meteorologiques, afin d'en obtenir les resultats utiles, et sur les considerations que l'on doit avoir en vue pour cet objet.— «Journ. phys., chim., hist, nat.», an IX (1801), vol. LI, frlmaire, p. 419—426 avec deux planches et explications.
Recherches sur la periodicite presumee des principales variations de Vatmosphere et sur les moyens de s'assurer de son existence et de sa determination lues a l'Institut national de France le 26 ventose, an IX.—«Journ. phys., chim., hist, nat.», 1801, t. LII, p. 296—316.
Premier moyen: emploi d'une correspondence meteorologique, p. 301—303. Second moyen: emploi d'un mode approprie d'annotation, p. 303—305. Troisicme moyen: emploi d'un mode raisonne de recherches, p. 305 — 306. Inegalite des constitutions atmospheriques..., p. 306—310. Resultats, principe, p. 310 — 316.
Recherches sur la periodicite presumee des principales variations de l'atmosphere et sur les moyens de sassurer de son existence et de sa determination, lues a l'Institut national de France le 26 ventose,an IX,par le citoyen Lamarck, s. 1. s. d. 19 p.
Отдельное издание.
Refutation des resultats obtenus par le citoyen Cotte dans ses recherches sur Vinfluence des constitutions lunaires, et imprimes dans le Journal de physique, mois de fructidor, an IX. — «Journ. phys., chim., hist, nat.», an IX (1801), t. LIII, vendemiaire, p. 277 — 283.
Sur la distinction des tempetes d'avec les orages, les ouragans et sur le caractere du vent desastreux du 18 brumaire an IX. Lu a l'Institut national le 11 Frimaire, an IX. — «Journal phys., chim., hist, nat.», an IX (1801), t. LII, p. 377— 382.
Sur la distinction des tempetes d'avec les orages, les ouragans et sur le caractere {882} du vent desastreux du 8 brumaire, an IX. Lu a l'lnstitut nationalle lc 11 frimaire, an IX, par Lamarck. Paris, Perronneau, s. d., 6 p.
Sur les variations de l'etat du ciel dans les latitudes moyennes entre l'equateur et le pole, et sur les principales causes qui у donnent lieu. Lu a l'lnstitut national le 27 frimaire, an X.— «Journ. phys., chim., hist, nat.», an XI (1803), t. LVI, plu-viose, p. 114—138.
Considerations preliminaires, p. 114—119. Article premier. De l'etat naturel de Г atmosphere terrestre et de l'ordre progressif de chaleur et des densites decroissantes de bas en haut, qui existe alors dans les couches atmospheri-ques, p. 119—125. Article II. Des causes directes qui produisent les variations de l'etat du ciel, p. 125—128. Article III. De l'influence des vents sur l'etat du ciel dans nos latitudes et de la cause qui leur donne la puissance d'ope-rer toutes les mutations qu'on у observe dans cet etat, p. 128—136. Resume, p. 136—137. Postscriptum, p. 138.
Sur les variations de l'etat du ciel. Lu a la classe des sciences mathematiques et physiques de l'lnstitut national dans les seances des 17 frimaire, 1 et 8 nivose, an XI. Paris, Peronneau, s. d. 26 p.
[Meteorologie].— «LeMoniteur», an XI, 22 thermidor (10 aout 1803), p. 1431 — 1432.
Статья без заголовка в разделе «Mpteorologie». О накоплении запасов тепла в атмосфере и о периодическом(с 24 июля по 24 августа) появлении «дней жары» («jours de chaleur») и «термических дней» («jours thermiques») (с 20 мессидора по 20 термидора). О возможности предсказания влажного и дождливого лета. О значении гроз.
Sur la secheresse de Vete de Van XI.— «Le Moniteur», an XI, No 363, mardi, 3-е jour complementaire (20 sept. 1803), p. 1591—1592.
Au redacteur. — «Le Moniteur», an XIII, 1805, No 362, jeudi, 2e jour supplem. (19 sept. 1805), p. 1497.
Письмо Ламарка от 30 фруктидора 1805 г. в ответ на статью Лаланда по поводу причин бури, пронесшейся 4 июля 1805 г. над Рейнской областью, Лионом и Лондоном.
Sur la tempete du 18 frimaire dernier, qui a cause de grands desastres dans la Manche, et sur celle du 30 du тёте mois. — «Le Moniteur», 1806, No 22, 22 Janvier, mercredi, p. 91.
Sur la tempete du 18 jevrier courant, qui a cause dans la Manche quantity d'accidens fdcheux. — «Le Moniteur», 1807, No 59, 28 fevrier, samedi, p. 230.
Ламарк высказывает предположения относительно причин бури, разразившейся 18 февраля 1807 г., и подчеркивает необходимость серьезного изучения причин этого рода катастрофических бедствий. Au redacteur.— «Le Moniteur», 1807, No 62, 3 mars, mardi, p. 242.
Письмо Ламарка от 1 марта 1807 г. о возможных причинах бури, разразившейся {883} 18 февраля 1807 г. О влиянии луны на состояние земной атмосферы. Ламарк предлагает Лаланду обосновать высказанное им в печати отрицательное отношение к этой теории. [Meteorologie].— «Le Moniteur», 1808, No 52, 21 fevrier, p. 209.
Статья без заголовка. О влиянии луны на состояние атмосферы и о возможности предусмотреть появление катастрофических атмосферных явлений.
Статьи в «Nouv. Diet. hist, nat.b, Paris, Diterville, 1818. Meteores.— 1818, t. XX, p. 416—444. Les nuages, p. 418 — 424; les pluics p. 424—425; la neige, p. 425—426; la grele, p. 426 — 429; les brouillards, p. 429—430; le serein, p. 430; la rosee, p. 430; les vents, p. 431—434; les tempetes, p. 434—436; les orages et leurs varietes, p. 436—444.
Meteorologie.— 1818, t. XX, p. 451—477. Essai d'une etude propre a com-mencer la meteorologie, a lui assigner des bases et une direction favorable a ses progres, p. 453—457. Theorie de l'auteur, p. 457 — 467. Ce que fit l'auteur pour commencer l'etude de la meteorologie, p. 467 — 473. Ge qui a eu lieu a l'egard de-l'auteur, concernant son etude de la meteorologie, p. 473 — 477.
Recherches sur les causes des principaux faits physiques et particulieremcnt sur celles de la combustion, de 1'elevation de l'eau dans l'etat de vapeurs; de la chalcur produite par le frottement des corps solides entreeux; de la chaleur qui se rend sensible dans des decompositions subites, dans les effervescences et dans le corps de beaucoup d'animaux pendant la duree de leur vie; de la causticite, de la saveur, et de l'odeur de certains composes;de la couleur des corps, de l'origine des composes et de tous les mineraux; enfin de l'entretien de la vie des etres organiques, de leur accroissement, de leur etat de vigueur, de leur depcrissement et de leur mort. Par J. B. Lamarck, Professeur de Zoologie au Museum national d'histoire naturelle. T. I — XVI, 375 p , T. II — 412 p.,avec une planche. Paris, Maradan, an II (1794).
T. I. Au peuple frangais, p. V — VI. Avertissement, p. VII — XVI. Disconrs preHmiiiaire, p. 1—18. Introduction, p. 19 — 63. Premiere partie. Le feu. Articles I—VI, p. 64—314. Conclusion de la premiere partie, p. 314—315. Corollaires, p. 315 — 342. Appendix, p. 343—368. Table des matieres, p. 369 — 375. T. II. Seсоnde partie. Recherches sur ce qu'on nomme affinite chimique, p. 1 — 131. Troisieme partie. Recherches sur la couleur des corps, p. 132—183. Quatrieme partie. Recherches sur les etres organiques, p. 184 — 270. Cinquieme partie. Recherches sur l'origine des composes et sur ce qui constitue essentiellement leur nature, en general, p. 271 — 387. Propositions principales qui font le fondement de la nouvelle theorie exposee dans cet ouvrage, p. 388—400. Observations physiques sur l'ехplosiou du magasin a poudre de la plaine deGrenelle, arrivee le 14 fructidor, l'an {884} second de la Republique francaise, p. 401—402. Table des princi pales matieres contenues dans le second volume, p. 403—412.
В приложении (о взрыве порохового склада в Гренеле) Ламарк возвращается к рассмотрению огня в его «природном состоянии» («etat naturel»), т. е. в том состоянии, когда он неспособен производить тепло, расширять тела и излучать свет, иными словами, когда он образует «материю звука». В предисловии (Avertissement, p. VII) Ламарк указывает, что труд этот был написан им примерно за 18 лет до его опубликования (в 1776 г.), представлен в Парижскую академию наук 22 апреля 1780 г., но академии ничего не было известпо о нем, кроме названия, так как рецензенты [соmmissaires] умышленно затягивали представление отчета, по причинам, останавливаться на которых в настоящем предисловии Ламарк не считает нужным.
Refutation de la theorie pneumatique ou de la nouvelle doctrine des chimistes modernes, presentee, article par article, dans une suite de reponses aux principes rassembles et publies par le citoyen Fourcroy dans sa Philosophie chimique, precedee d'un supplement complementaire de la theorie exposee dans l'ouvrage intitule: Recherches sur les causes des principaux faits physiques, auquel celui-ci fait suite et devient necessaire. Par J. B. Lamarck, de l'lnstitut national de France, Paris, Agasse, an IV (1796), 484 p.
Avant-propos, p. 1 — 8. Supplement complementaire de la theorie pyrotique (Article I — VII), p. 9 — 61. Refutation des principes de la theorie pneumatique, exposee dans l'ouvrage intitule: Philosophie chimique, ou verites fondamentales de la chimie moderne, p. 65 — 77. Theorie pneumatique. Des titres qui divisent cet ouvrage. Tous les faits, toutes les experiences de la chimie peuvent etre rapportes a douze phenomenes generaux: I. L'action de la lumiere. II. Gelle du calorique. III. L'action de l'air dans la combustion. IV. La nature et Taction de l'eau. V. Celles des terres et la formation des alkalis; leur role dans les combinaisons. VI. La nature et les proprietes des corps combustibles. VII. La formation et la decomposition des acides. VIII. L'union des acides avec les terres et les alkalis. IX. Oxidation it la dissolution des metaux. X. La nature et la formation des matieres vegetales.
XI. Le passage des vegetaux a Tetal de matieres animales, et la nature de celles-ci.
XII. Enfin la decomposition spontanee des substances vegetales et animales, p. 78. Theorie pyrotique, p. 79 — 481. Conclusion, p. 482 — 484.
На обороте титульного листа слова: «Исправление укоренившихся ошибок столь же ценно, как и открытие новых истин». Перед разделом «Опровержение принципов пневматической теории» слова: «Факты — это основное научное богатство физики. Они не зависят от теории и их необходимо тщательно отличать от нее».
* Memoires presentant les bases d'une nouvelle theorie physique et chimique, fondee sur la consideration des molecules essentielles des composes, et sur celle {885} des trois etats principaux du feu dans la nature, servant en outre de developpement a l'ouvrage intitule: «Refutation de la theorie pneumatique». Par J. B. Lamarck, Paris, l'auteur, 1797, 412 p.
Memoires de physique et d'histoire naturelle, etablis sur les bases de raisonne-ment independent de toutes theories; avec l'explication de nouvelles considerations sur la cause generale des dissolutions; sur la matiere du feu; sur la couleur des corps; sur la formation des composes; sur l'origine des mineraux, et sur 1'organisation des corps vivants. Lu a la premiere classe de l'Institut national dans les seances ordinaires par J. B. Lamarck, membre de l'Institut. Paris, l'auteur, Agasse, Maradan, an V (1797), 6, 410, 8 p.
Discours prononce a l'Institut le 26 vendemiaire, an V: Lamarck aux membres composants la premiere classe de l'Institut national, p. 3 — 6. Premier memoire. Lu a la premiere classe de l'Institut le 6 fructidor, an IV; et relu a la meme classe le 21 vendemiaire, an V, pour en discuter les principes. Sur les molecules essentielles des composes et sur l'invariabilite de leur forme et l'unite ou identite de leur nature, p. 7 — 26. Second memoire. Lu a l'Institut le 6 brumaire. Sur le resultat des alterations que la nature ou l'art peuvent faire subir aux molecules essentielles des composes, p. 27—48. Troisieme memoire. Lu a l'Institut le 11 frimaire. Sur Г etat de combinaison des principes dans les differens molecules essentielles des composes, et sur quelques faits remar-quables dependants de cet etat, p. 49—69. Supplement au troisieme memoire. Sur la formation d'une echelle chromometrique, с'est a dire, d'une serie graduee de couleurs naturelles rangees dans l'ordre fixe de leur developpement; et sur la distinction de celles qui sont formees d'un melange de couleurs naturelles deplacees de leur ordre, p. 70—87. Quatrieme memoire. Lu a l'Institut le 6 nivose. Sur la tendance naturelle qu'ont les molecules essentielles des composes a se detruire, p. 88 — 110. Cinquieme memoire [s. d.]. Sur la veritable cause des dissolutions, c'est-a-dire, sur celle des decompositions et des combinaisons singulieres qui se forment dans certains cas, par les resultats de-la tendance des molecules essentielles des composes a se detruire, p. 111 — 130. Sixieme memoire [s. d.] Sur la matiere du feu, p. 131 — 237. Article I: Du feu ethere ou du feulibre dans son etat nalurel, p. 135 — 143, p. 229 — 230. Article II: Du feu fixe ou du feu considere dans son etat de combinaison, p. 144—148, p. 230 — 231. Du feu carbonique ou du feu fixe des composes parfaits, radical des matieres combustibles, p. 148 — 152, p. 231 —232. Du feu acidifique ou du feu fixe des composes imparfaits, radical des matieres salines, p. 152 — 170, p.232—233. Article III: Du feu calorique ou du feu libre, dans un etat d'expansion, p. 171 — 188, p. 233 — 237. De la combustion, p. 188—201. Hypothese des chimistes pneumatiques sur la combustion, p. 201—209. De la calcination, p. 209—212. De l'elevation de l'eau en vapeurs par le feu calorique, p. 213 — 224. Sur l'utilite de presenter en un tableau les modifications et les effets des principaux {886} etats du feu dans la nature, p. 225 — 227. Conclusion, p. 228 — 237. Septieme memоire [s. d.]. Sur les resultats des facultes organiques des corps vivans; cause-premiere de Vexistence de tous les composes et sur 1'analyse que la nature opere sans cesse de tout compose que ne maintient point la vie; cause secondaire de tous les composes inorganigues qui existent, p. 238— 315; avec deux planches: classification generale des animaux; distribution des animaux invertebres ou a sang blaiie. Article I. Theorie des etres vivans, p. 249 — 316. Article II: Theorie des corps bruts, avecun tableau des corps bruts, p. 316 — 358. Conclusion, p. 359 — 367. Resume general, p. 368 — 392. Erreurs remarquables sur Iesquelles reposent les principes de la theorie pneumatique, p. 393—403. Additions essentielles, p. 404— 407. Observations relatives a la composition et a l'objet de ces memoires, p. 408 — 410. Table, p. nn. Discours prononce a la Societe philomatiquele 23 floreal, anV par le citoyen Lamarck, inembre de cette Societe; en lui presentent ces memoires, p. 1—8.
Sur les molecules essentielles des composes, Memoire lu a l'lnstitut le 6 frnctio-dor. Relu le 21 vendemiaire, an V (1797).— В кн.: Rapport general des travaux de la Societe philomatiqne de Paris, depuis le 1-er Janvier 1792, jusqu'au 23 frimaire de l'an VI de la Republique. Par le citoyen Silvestre de cette Societe... Paris, Fuchs, an 6 de la Rep. franc. (1798), 272 p. См. р. 56 — 57:
«Le citoyen Lamarck a lu plusieurs memoires consecutifs sur les molecules essentielles des composes, sur l'invariabilite de leurs formes, et sur 1'unite ou l'identite de leur nature...».
Memoire sur la mati'ere du feu, consideree comme instrument chimique dans les analyses.— «Journ. phys., chim., hist.nat.», an VII, t. XLVIII, floreal, p. 345— 361. To же: «Hydrogeologie», Paris, an X (1802), p 189 — 224.
Memoire sur la mati'ere du son, par Lamarck, lu a l'lnstitut national, le 16 brumaire, an VIII et Ie 26 du meme mois. P., Belin, s. d., 16 p. Extr. du «Journ. de phys.», frimaire, an VIII.
Memoire sur la mati'ere du son. Lu a l'lnstitut national, le 16 brumaire, an VIII et le 26 du meme mois.— «Journ. phys., chim., hist, nat.», an VIII, t. XLIX, p. 397 — 412. To же: «Hydrogeologie», P., an X (1802), p. 225 — 258.
* Considerations en faveur du Chevalier de la March, ancien officier au regiment de Beaujolais, de l'Academie royale des sciences, botaniste du Roi, attache au cabinet d'histoire naturelle. Paris, Gueffier, 1789, 7 p. {887}
Описано по «Catalogue general des livres imprimes de la Bibliotheque natio-nale», t. LXXXVII. Paris, 1926.
* Memoire sur le projet du Comite des finances relatif a la suppression de la place de botaniste, attachee au cabinet d'histoire naturelle. Paris, Gueffier, s. a., 10 p. Источник тот же.
Voyages du professeur Pallas dans plusieurs provinces de l'Empire de Russie et dans l'Asie septentrionale; traduits de l'allemand par le c[itoyen] Gauthier de la Peyronie. Nouvelle edition. Appendix, contenant les descriptions des animaux et des vegetaux observes dans les voyages du professeur Pallas, et cites ou mentionnes dans les volumes precedens, avec des notes et observations par le c[itoyen] Lamarck, professeur de zoologie du Museum national d'histoire naturelle. Paris, Maradan, an Il de la Republique.
В настоящем восьмитомном (втором) французском издании (пер. с немецкого языка) «Путешествия по разным провинциям Российского государства» П. С. Палласа Ламарку принадлежит редакция всего естественно-исторического материала, дополнения и предисловие к т. VII. Отмечая в предисловии огромное значение этого капитального труда, содержащего множество исчерпывающих сведений о естественных богатствах, о горной промышленности, земледелии, животноводстве, флоре и фауне обширных не обследованных до сих пор территорий, Ламарк высказывает сожаление по поводу того, что в области ботаники, особенно в начале своего путешествия, Паллас не обладал достаточным практическим опытом в определении растений. Многие уже давно хорошо известные ботаникам виды он описывает как «новые»; с другой стороны, множество растений, которые, без сомнения, должны были встретиться ему на пути (папоротники, мхи, лишайники и др.), совершенно ускользнули от его внимания. Дополнения, сделанные Ламарком, сосредоточены в т. VIII — Appendix (прибавление). Они даются после каждого здесь же помещенного примечания Палласа и заключают описание отличительных признаков данного вида животных или растений, позволяющие безошибочно отличать каждый из них от ранее известных видов, синонимику, облегчающую распознавание объектов, и краткое описание особенностей данного вида.
Voyages de С. P. Thunberg au Japon, par le Cap de Bonne Esperance, Iesiles de la Sonde, etc. Traduits, rediges et augmented de notes considerables sur la religion, le gouvernement, le commerce, l'industrie, et les langues de ces difierentes contrees, particulierement sur le Javan et le Malai par L. Langles, conservateur des manuscrits orientaux de la Bihliotheque nationale, etc., et revus, quant a la partie d'histoire naturelle, par J. B. Lamark, Professeur de l'entomologie et d'helmentologie au Museum national d'histoire naturelle. Avec des planches. T.I — IV. Paris, Dandre, chez Garner, an IV (1796). T. I—XLIV, 417 p. T. II—VIII, 430 p. T. III—VI, 445 p. T. IV—XII, 462p. Explication des figures, avec des notes descriptives etdes renvois dansle corps de l'ouvrage par le citoyen Lamarck, тр. 348—358.
В переведенном на французский язык «Путешествии в Японию» Тунберга (Carl Peter Thunberg, 1743—1828) Ламарку принадлежат многочисленные ботанические и зоологические примечания, а также объяснение восьми таблиц (синонимика и т. д. животных и растений).
Rapport des professeurs du Museum sur les collections d'histoire naturelle rapportees d'Egypte par Geoffroy. — «Ann. du Mus. hist. nat.», an XI (1802). T. I, p. 234 — 241. (Signe: G. Guvier, Lamarck et B. G. E. Lacepede).
Extrait des registres de la classe des sciences physiques et mathematiques de l'institut. Seance du lundi 6 ventose, an XIII (Lamarck, Jussieu commissaires)B кн.: Jaume St. Hilaire. Exposition des families naturelles et de la germination des plantes. T. I — II, Paris-Strassburg, Treuttel et Wiirtz, An XIII (1805). T. I — LXIII, 512 p. T. II — 12 planches.
Ламарк и Жюссье дают весьма положительный отзыв о работе Жом Сент-Илера (Jaume Saint-Hilaire Jean Henry, 1772—1845) и предлагают Национальному Институту (Отд. физич. и матем. наук) рекомендовать автору продолжать исследованияЕв области физиологии растений [physique des plantes], в особенности — по прорастанию скрытосеменных. Recherches asiatiques, ou memoires de la Societe etablie au Bengale pour faire des recherches sur l'histoire et les antiquites, les arts, les sciences et la littcrature de l'Asie. Traduits de 1'anglais par A. Labaume, revus et augmentes de notes pour la partie orientale, philologique et historique par M. Langles, Membre de l'lnstitut. etc, et pour la partie des sciences exactes et naturelles par MM. Guvier, Delambre, Lamarck et Olivier, Membre de l'institut, etc., T. I—II, Paris, l'lmprimerie imperiale, an XIV (1805).
Примечания Ламарка см. в Memoire V. Remarques sur l'ile d'Hinzouan ou Johanna par Ie President. T. II, p. 130—160 и в Memoire XXII. Idee d'un ouvrage sur les plantes del'Inde par le President.— Ibid., p. 384—391.
* Rapport a MM. les professeurs-administrateurs du Museum d'histoire naturelle sur les collections d'histoire naturelle que M. Lescbenault de La Tour a rapportees de son voyage a Java, de 1803 a 1807. (Signe: Lamarck, Desfontaines, Guvier, 14 octobre 1807). Paris, Belin, s. d.
Описано по «Catalogue general des livres imprimes de la Bibliotheque national», t. LXXXVII, Paris, 1926.
Rapport fait a la premiere Classe de l'institut par MM de Lamarck et Cuvier. sur un memoire de M. de Montegre concernant les lombrics. Institut de France. Classe des sciences physiques et mathematiques. Paris, le 6 decembre, 1813.
По мнению Ламарка, особое значение рецензируемой работы Монтэгра (Montegre): «Observations sur les lombrics ou vers de terre presentees a la premiere classe de l'institut de France le 30 aout 1813 par M. de Montegre, docteur-medecin de la Faculte de Paris...» — tMem. du Mus, hist, nat.», 1815,t. I, p. 242 — 252, plate (6 figs.), заключается в том, что автор, не ограничиваясь {889} наблюдениями над особенностями размножения дождевых червей, приводит интересные новые данные об их внутреннем строении. Ламарк подчеркивает, что для зоолога важнее всего изучать внутреннюю организацию животных, сравнивать их на этой основе и определять место, принадлежащее каждому из них в системе животного царства в целом.
Memoires sur les animaux sans vertebres par Jules Cesar Savigny, membre de l'lnstitut d'Egypte et de la Legion d'honneur. Premiere partie. Description et classification des animaux invertebres et articules, connus sous le nom de crustaces, d'insectes, d'annelides, etc. Paris, Dufour, Janvier 1816, V, 117 p VIII planches. Seconde partie. Description et classification des animaux invertebres, non articules, sous les noms de mollusques, de radiaires, de polypes, etc. Paris; Deterville, 1816, VI, 239 p.
В первой части названной книги два мемуара: 1) о ротовых органах насекомых; 2) о ротовых органах паукообразных. Первый из мемуаров был предметом рассмотрения Ламарка и Боска: Rapport fait a la classe des sciences mathematiques et physiques le 25 octobre 1814 et imprime parmi les memoires de l'lnstitut. Commissaires MM. Bosc et de Lamarck. В этом отчете-Ламарк отмечает заслугу Савиньи, доказавшего гомологию частей ротового аппарата у различных представителей членистых животных. Савиньи приводит выдержки из отчета. Во второй части—три мемуара, два из них — об альциониумах, третий — об асцидиях. Рецензентами их были Ламарк и Кювье, давшие о них весьма положительный отзыв. Этот отчет — Rapport a la classe des sciences del'Institiut sur deux memoires relatifs a divers animaux composes, places fusqu'a present parmi les alcyons et a d'autres animaux analogues. Signe: Cuvier, De Lamarck, le 8 mai 1815, приводится на стр. 67—81.
Об интересе Ламарка к работам Савиньи свидетельствует тот факт, что в рукописном фонде Библиотеки Музея естественной истории (Париж) имеются рукописи Ламарка (MS 751) — выдержки из второго мемуара первой части и из первого и второго мемуаров второй части упомянутой выше работы Савиньи.
* Bosc Louis Augustin Guillaume. Histoire naturelle des coquilles contenant leur description, les moeurs des animaux qui les habitent et leurs usages avec fig. dessinees d'apres nature. Vol. I—V. 3me ed., augmentee d'une table alphabetique-de toutes les especes mentionnees dans cet ouvrage avec les synonimies de M. Lamarck. Paris, Verdiere, 1836. (1-е ed.— Paris, an. X)
Описано по «Catalogue general des livres imprimes de la Bibliotheque national», t. LXXXVII. Paris, 1926.
| {890} |

Аристотель I — 267, 708; II — 102
Бартез (Barthez P. J.) II — 102, 370
Бартелеми (Barthelemy J. J.) I — 365
Вша (Bichat M. Г.) I — 480
Бовуа (de Beauvois P.) I — 801
Боме (Baume A.) I — 800
Бонне (Bonnet Ch.) I — 197, 476; II — 111
Борелли (Borelli G. A.) II — 102
Бриссон (Brisson M. J.) I — 209
Брюгьер (Bruguiere J. G.) I — 224, 269
Бэкон (Bacon F.) I — 720; II — 536
Бюффон (Buffon G.) I — 73
Ван-Ройен (Van-Royen A.) I — 789
Вольтер (Voltaire F. M.) II — 249, 536
Borne (Vaucher J.) 11 — 101
Галлер (von Haller A.) II — 85, 182, 504
Галлуа (Le Hallois J. J.) II — 82, 183, 197, 198
Галль (Gall F. J.) I — 590, 599, 716, 717
Гара (Garat D. J.) I — 137
Гаюи (Haiiy R. J.) II — 48
Гельвеций (Helvetius C. A.) I — 476
Герман (Hermann J.) I — 61
Гертнер (Gaertner J.) I — 831
Демаре (Desmarest A. G.) II — 287
Доден (Daudin F. M.) II — 102
Дюмериль (Dumeril A. M.) I — 403
Жоффруа Сент-Илер (Geoffroy Saint-Hilaire E.) I — 100, 101, 236, 804
Жюссье (Jussieu A. L.) I — 207, 786, 787, 789, 794, 834, 835
Кабапис (Cabanis P. G.) I — 194, 444, 476, 478, 495, 508, 614, 652, 670, 688, 689, 748, 762—764
Кетсби (Catesby M.) 1 — 803
Кондильяк (Condillac E. B.) I — 127, 443, 476, 720, 723, 731, 732
Кювье (Cuvier G.) I — 240, 270, 271, 308, 599; II — 113, 193
Лавуазье (Lavoisier A. L.) I — 533
Ласепед (Lacepede B. G.) 1 — 73
Латрейль (Latreiile P. A.) II — 123
Левентук (Leeuwenhoek A.) I — 522
Лезюер (Lesueur Ch. A.) II — 287
Линней (Linne C.) I — 27, 136, 207, 209, 224, 267—269, 313, 411, 563, 783, 788, 790, 830, 835
Локк (Locke J.) 1 — 476, 708, 720, 756; II — 529
Менар (Menard) II — 309
Мирбель (Brisseau-Mirbel Ch. F.) I — 831
Монтень (Montaigne M.) II — 536
Монтескье (Montesquieu Ch.) II — 536
Морисон (Morison J. A.) I — 79
Нэжон (Naigeon J. A.) I — 708
Оливье (Olivier G. A.) I — 27, 69, 345; II — 309
Пеллетье де Сен Фаржо (Pelletier de
Saint-Fargeau), I — 156
Перон (Регоп Fr.) II — 309
Пил (Peale Ch. W.) I — 801 {891}
Реди (Redi Fr.) I — 522
Реомюр (Reaumur R. A.) II — 421
Ршперан (Richerand В. А.) I — 426, 457, 467, 495, 506, 541, 542, 634, 655, 731
Руссо (Rousseau J. J.) II — 249, 404
Савинья (Savigny M. J.) II — 287
Сервантес (Cervantes M.) II — 176
Спалланчани (Spallanzani L.) I — 470
Спикс (Spix J. B.) I — 376, 377
Тенон (Tenon J. R.) 1 — 348
Траси (Destutt de Tracy A. L.) I — 723
Турнефор (Tournefort J. P.) 1 — 272, 783, 830
Фабрициус (Fabricius J. Ch.) I — 207
Фенелон (Fenelon) II — 536
Фужеру (Fougeroux A. D.) I — 799
Шпурцгейм (Spurzheim) I — 590, 599
Эбреар (Hebreard) I — 648
* «Philosophie zoologique», ч. II, стр. 467.
* Разве не осмеливались даже утверждать, что земной шар, так же как и различные небесные тела, представляет собой живое тело? Разве не осмеливались отождествлять природу с существами, наделенными жизнью, смешивая органическое явление жизни, всегда наделяющее одними и теми же способностями тела, в которых оно наблюдается, с движением, распространенным во всех частях природы!11
* Возможно, что существуют и другие очень тонкие флюиды, не способные быть содержимым, которые мы но умеем еще распознавать или отличать; однако я отношу свет к числу упомянутых мною флюидов с некоторым сомнением, так как этот вид материи не является исключительной принадлежностью нашей планеты и так как эта материя вряд ли (представляет собой флюид, поскольку ее частицы движутся только по прямой линии.
* Видовая индивидуальность живых тел всегда бывает представлена массой, образующейся в результате определенного сочетания и расположения различных составных молекул; она может быть либо простой, либо сложной.
Видовая индивидуальность является простой, если она выражена в теле в его целом; она является сложной, если само тело состоит из соединенных между собой индивидуумов.
У большей части растений, как и у многих полипов, индивидуальность явно сложная: она определяется соединенными друг с другом, но различными отдельными индивидуумами, обычно образующими общее тело, не имеющее собственной индивидуальности.
* В моей «Philosophie zoologique» (ч. I, стр. 469) я показал, что жизнь во всяком теле, которое ею наделено, обусловлена существованием в его частях порядка и состояния вещей, допускающих в нем органические или жизненные движения, которые, несмотря на это, осуществляются только при действии возбуждающей причины.
Таким образом, жизнь в теле заключается в последовательном ряде возбужденных движений, которые возобновляются и поддерживаются в нем до тех пор, пока это допускается порядком и состоянием вещей в его частях и пока существует причина, их возбуждающая. Итак, следует отличать в живом теле одновременное существование этих двух условий, необходимых для того, чтобы могло иметь место явление жизни.
* Отсюда следует исключить, так называемые самопроизвольные зарождения, т. е. те, которые природа производит непосредственно как у истоков каждого из органических царств, так и, быть может, при возникновении отдельных их ответвлений.
* Утверждали, что жизнь есть совокупность функций, но это ошибка; функции являются не чем иным, как проявлениями организации и ее частей. Поэтому ни жизнь, ни сама организация не являются и не могут быть функциями. Жизнь — лишь причина, а организация — лишь совокупность средств, обусловливающих то, что выполняют функции.
* Те растения, у которых наблюдаются те или иные движения, выполняют их исключительно под влиянием механических, гигрометрических или пирометрических причин. У одних эти движения настолько медленны, что они совершенно не заметны; у других, у которых они легко видимы и носят характер внезапных движений, они происходят вследствие уменьшения напряжения, или спадания, частой и не могут ни повторяться, ни проявляться во всякое время.
** Так как движения флюидов в растениях происходят главным образом по двум противоположным направлениям, то в результате этого напоминающие сосуды трубки этих тел обыкновенно располагаются параллельно одни другим, а также продольной оси, как стеблей и стволов, так и ветвей или веточек, черешков и цветоножек. Это параллельное расположение не наблюдается только в тех частях, из которых развиваются листья, цветы и плоды.
* Растения, по-видимому, обязаны этой особенностью роста теплороду и электричеству окружающей среды. Эти тонкие флюиды, которые с большим трудом проходят через воздух, чем через влажные тела большей проводимости нежели воздух, устремляются к стеблям растений в направлении, возможно более близком к вертикальному, и сообщают это направление, особенно в продолжение дня, движению соков, подымаемых корнями.
* Растения из семейства дрожалок, преимущественно осциллятории Вошеpa36, могут служить примером таких существ, но нет сомнения в том, что они являются растениями. У этих живых тел совершенно отсутствует раздражимость, производимые ими колебательные движения всегда чрезвычайно медленны и никогда не происходят внезапно. Эти движения становятся более или менее заметными под влиянием изменений температуры, и никакие особые возбуждения не могут их изменить. См. Vaucher. HistoiTedes conferves, стр. 163 и след.
* Быть может, мне будут возражать, приводя в качестве исключения из выдвинутого мной положения, что в веществах, находящихся в состоянии брожения, происходят движения под влиянием возбуждения. Утверждение это ошибочно, ибо, не говоря уже о том, что тела, находящиеся в состоянии брожения, разрушаются, что не имеет места при движении животных, я вообще не вижу никаких оснований для сравнения в каком бы то ни было отношении движений тел при брожении с движениями, возбужденными у животных, ибо ни одна из частей этих тел но обладает сократимостью.
* См. статью «Animal» в «Dictionnaire des sciences naturelles», стр. 161.
* Предполагать, что монада, гидра и т. д. обладают выдающейся способностью чувствовать, несмотря на то, что невозможно найти у этих существ сложную систему органов, которая одна только и может обусловить эту способность,— вот мысль, противоречащая законам организации и тому пути, по которому природа должна была следовать во всем, что она создает.
* Многие животные обнаруживают в некоторых своих органах такую степень совершенства и такое развитие способностей этих органов, которые недостижимы для тех же органов человека. Тем не менее организация человека в целом по своему совершенству превосходит организацию всех прочих животных. Это положение совершенно неоспоримо.
Мы еще настолько далеки от истинных представлений о природе и состоянии животных, что, по мнению многих зоологов, все живые тела, каждое в своем роде, в одинаковой мере совершенны, поэтому выражения: «совершенные» и «несовершенные» животные кажутся им просто смешными! Они не понимают того, что при помощи этих выражений хотят выделить, с одной стороны, животных, которые по числу, силе и значимости своих способностей приближаются в некотором роде к человеку и, с другой — тех животных, которые вследствие крайней ограниченности их способностей бесконечно далеки от предела совершенства, примером которого служит человек!
Кто не знает, что всякое живое тело, каково бы оно ни было, представляет собой, на той ступени организации, на которой оно находится, подлинно совершенное существо, т. е. существо, обеспеченное всем тем, что ему необходимо. Но природа, непрерывно усложняя организацию животных, должна была вследствие этого наделить тех животных, которые обладают наиболее сложной организацией, более многочисленными и более выдающимися способностями и это завершение ее усилий можно рассматривать как предел совершенства, от которого постепенно отдаляются животные, не достигшие его43.
* Мне кажется, что недостаток наблюдений и неизученность тех средств, которыми пользуется природа, привели к серьезной ошибке в вопросе о причине как своеобразия привычек насекомых, так и необыкновенной живости движений некоторых из этих животных. Вместо того чтобы приписывать эти факты более совершенной организации насекомых и способу их дыхания — причинам, которые можно распространить на всех животных этого класса,— я замечу по этому поводу, что те простые особенности, на которые я хочу указать, вполне достаточны для объяснения этих фактов. Я докажу, что хотя насекомые и лишены умственных способностей, они могут иметь восприятия, обладают памятью, внутренним чувством и организацией, видоизмененной привычками. Всего этого вполне достаточно для того, чтобы заставить их выполнять все те действия, которые мы у них наблюдаем. Особенности, присущие некоторым из них, о которых речь была выше, весьма отличающиеся в зависимости от пород, отнюдь не свойственны всем этим животным. В самом деле, если существуют насекомые, способные выполнять движения, отличающиеся необыкновенной живостью, то известны среди них и такие, у которых эти движения крайне медленны. Помимо того, даже среди инфузорий мы находим животных, способных производить чрезвычайно быстрые движения, между тем как среди млекопитающих встречаются породы животных, которые могут выполнять лишь очень медленные движения. Укажу, наконец, что те своеобразные сложные действия, к которым прибегают некоторые насекомые различных пород и которые рассматривались как проявление их инстинкта, в сущности представляют собой не что иное, как результат привычек, усвоенных ими под влиянием обстоятельств,— привычек, изменивших организацию этих пород таким образом, что новые особи каждого поколения способны лишь повторять одни я те же действия.
* Принципы, вытекающие из этого положения, будут подробно рассмотрены в шестой части настоящего «Введения».
* «Philosophie zoologique», ч. I, стр. 331.
* Без сомнения, нельзя приписывать какой бы то ни было материи, как таковой, способность порождать движения57 и способность обладать свойствами притяжения и отталкивания; не приходится также сомневаться в том, что наблюдаемая у некоторых тел способность отталкиваться от других тел или стремиться отталкивать одну от другой частицы этих тел при проникновении в промежутки между ними, является лишь результатом изменения места или состояния этих тол. Исходя из этого, я понял, что известные нам свойства теплорода не только не могут быть постоянно присущи ему, но, несомненно, являются лишь преходящими его свойствами, так что этот флюид, в сущности, является теплородом только от случая к случаю.
Изучая все, что нам известно относительно него, я понял причины сжатия особого флюида, способного становиться теплородом. Я вскоре выяснил все то, что этот флюид может, в зависимости от той или иной степени его расширения, Произвести в своем преходящем состоянии, и без труда сопоставил эти выводы со всем тем, что наблюдения показали нам относительно него.
Мои первоначальные соображения, касающиеся этого предмета, приведены в моих «Recherches sur les causes des principaux faits physiques» (№ 332—338). Более систематическое изложение моей теории огня опубликовано в «Memorres de physique et d'histoire naturelle» (стр. 185—200). По всей вероятности, рано или поздно эти работы обратят на себя внимание, особенно после того, как будут исследованы основы господствующих в настоящее время гипотез, тормозящих истинный прогресс физики.
* Поскольку раздражимость является способностью, присущей всем вообще животным, она не требует для своего осуществления никакого специального органа. Природа или химический состав вещества этих тел один только, как мне кажется, может обусловить рассматриваемое явление.
Наблюдая гальванические явления, я замечаю следующее: если приложить к языку две пластинки различных металлов, то возникает особое ощущение в тот самый момент, когда они соприкасаются. Явление это может повторяться столько раз подряд, сколько раз производят такого рода контакт. И вот я полагаю, что живое вещество животного происхождения может испытывать, если не в точности гальваническое действие, то действие, вероятно, весьма близкое к нему, В самом деле, эти вещества, по причине своего химического состава, оказываются всецело наполненными и в некотором роде растянутыми каким-либо тонким флюидом, который улетучивается из них при каждом соприкосновении с посторонним телом и тем самым заставляет их внезапно сокращаться. Улетучивание этого тонкого флюида может быть возмещено мгновенно. Следовательно, для того чтобы явление раздражимости животных могло иметь место, не нужен какой-либо специальный орган.
* Я уже говорил, что мысль — явление чисто физического порядка, представляющее собой результат функции органа, способного его производить. В самом деле, нет ничего более обычного, особенно у человека, чем действие мысли как на внутреннее чувство, так и на различные внутренние органы, в зависимости от того или иного характера данной мысли, А так как воображение слагается из мыслей, то невозможно даже представить себе, до какого предела мысль может действовать на наши внутренние органы и как сильны могут быть вызываемые ею воздействия.
Найдется ли мужчина, которому не было бы знакомо впечатление, производимое видом молодой прекрасной женщины, и даже мысль, воспроизводящая ее образ в его воображении, когда она сама уже не находится перед его глазами? Кому по известны пагубные последствия сильного испуга, потрясающей новости, а иногда даже внезапной сильной радости? Кто не понимает также, что все это составляет те положительные, хотя и имеющие границы истины, которые лежат в основе того, что называют животным магнетизмом, где все, что в нем есть реального, является результатом действия воображения на наши внутренние органы, но чему невежды и, быть может, шарлатаны приписывают некую силу, которая нам представляется одновременно и противоестественной и смешной?
* Не следует удивляться тому, что с возрастом наши вкусы и склонности постепенно, хотя и незаметно, меняются, ибо хорошо известно, что когда изменяется состояние наших органов, мы уже и чувствуем совершенно по-иному.
* «Я никогда не соглашусь,— говорят многие,— что существует флюид, который я сам никогда не видел и который, насколько мне известно, вообще никому не удалось видеть! Правда, наблюдающиеся у животных явления, на которые при этом ссылаются, происходят так, как если бы этот флюид действительно существовал и был их причиной. Однако этого еще недостаточно, чтобы заставить признать его существование».
А сколько есть важных истин, к которым мы можем прийти лишь индуктивным путем, при посредстве множества выводов, подтверждающих их. Эти истины пришлось бы отвергнуть, если бы потребовались непосредственные доказательства, которые природа столь часто делает для нас недоступными. Ведь физики признают существование магнитного флюида! И если отрицать реальность этого флюида лишь на том основании, что его никто ни разу не видел, то как объяснить тогда явления, происходящие в магните, компасе и т. д.? Ведь этот флюид узнается только по его действиям! Да и, кроме того, известно, что существует еще много других флюидов, которых мы не имели возможности видеть.
* По причинам, из которых многие уже известны, флюиды наших главных систем органов, в особенности флюиды кровеносной системы, переносятся в большем или меньшем количестве то к верхнему, то к нижнему концу тела, то ко всем точкам его наружной поверхности. Таким образом, несмотря на то, что эти флюиды помещаются в особых трубках или внутри соответствующих органов и не могут выйти за пределы боковых стенок последних, флюиды многих систем органов связаны между собой благодаря сообщению, существующему между этими системами. Это позволяет им воспринимать импульсы или возбуждения также общего характера, в результате чего в кровеносной система происходят те особые и хорошо известные приливы, о которых я уже говорил, а в нервной системе — возбуждения общего характера, словом,— эмоции внутреннего чувства, столь замечательные по их могущественному действию на наши органы.
* «Rapport sur les progres des sciences naturelles, depuis 1789», стр. 164.
** «Dictionnaire des sciences naturelles», т. II, стр. 167.
* Что же представляет собой это образовательное стремление («nisus formativus») — выражение, которым пользовались, чтобы объяснить как общие факты развития и изменения живых тел, так и частные факты, относящиеся к физической истории человека и известных разновидностей его вида? Что такое, в самом деле, это образовательное стремление, о котором идет речь, если не все то же могущественное начало самой природы, на которое я указал?!
* Отсюда понятно, насколько заблуждался Вольтер в своих «Вопросах Энциклопедии», а также те философы, которые разделяли его взгляды, когда они приписывали богу то бессилие, то злую волю, когда дело шло о всяких бедствиях и нарушениях, о которых мы говорили. Эти философы считали злом или нарушением то, что присуще самой природе вещей, т. е. то, что является лишь результатом общего и постоянного порядка, тех или иных изменений, упадка, разрушения и восстановления всякого рода тел. Жан-Жак Руссо опроверг Вольтера, выдвигая на первый план чувство; он сделал бы это еще более убедительно, если бы признал общий порядок, установленный в различных частях вселенной всемогущим творцом всего существующего95.
* Известно, что при каком-либо повреждении или ранении тела сама природа прилагает усилия для его излечения, и роль даже самого искусного врача сводится к тому, что своими лекарствами он лишь помогает ей в этом деле. Известно также, что результаты действий природы в этом отношении всецело зависят от того или иного состояния поврежденного тела, так что в одних случаях заживление бывает быстрым и полным, в других — протекает медленно и оказывается неполным или даже (вовсе не наступает. Известно, наконец, что природа достигает излечения больного тела, используя свои законы и что, используя другие свои законы, она сама вызывает в теле нарушения, которые обычно сопровождают те или иные повреждения,— там, где обстоятельства не позволяют ей исцелить их. Итак, все деяния природы подвластны обстоятельствам, и для проявления их она требует определенного времени.
* У молодых индивидуумов ассимиляция, а следовательно, и питание осуществляются с таким избытком, что при этом не только полностью возмещаются потери, но, кроме того, отлагающийся в соответствующих местах излишек питательных веществ вызывает рост индивидуума. В дальнейшем, избыток питания постепенно уменьшается, и в определенный период жизни индивидуума он уже оказывается исчерпанным. Питание может при этих условиях только обеспечить восстановление потерь и мало-помалу становится все более и более недостаточным; силы падают, органы утрачивают свою гибкость, емкость сосудов постепенно уменьшается, и так как порядок вещей, необходимый для выполнения жизненных движений, до известной степени оказывается нарушенным, то малейшей неблагоприятной случайности достаточно, чтобы положить предел жизни.
* См. в «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», т. I, стр. 139 и особенно в примечании к этой странице, изложение моих взглядов по этому вопросу, а также в § 332—338 моих «Memoires de physique et d'histoire naturelle» основные положения теории огня. Этот вопрос имеет слишком большое значение, чтобы можно было пренебречь рассмотрением всех взглядов, которые могут всесторонне его осветить. Материи огня, в каком бы состоянии она ни была, несомненно, принадлежит огромная роль в большинство наблюдаемых нами явлений.
* Сказанное распространяется даже на человека, несмотря на то, что способность видоизменять свои действия развита у него чрезвычайно сильно.
* Человек, ослепленный эгоизмом, становится недостаточно предусмотрительным даже в том, что касается его собственных интересов: вследствие своей склонности извлекать наслаждение из всего, что находится в его распоряжении, одним словом — вследствие беззаботного отношения к будущему а равнодушия к себе подобным, он сам как бы способствует уничтожению средств к самосохранению и тем самым — истреблению своего вида. Ради минутной прихоти он уничтожает полезные растения, защищающие почву, что влечет за собой ее бесплодие и высыхание источников, вытесняет обитавших вблизи них животных, находивших здесь средства к существованию, так что обширные пространства земли, некогда очень плодородные и густо населенные разного рода живыми существами, превращаются в обнаженные, бесплодные и необитаемые пустыни. Подчиняясь своим страстям, не обращая внимания ни на какие указания опыта, он находится в состоянии постоянной войны с себе подобными, везде и под любым предлогом истребляя их, вследствие чего народности, весьма многочисленные в прошлом, мало-помалу исчезают с лица земли. Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания46.
* Что же представляет собой это образовательное стремление (nisus formativus) — выражение, которым пользовались для того, чтобы объяснить как общие факты развития и изменения живых тел, так и частные факты, относящиеся к физической истории человека и известных разновидностей его вида? Что такое, в самом деле, это образовательное стремление, о котором идет речь, если не все то же могущественное действенное начало самой природы, на которое я указал?!
* Понятно, что здесь речь идет о потребностях, касающихся отдельных индивидуумов, ибо существуют группы индивидуумов, которые испытывают вполне реальные потребности, однако последние не являются потребностями физическими.
* Кому не известно, какие серьезные нарушения может произвести эмоция, вызванная сильным страхом?
* Как но признать первой и главной наукой ту, предметом которой является изучение природы и ее созданий, науку, от которой происходят и с которой связаны все остальные науки! Не удивительно ли, что эта столь важная паука до сих пор известна под одним лишь названием (естественной истории) и что изучение ее даже не начато? Не удивительно ли, что исследователи тратят свои силы на детальное разграничение объектов, их формы, числа, состава и положения их частей, между тем как сама природа, ее средства, ее законы остаются в забвении!
* Ф.Энгельс. Диалектика природы. М., 1952, стр. 36.
* К. Маркс. Избранные произведения, т. I. M., 1937, стр. 302, 310.
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVIII, стр. 328.
* «Аналитическая система», гл. I. См. этот том, стр. 357.
** «Способность». См. этот том, стр. 324.
* «Аналитическая система», гл. П. См. этот том. стр. 378—379.
* Ф. Энгельс. Диалектика природы, стр. 44.
** В. И. Ленин. Сочинения, т. 14, стр. 156.
* Ламеттри. Избранные сочинения. М., 1925, стр. 53.
** П. Гольбах. Система природы. М., 1940, стр. 18 и 21—22.
*** Ламеттри. Избранные сочинения, стр. 53.
**** Д. Дидро. Избранные атеистические произведения. М., 1956, стр. 169—170. Хочется сопоставить с этим прекрасные слова А. Н. Радищева: «Итак, показав неосновательность мнения о бездействии вещественности, мы тем самым показали, что движение от нее неотделимо» (Избранные философские сочинения, М., 1949, стр. 325).
* В. И. Ленин. Сочинения, т. 14, стр. 162.
** «Вид». См. этот том, стр. 313.
* «Аналитическая система». См. этот том, стр. 435 и 567.
** «Введение». См. этот том, стр. 249.
* «Аналитическая система», раздел П. См. этот том, стр. 406.
* Landrieu. Lamark — le fondateur du transformisme. 1909, стр. 387 и 420.
* Lamarck. Hydrogeologie. Berlin, 1805, стр. VI.
* Ж. Кювье. Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара. М.—Л., 1937, стр. 83.
* Ф. Энгельс. Диалектика природы, стр. 9
** Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах. М., 1939, стр. 37—38.
* «Вступительная лекция 1802 г.» См. Избранные произведения, т. I, стр. 39.
** «Вступительная лекция 1806 г.» См. Избранные произведения, т. I, стр. 110.
* «Аналитическая система», раздел II, гл. 2. См. этот том, стр. 419.
* «Философия зоологии». См. Избранные произведения, т. I, стр. 560. Разрядка наша.—И. П.
* Ф. Энгельс. Диалектика природы, стр. 244.
* «Способность». См. этот том, стр. 314.
* «Аналитическая система», раздел III. См. этот том, стр. 527.
** «Философия зоологии». См. избранные произведения, т. I, стр. 532, 535.
* «Философия зоологии». См. Избранные произведения, т. I, стр. 365.
* К. А. Тимирязев. Сочинения, т. VI, стр. 89.
** «Mem. Acad. Sci. Paris», 1769, стр. 31.
* Lacepede. Histoire des poissons, t. Ill, Paris, 1798—1802, стр. LXIII— LXIV.
** Дидро. Избранные сочинения, т. I, стр. 166.
* Избранные произведения, т. I, стр. 76.
** Там же, стр. 93.
* Избранные произведения, т. I, стр. 205—206.
** К. А. Тимирязев. Сочинения, т. VI, стр. 105.
*** М. А. Максимович. Систематика растений. М., 1831, стр, 37—38.
* Е. L. Geoffrоу. Histoire abregee des insectes etc., t. I, Paris, 1762, стр. XIV—XV.
* См. этот том, стр. 312.
* А. Н. Радищев. Избранные философские произведения. М., 1949, стр. 361.
* «Flore francoise» т. I, стр. XCIV.
* Избранные произведения, т. I, стр. 782—800.
* «Histoire naturelle des animaux sans vertebres», т. 3. 1816, стр. 81—82.
* Сuviеr. Lemons d'anatomie comparee, т. I. 1800, стр. 59—60.
* Dictionnaire des sciences naturelles, т. I. 1804, стр. XXXIII.
* И. Е. Амлинский. Жоффруа Сент-Илер и его борьба против Кювье. М.. 1955.
* «Вступительная лекция 1800 г.» — Избранные произведения, т. I, стр. 15, 21
* «Философия зоологии».— Избранные произведения; т. I, стр. 27.
* «Вступительная лекция 1800 г.» — Избранные произведения, т. I, стр. 16.
* «Философия зоологии».— Избранные произведения, т. I, стр. 341—342.
** «Введение» в «Естественную историю беспозвоночных животных», ч. 3. См. этот том, стр. 146.
* Обзор многих из названных работ и указание источников можно найти в ст.: С. Z i r k 1 е. The inheritance of acquired characters and the provisional hypothesis of pangenesis.— Am. Nat., 1935, JV» 724; 1936, № 731.
* «Аналитическая система». См. этот том, стр. 515.
* «Вступительная лекция 1806 г.» — Избранные произведения, т. I, стр. 124.
** «Философия зоологии».— Избранные произведения, т. I, стр. 365.
*** «Введение». См. этот том, стр. 148;
* «Введение». См. этот том, стр. 148.
* «Вступительная лекция 1800 г.» — Избранные произведения, т. I, стр. 22.
** «Философия зоологии».— Избранные произведения, т. I, стр. 296. Если первую часть приведенного отрывка можно было бы истолковать как неудачное образное выражение, то вторая часть звучит совершенно телеологично.
* «Введение». См. этот том, стр. 248.
* К. А. Тимирязев. Сочинения, т. VII, стр. 225.
** Первая цитата — из письма Ф. Энгельсу от 19 декабря I860 г.— К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения, т. XXII, стр. 551; вторая — из письма Лассалю от 16 января 1861 г.— К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. М., 1948, стр. 121. (Курсив наш.— И. П.)
* Избранные произведения, т. I, стр. 590.
* Избранные произведения, т. I, етр. 598.
* И. М. Сеченов. Избранные труды. М., 1935, стр. 209.
* И. М. Сеченов. Избранные труды, стр. 257.
* Избранные произведения, т. I, стр. 644.
** Там же, стр. 645.
* В. Л. Комаров. Избранные сочинения, т. I. M., 1945, стр. 508.
* Избранные произведения, т. I, стр. 708.
** Там же.
*** См. этот том, стр. 527.
* Избранные произведения, т. I, стр. 655.
* Избранные произведения, т. I, стр. 662.
* Избранные произведения, т. I, стр. 670.
* Избранные произведения, т. I, стр. 677.
** Там же, стр. 690.
* Избранные произведения, т. I, стр. 731.
* Избранные произведения, т. I, стр. 718.
** Там же, стр. 738.
* Нумерация примечаний проведена не сквозная, а раздельно к «Введению», к «Статьям из нового словаря» Детервилля, к «Аналитической системе» и к «Дополнительным материалам». Поэтому в случаях, когда мы в том или ином примечании делаем ссылку на другое примечание, мы рядом с его номером указываем: к «Введению», к «Статьям», к «Системе», к «Дополнениям». Во многих случаях, чтобы избежать ненужных повторений, делаются ссылки на примечания к первому тому настоящего издания избранных сочинений Ламарка (М., 1955). В этих случаях указывается так: «см. т. I, стр....., примечание...».
Все примечания помечены в тексте цифрой, стоящей над строчкой, В конце каждого примечания цифра курсивом обозначает ту страницу текста, к которой данное примечание относится. Примечания, подписанные буквой Г, написаны С. Г. Геллерштейном, подписанные буквой Ю,— A. В. Юдиной.
* Римскими цифрами в оригинале обозначены таблицы, относящиеся к «Memoires sur les fossiles des environs de Paris», арабскими — порядковые номера таблиц соответствующего тома. — Ю.
* Порядковые номера родов XLVII, XLVIII, XLIX ошибочно повторяются в оригинале. — Ю.
| {892} |
ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ
Страница |
Строка |
Напечатано |
Должно быть |
858 |
9, 16, 21—22 св. |
edited |
edited |
876 |
13—12 сн. |
evolution |
evolution |
884 |
2 сн. |
presentant |
presentants |