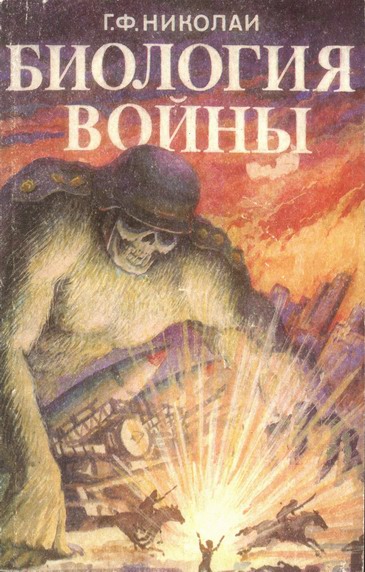

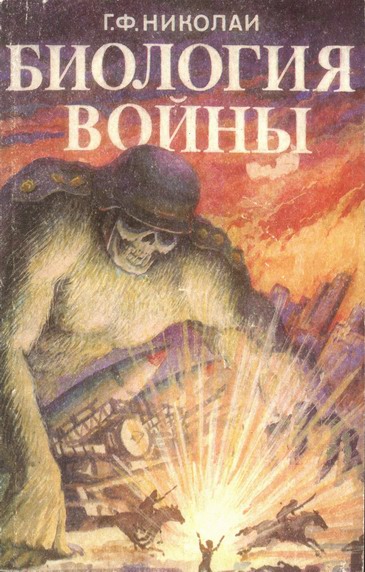

| {1} |
Г.Ф.НИКОЛАИ
БИОЛОГИЯ ВОЙНЫ
(МЫСЛИ ЕСТЕСТВОВЕДА)
ПРЕДИСЛОВИЕ
РОМЕНА РОЛЛАНА
ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Г.Г.ГЕНКЕЛЯ
|
«МАНУСКРИПТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| {2} |
ISBN 5-87593-006-3 |
© Манускрипт, 1995 |
| {3} |
Сегодня мы являемся свидетелями и участниками создания поликультурного открытого общества и, вместе с тем, наблюдаем, что все большее число людей ревниво оберегает свои национальные, расовые и культурные традиции. Конфликты на этой почве стали почти повсеместными. Некоторые из них едва заметны, но другие нередко перерастают в вооруженные столкновения и локальные войны, перед жестокостью которых меркнет даже угроза глобальной мировой войны.
Чтобы избежать разрешение подобных конфликтов с помощью оружия необходимо еще раз задуматься над характером войн в XX веке. Во многом поможет этому книга Г. Николаи. Издательство «Манускрипт» воспроизводит без изменений русский перевод 1926 года, в котором сокращено все то, что относится к исторической ситуации в Германии 1914—1919 гг. Тем самым читатель получает возможность лучше понять, почему великие достижения гуманистической культуры сосуществуют с бессмысленной жестокостью военных действий нашего века. Обнажая и исследуя этот парадокс, Г. Николаи нашел его решение в пользу мира и дал возможность современному читателю самому продумать аргументы за и против войны из самых разных областей знания. Как представитель плеяды универсально образованных европейских ученых, он смог использовать в своей книге потенциал европейской, азиатской, в том числе и российской культуры того времени.
Книга будет интересна не только широкому кругу читателей и обществоведов, но и специалистам в области естественных наук. Не секрет, что сегодня великие течения социальной мысли находятся в кризисе, на фоне которого становится заметнее ведущая роль биологии среди естественных наук, ориентированных на общественные проблемы. Такая тенденция возникла в Германии начала XX века и, порой, заводила в тупики целые научные школы и их политических потребителей. Исследование войны Г. Николаи представляет собой иное научное предложение, открытое для продуктивной дискуссии по фундаментальным общественным проблемам.
Н. А. Головин
| {4} |
Книга профессора Г. Ф. Николаи, нашумевшая при своем выходе в свет и вызвавшая восторженные отзывы и статьи Ромена Роллана, выходит на русском языке в несколько сокращенном виде: в тексте опущены не только некоторые мелочи, рассчитанные исключительно на то, чтобы служить назиданием немецкому читателю, не только кое-какие замечания полубеллетристического — или, вернее, полуфельетонного — характера, но и четыре главы, посвященные вопросу о происхождении милитаризма и патриотизма и о вырождении последнего в шовинизм. Вместе с тем, ради сохранения архитектонической стройности и цельности книги Николаи, содержание этих глав изложено в сжатом, конспективном виде.
| {5} |
Профессор Николаи почтил меня просьбою написать несколько вступительных слов к новому изданию его труда. Я с радостью исполняю это: в ту эпоху, которую мы теперь переживаем, долг мыслителей, борющихся за единство Европы, к какой бы стране они ни принадлежали, братски протянуть друг другу руки через поля битв; их долг — подтвердить единение свободных умов всего человечества перед лицом мрачных сил минувшего.
Профессор Николаи явил собою блестящий пример гражданского мужества. В такое время, когда разум, отравленный страстями народных масс, всюду умолк или гнусно предоставил себя в распоряжение правительств, этот великий ученый в невозмутимом спокойствии гордо сохранил независимость своего мышления. Для того чтобы исполнить свою миссию — служение правде, — он рискнул всем. Обращаясь к интеллигенции Германии, я писал в сентябре—октябре 1914 года1:
«Истина заговорит! Тщетно вы заглушаете ее голос. Она заговорит через вас, устами одного из вас, в котором проснется совесть вашей расы. Да, да, он явится наконец. Пусть дано нам будет услышать его, этого незапятнанного гения-освободителя, которому суждено искупить вас! Тот, кому довелось жить в тесном общении с вашей старой Германией, помнит ее и ждет...»
Пока я ждал, мне было неведомо, что истина уже заговорила устами гения-освободителя. Еще в октябре 1914 года профессор Николаи вместе с двумя другими знаменитыми учеными, А. Эйнштейном и Вильгельмом Фёрстером, в ответ на заявление {6} 93 представителей германской интеллигенции, составил «Воззвание к европейцам».
Впоследствии история покажет, что те, которые, где бы они ни были, осмелились (рискуя своим положением, репутациею, благополучием, порою даже жизнью) восстать против заблуждений и неистовств своего народа, оказались лучшими гражданами этого народа, людьми, самым достойным образом отстоявшими честь своей нации.
Но великая заслуга Николаи состоит не только в выявлении бесконечной совестливости, которой не сломить никаким силам в мире, но и в том, что он просветил человечество блеском своего освобождающего разума, вступившего в борьбу с софизмами и предрассудками, отравляющими наше время. Бич, разрушающий ныне Европу,— война — является результатом медленной инфекции, заразившей организм европейской мысли. Как мудрый врач, д-р Николаи захватывает болезнь в ее корне. Он решается раскрыть пустоту, фальшь и никчемность всех мнимых идолов современной цивилизации, ее ложный идеализм и ее лженауку. Он делает это с точностью хирурга, умело прикасающегося своим инструментом к самому ядру болезни, чтобы удалить его. Но тут же он дает и исцеляющее средство — новый идеализм, веру науки и любви в то божественное Новое, которое принадлежит всему человечеству, веру в гуманность, ту живую, органическую действительность, могучее сознание которой присуще всякому здоровому человеку.
В ряде статей я пытался проанализировать эту глубокую мысль. Здесь я хочу лишь напомнить об ее благодетельном влиянии на все те искренние души, которые в этом мировом кризисе были удручены бессилием своих духовных вождей и крушением всех своих, казалось бы, незыблемых религиозных и светских идеалов. В то время как церковь и социализм, с их огромной численной и моральной мощью, ни секунды не задумываясь, стали на сторону войны, одинокий, осужденный, заточенный мыслитель с презрительною улыбкою взирал на картину разнузданного безрассудства и грубого насилия Но это не поколебало его твердой веры. «Именно оттого, что это война, он хочет писать книгу о мире». И, думая о своих братьях-единомышленниках, более слабых и более сломленных, чем он сам, он посвящает им эту книгу, «чтобы убедить их, что эта пугающая их война {7} представляет собой лишь преходящее на земле явление, не стоящее того, чтобы относиться к нему серьезно». Он говорит это с тою целью, чтобы «внушить хорошим и справедливым людям свою непоколебимую уверенность».
Пусть эта уверенность воссияет над теми, кто прочтет его книгу! И пусть они благодаря этой книге приобщатся к великой, героической радости свободной мысли, которая одна только противостоит целому миру насилия и безумия, уверенная в своей конечной победе!
| {8} |
В этой книге я постарался нелицеприятно осветить войну — явление, к которому я раньше относился совершенно безразлично, видя в нем нечто чуждое мне, нечто давно преодоленное моим миросозерцанием и моим мышлением. Но эта книга написана мною под гнетом обстоятельств, которые я ощущал почти с физическою болью. Я счел себя вынужденным протестовать против явления, которое, сперва к моему крайнему изумлению, а затем и глубокому негодованию, уничтожило все, что до этого я благоговейно почитал. Ныне я знаю, что такое война. Теперь мне ведомо, какова власть демонов прошлого даже над нами, людьми нового времени, и отныне я ненавижу войну, по крайней мере войну XX века! Это основное настроение я не мог и не хотел отрицать. Поэтому неизбежно, что инакомыслящие откажут моей работе в объективности. Однако я надеюсь, что все непредубежденные без труда и сразу увидят, где я выступаю в роли ученого и где во мне говорит просто человек.
Впрочем, мне отнюдь не страшна та оценка, которую еще со времен Сократа весьма охотно применяли к людям, проверявшим свое научное миросозерцание на вопросах житейской практики. Тем не менее мне не хотелось бы, чтобы кое-кто из моих друзей был введен в заблуждение подобной критикою. Поэтому я вкратце разъясню, что я понимаю под научной объективностью, особенно при рассмотрении явления, подобного войне, явления, важнейшие основы которого скрываются в наиболее сокровенных и глубоких тайниках человеческой души. Кто вздумал бы обойтись без этих основ, тот по необходимости не пошел бы дальше поверхностного анализа всего явления. Между тем настоящая объективность, вполне совместимая со страстною убежденностью, вовсе не состоит в том, чтобы открещиваться {9} от вопросов, которые мы не в силах разрешить вполне, а в том, чтобы равномерно использовать все то, что может способствовать их разрешению.
Высшим достижением современной науки представляются нам «объективные методы». Обратите сугубое внимание на то, что только методы должны быть объективны. Необходимо объективно собирать отдельные данные; выводы же из последних всегда будут отличаться некоторою гипотетичностью и, следовательно, в известном смысле субъективностью. Представители математики (т. е. «наиболее объективной науки») — Пуанкаре, Лоренц, Эйнштейн — подчеркивали в последнее время именно это обстоятельство, освещая его с самых различных точек зрения.
Если сказанное приложимо к математике, то оно тем более применимо к физике, еще гораздо более к естествознанию и в наивысшей мере ко всем тем областям знания, в которых естествоведением пользуются лишь в качестве метода. Тут чрезмерная объективность даже вредна; это отлично известно противникам естествознания. Так, например, один из них заявил недавно: «Никто объективно не знает, кто его отец, и о своей матери он не может говорить с уверенностью, так как ему приходится полагаться на, быть может, лживые уверения матери, врача или повивальной бабки. А раз мы даже не в состоянии установить в точности, кто наши родители, как же нам объективно доказать, что наши прапрародители происходят от обезьян?»
Ясно, что при столь повышенных требованиях всякий прогресс в области наших знаний задерживается. При такой робости никакой успех здесь невозможен. В выигрыше может в крайнем случае оказаться лишь тот, кто со своим вечным «постольку — поскольку» надеется спасти, помимо одной истины, еще всякого рода веру. Для обогащения нашего позитивного знания мужественная односторонность необходимее, чем всюду посредничающая половинчатость; последняя может вносить лишь коррективы в уже существующее, но отнюдь не в силах творить новое. Каждый инстинктивно чувствует, что эта половинчатость сводится, в сущности, к отсутствию культуры и стиля. Однако наше время, стремящееся к объективности и всесторонней «справедливости», вполне серьезно считает возможным объединять веру со знанием, красоту с модою, искусство с {10} наживою, войну с гуманностью, либеральное миросозерцание с социальным, космополитизм с национализмом и мн. др.
Подобного рода объективность внутренне никогда не обоснована. Но при всех явлениях окружающей нас природы она, во всяком случае, настолько допустима, насколько нет необходимости судить об этих явлениях всесторонне. Так, например, мы можем признавать извержение вулкана одновременно красивым и губительным явлением или усматривать в прыжке тигра грациозность, ни минуты не забывая, что такой прыжок может стоить человеку жизни. Ведь вулкан, несомненно, представляется частью непроизвольно действующей природы, да и тигра мы, конечно, вправе считать по меньшей мере ее же частью. Это — феномены природы; их воздействие мы в силах изменять (напр, не селясь в вулканических местностях и уничтожая тигров), но самих этих явлений мы никогда не изменим. Поэтому человеку предоставляется тут право рассматривать эти явления в качестве постороннего «зрителя» с любой, свободно избираемой им точки зрения.
Иначе обстоит дело с поступками человека. Пока мы не отказываемся от права самооценки своей личности и стремления к нами самими поставленным целям, приходится оценивать человеческие поступки всецело с точки зрения отдельной личности. Между тем война — деяние человеческое, и, как таковое, она требует точной оценки. Всякий компромисс в этом вопросе был бы неясностью, должен был бы считаться, пожалуй, безнравственным.
Войну можно любить или ненавидеть: подобно кроткому Гербарту («Введение в философию», учебник, §93), можно чувствовать «неприязнь к борьбе» или, подобно воинственному Иерингу («Борьба за право»), подчеркивать свое «сочувствие к борьбе»; но если не одобряешь войны в принципе, то нельзя стараться и оправдать ее указаниями на разные привходящие обстоятельства. Раньше чем судить о войне, ее следует всесторонне осветить. И только посредственные умы могли додуматься до оценки ее со всех или хотя бы только с двух сторон.
Это предварительное объяснение представлялось мне необходимым для того, чтобы определить характер объективности данной книги. Я старался по возможности объективно подобрать материал; последний я использовал затем под углом зрения {11} одной руководящей идеи — идеи гуманности. Если угодно, и эту идею можно формулировать объективно таким образом: фактически существует только одно genus humanum (род людской), и этот род людской, как доказано, представляет собой единый организм. Впрочем, установление этого факта означало бы антиципацию данной книги, позитивное содержание которой определяется доказательством этой объективной основы, идеей гуманности.
Внешним для меня поводом заняться такими вопросами, которые до этого были мне чужды, явилось «октябрьское воззвание 93», т. е. манифестация, неприятное впечатление от которой легко мог бы предвидеть всякий непредубежденный человек1.
Хотя в настоящее время всякий посочувствует нам, которые тогда оказались непредубежденными, многие, пожалуй, не одобрят того, что я исхожу именно из немецкого воззвания при наличии достаточного числа достойных порицания иностранных воззваний. Итак, это немецкое воззвание фактически явилось поводом. Кроме того, я здесь с самого начала подчеркиваю, что данная книга написана главным образом для немцев; поэтому она вообще во всех своих деталях базируется почти исключительно на явлениях немецкой жизни. Независимо от того, что на основании лишь отрывочно доходящих до нас извлечений из иностранной прессы мы можем составить себе лишь неполную картину о настроениях, господствующих за границею, желательная внутренняя независимость достижима только в том случае, если мы, прежде чем осведомиться, грешат ли за нашими пределами, позаботимся, чтобы не грешили внутри наших пределов. Более чем когда-либо всякий человек и всякий народ обязан взять на себя часть ответственности и вины за происходящее. И если даже какая-либо иностранная ученая {12} корпорация выступила бы с такой же печальной манифестацией, с какою выступили слишком страстные авторы немецкого воззвания, то именно тем, кто дорожит национально-германскою культурою, следовало бы проявить лишь второстепенный интерес к заграничным манифестациям: Германия ответственна ведь только за свои поступки и за свои слова.
Эту нашу предварительную принципиальную точку зрения следует определенно иметь в виду Иначе то обстоятельство, что здесь и в последующем в качестве примера зловредности войны привлекается главным образом Германия, могло бы вызвать предположение, будто настоящая книга безусловно оправдывает тех, кто усматривает в германском народе воплощение худшего варварства.
Так как указанное воззвание могло набросить тень на наше славное прошлое, то оно и должно побудить всякого друга отечества и человечества (оба эти понятия не должны противоречить друг другу) к протесту1. В достаточной мере известное воззвание перепечатывается здесь еще раз полностью2.
Воззвание к культурному человечеству
«Мы, представители германской науки и искусства, пред лицом всего культурного мира протестуем против той лжи и клеветы, которыми наши враги стремятся запятнать чистые побуждения Германии в насильственно навязанной ей тяжелой борьбе за существование. Железные уста событий опровергли распространение вымыслов о немецких поражениях. Тем усерднее пущены теперь в ход извращения и заподазривания. Против них-то мы и возвышаем свой громкий голос. Да будет он глашатаем истины!
1. Неправда, будто Германия — виновница этой войны. Ни народ, ни правительство, ни император не желали ее. Со стороны немцев были приложены крайние усилия для ее предотвращения. Документальные доказательства этого {13} открыты всему миру. За 26 лет своего царствования Вильгельм II достаточно часто выступал в роли оградителя всеобщего мира; достаточно часто признавали это даже наши противники. Тот самый император, которого они теперь осмеливаются называть Аттилою, в течение десятилетий подвергался с их стороны насмешкам за свое непоколебимое миролюбие. Лишь когда на наш народ набросились уже давно подстерегавшие нас у трех границ значительные силы, народ наш восстал, как один человек.
2. Неправда, будто мы преступно нарушили нейтралитет Бельгии. Можно доказать, что Франция и Англия еще раньше решились на его нарушение. Известно, что Бельгия согласилась на это. Было бы самоуничтожением, если бы мы их не предупредили.
3. Неправда, будто жизнь и имущество хотя бы одного бельгийского гражданина подверглись нападению со стороны наших солдат без того, чтобы это не было вызвано неизбежной самозащитою. Ибо беспрерывно и постоянно, вопреки всем увещаниям, население обстреливало их исподтишка, уродовало раненых, умерщвляло врачей при исполнении ими своих самаритянских обязанностей. Нет более подлого извращения истины, чем то, когда замалчиваются преступления этих гнусных наемных убийц с целью вменить понесенную ими справедливую кару в преступление немцам.
4. Неправда, будто наши войска дико неистовствовали в Лувене. Им с тяжелым сердцем пришлось ответить неистовствовавшему населению, изменнически напавшему на их стоянки, обстрелом части города. Наибольшая часть Лувена уцелела. Знаменитая ратуша осталась нетронутою. Ценою самопожертвования наши солдаты спасли ее от пожара Если во время этой ужасной войны были разрушены или еще подвергнутся разрушению памятники искусства, то об этом пожалеет всякий германец. Но в такой же мере, в какой мы никому не уступали в любви к искусству, мы решительно отказываемся добиваться сохранения памятников искусства за счет германского поражения.
5. Неправда, будто наш способ ведения войны пренебрегает нормами международного права. Нашей армии неизвестна недисциплинированная жестокость. На востоке же кровь умерщвленных русскими ордами {14} женщин и детей орошает землю, а на западе пули «дум-дум» разрывают тела наших воинов. Выступать в роли защитников европейской цивилизации имеют наименьшее право те, которые заключили союз с русскими и сербами и являют миру гнусное зрелище натравливания монголов и негров на белую расу.
6. Неправда, будто борьба против нашего так называемого милитаризма не есть борьба против нашей культуры, как лицемерно уверяют наши враги. Не будь немецкого милитаризма, германская культура была бы сметена с лица земли. Для ее ограждения возник он в государстве, которое в течение столетий подвергалось разбойным нападениям в такой степени, как никакая другая страна. Немецкое войско и немецкий народ едины. Это сознание объединяет в настоящее время узами братства 70 миллионов немцев без различия степени образования, сословий и партий.
Мы не можем вырвать у своих врагов отравленное орудие лжи. Мы только можем возвестить всему миру, что они клевещут на нас. Вам, которые нас знаете, которые доселе вместе с нами охраняли высшее достояние человечества, вам мы заявляем: “Верьте нам! Верьте, что мы доведем эту борьбу до конца, как народ культурный, которому заветы Гёте, Бетховена, Канта столь же святы, как его очаги и его почва. За это мы вам ручаемся своими именами и своею честью!”».
Воззвание было подписано 17 художниками, 15 естествоведами, 12 богословами, 9 поэтами, 7 юристами, 7 врачами, 7 историками, 5 художественными критиками, 4 философами, 4 филологами, 3 музыкантами, 2 политиками и 1 театральным деятелем, в общей сложности, следовательно, 93 отчасти широко известными немцами. Среди них имеется 15 естествоведов. Если число это, в сравнении с 78 прочими (35 занимающихся искусством, 16 посвятивших себя этике, 20 представителей гуманитарных наук и 7 врачей), и не слишком велико, то среди них имеются почти все германские мировые знаменитости. Между тем именно естествоведа должна была бы смутить по крайней мере форма воззвания, если бы даже он и сочувствовал его тенденции. Можно не касаться вопроса о том, справедливо ли отвергать лживые сообщения иностранной прессы и при этом не упоминать о диких измышлениях немецких газет (впрочем, уже в то время всему миру было известно, каким ничтожным {15} оказался, напр, материал германской комиссии, назначенной для выяснения творимых бельгийцами жестокостей), хотя именно указание на то, что не следует верить ужасам, распространяемым относительно неприятельских войск, заставило отнестись с симпатиею к некоторым уже тогда появившимся воззваниям представителей иностранной интеллигенции.
Но данное воззвание заключает в себе шестикратное утверждение «неправда». А между тем пять из шести пунктов, несомненно, не могут претендовать на истинность. Никто уверенно не может сказать, провинился ли кто-нибудь в чем-нибудь или нет (п. 1), действует ли он преступно или по принуждению (п. 2), мстит ли он грубо или с тяжелым сердцем (п. 4), являются ли милитаризм и культура контрастами или понятиями, близко друг к другу стоящими (п. 6), и, наконец, выполнил ли или нарушил кто-либо расплывчатые и изменчивые нормы международного права (п. 5). Оценка зависит тут в каждом отдельном случае исключительно от чувства справедливости говорящего. По другой, не менее веской, причине и по поводу пунктов 3 и 5 (содержащих положительные указания на то, что произошло в Бельгии и Восточной Пруссии) категорическое заявление «неправда» было неуместно, потому что в лучшем случае сведения могли исходить лишь из «самого достоверного» источника. Между тем отрицательного заверения, будто «не было без необходимости совершено ни одного нападения на жизнь и имущество кого-либо из бельгийских граждан», никто по чистой совести не примет за истину. Разумеется, каждому предоставлено право считать верными вещи, в правдивости которых он убежден по моральным основаниям. Но это не относится к «представителям науки»: главный отличительный признак последней состоит в том, что она считает истинным только то, в чем мы убеждены на основании объективных изысканий. Распространением этой объективной истины наша современность обязана отчасти добросовестности немцев, и отречение от последней нельзя поэтому признать без всяких оговорок актом патриотическим.
Три приведенных главных свидетеля (Гёте, Бетховен и Кант) навряд ли подписали бы подобное воззвание. Именно они все трое выявили свою объективность по отношению к войне.
Индифферентизм Гёте, особенно во время освободительной войны, и его позднейшее резко отрицательное отношение к {16} «патриотничанью» немцев достаточно часто вызывали порицание. Однажды он в сердцах воскликнул даже: «Пройдет еще несколько столетий, раньше чем о немцах можно будет сказать, что давно миновало время, когда они были варварами». Кант обнародовал во время первой коалиционной войны свой «Проект вечного мира», где он с изумительной независимостью отстаивал французские учреждения, против которых боролось его отечество. При этом нечего и упоминать о том, что творец критической философии никогда не стал бы говорить об истине в тех случаях, когда речь может идти лишь о мнениях.
Наконец, последнее великое творение Бетховена (Девятая симфония) является гимном в честь братства всего человечества, а ту симфонию, которую он сам считал своим лучшим произведением (Третью), он посвятил смертельному врагу Германии — Бонапарту1.
Подобно подписавшимся под воззванием, и я уверен, что германская мысль победит, если для нее завещание этих трех звезд «будет столь же свято, как и ее земное достояние». Однако я не считаю случайностью, что упомянутые три величайших германца смотрели на борьбу народов иначе, чем современное поколение. Ибо, несмотря на развитие техники, войска и торговли, наиболее характерною добродетелью немца все-таки остается разумная (сознательная) справедливость.
Пусть путь к величию для нас, немцев, касается Эссена, Потсдама и Гамбурга, но он не должен оставлять в стороне Веймар.
Указанное воззвание, отрицавшее все то высокое и прекрасное, что нами мысленно связывалось с представлением о науке, оказалось подписанным величайшими сынами Германии. Лучшие германские исследователи и искатели истины поддержали подобного рода «истину». Правда, некоторые могли в свое оправдание (если это вообще оправдание) сослаться на то, что они вовсе не читали воззвания, а дали свои подписи в ответ на телеграфное приглашение известного политического деятеля и представителя политического центра. Во всяком случае, было бы {17} крайне желательно подробнее узнать несомненно весьма своеобразную историю возникновения указанного воззвания. Как бы то ни было, это воззвание было опубликовано и распространено. Поэтому я, из уважения к германской культуре, почувствовал себя обязанным выступить с возражением. С этой целью я набросал проект краткого протеста и представил его на рассмотрение моему уважаемому другу и идейному товарищу Альберту Эйнштейну. Мы оба привлекли затем к этому делу еще доктора О.Бюка и профессора Вильгельма Ферстера и выработали совместно, в середине октября 1914 г., следующую окончательную редакцию протеста:
Воззвание к европейцам
«В то время как успехи техники и средств сообщения побуждают нас категорически признать фактическое установление международного общения и тем самым факт мирового культурного значения, никогда еще ни одна война не нарушала в такой значительной степени солидарности совместной культурной работы, как нынешняя. Быть может, это явление только потому так ясно сознается нами, что существовало столь много общих связей, нарушение которых ощущается нами болезненно. И если такое положение дел и не изумляет нас, то те лица, сердцам которых мало-мальски дорога указанная общемировая культура, были бы, казалось, вдвойне обязаны ратовать за поддержание этих принципов. Между тем именно те, от кого это можно было бы скорее всего ожидать, т. е. преимущественно люди науки и искусства, до сих пор высказали почти исключительно взгляды, позволяющие предполагать, что с нарушением фактического общения исчезло и самое желание его восстановления; эти люди говорили под влиянием понятного воинственного настроения и расположены не в пользу мира.
Подобное настроение не может быть оправдано никаким национальным порывом. Оно недостойно того, что до сих пор понималось под именем культуры. Если оно захватит всех образованных людей, то это будет несчастием. Притом не только несчастием для культуры, но — и в этом мы твердо уверены — несчастнее для того, ради чего в конечном счете развернулось все это варварство, а именно для национального существования отдельных государств. {18}
Благодаря технике мир стал меньше; государства обширного полуострова, носящего название «Европа», ныне так близко прижаты друг к другу, как в былые времена города любого небольшого полуострова на Средиземном море. Европа (пожалуй, можно сказать: почти весь мир), благодаря разнороднейшим взаимоотношениям ее населения, представляется единством, базирующимся на нуждах и переживаниях каждого отдельного ее жителя.
И вот нам представляется что обязанность образованных и здравомыслящих европейцев — по крайней мере попытаться воспрепятствовать тому, чтобы Европу, вследствие недостаточности общей ее организации, постигла та же трагическая участь, которая некогда постигла Грецию. Неужели Европа должна постепенно истощить себя братоубийственной войною и погибнуть? Ведь ныне свирепствующая борьба навряд ли сделает кого-нибудь победителем, оставив, вероятно, одних лишь побежденных. Поэтому представляется не только уместным, но и безусловно необходимым, чтобы образованные люди всех государств использовали свой авторитет для того, чтобы (каков бы ни был доселе еще не известный исход войны) условия мира не стали источником будущих войн, а чтобы, наоборот, факт превращения этою войною всех европейских взаимоотношений в состояние известной текучести и неустойчивости был использован в целях образования из Европы органического целого. Технические и интеллектуальные предпосылки для этого налицо.
Каким образом осуществимо такое преобразование Европы, здесь развивать не место. Нам хочется только принципиально подчеркнуть нашу твердую уверенность в том, что настало время, когда Европе надлежит выступить в качестве единства для ограждения своей территории, своего населения и своей культуры.
Мы уверены, что эта воля в скрытом виде имеется у многих, и солидарным провозглашением этой воли мы желаем достичь того, чтобы она претворилась в силу1. {19}
С этою целью в первую голову нам представляется необходимым объединение всех тех, кому понятна и дорога европейская культура, т. е. тех людей, которых некогда Гёте пророчески назвал «хорошими европейцами». Нельзя ведь терять надежды, что их дружное слово (даже при лязге оружия) прозвучит не совсем незаметно, особенно если среди этих «хороших европейцев завтрашнего дня» окажутся все те, кто уже сегодня пользуется уважением и авторитетом в глазах своих образованных коллег1.
Итак, необходимо, чтобы европейцы объединились. И если, на что мы надеемся, в Европе найдется достаточно европейцев, т. е. лиц, для которых Европа — не только понятие географическое, но и нечто близкое их сердцу, то мы попытаемся кликнуть клич и создать такой союз европейцев. Пусть этот союз затем выскажется и решит вопрос.
Сами мы только призываем к этому. Обращаясь к вам, если вы разделяете наш взгляд и, подобно нам, готовы способствовать по возможности полному выявлению воли всей Европы, мы просим вас не отказать нам в своей подписи».
Хотя при частном распространении этого воззвания мы и встречали многократно выражавшееся сочувствие, однако даже солидарные с нами лица отказывались подписаться под воззванием: одним сказанное о Греции представлялось исторически не совсем правильным; другие полагали, что подобное воззвание уже запоздало; третьи, наоборот, считали его преждевременным; иные находили вообще неуместным вмешательство науки в политические распри и т. д. Большинство же было либо слишком трусливо, либо принципиально не разделяло нашей точки зрения. Даже наилучшие немцы в те дни не желали быть «хорошими европейцами» или не решались быть ими. Но так как воззвание могло иметь значение лишь в том случае, если бы оно было скреплено подписями признанных имен, то мы вовсе отказались от своего плана. {20}
С глубоким огорчением констатировали мы свое одиночество. Наше утешение (что благоразумие всегда было свойством меньшинства) не представлялось нам даже заносчивым: слишком открыто лгали люди или слишком легковерно поддавались мы обману. Нигде не замечалось хотя бы стремления к истине. Люди желали воодушевиться и добровольно соглашались на обман: значимостью обладало настроение, а не обоснование, инстинкт, а не свободная воля. Охотно выделялись мы среди массы интеллигентов, которые, не задумываясь, отстранились от всего специфически человеческого. Расчет на сознательную культурность этих кругов оказался ошибочным. При таких обстоятельствах я счел своей обязанностью высказать и обосновать, по мере своего разумения, как свое личное мнение то, в чем я усматривал справедливость и строгую неизбежность. При этом я имел в виду тех, кого я и сейчас имею в виду, — представителей молодежи. Поэтому я объявил на летний семестр 1915 года курс на тему «Война как биологический фактор в процессе развития человечества» и приступил к его разработке. Но вследствие того, что я как врач был призван на военную службу, а затем переведен в крепость Грауденц, и этот план потерпел крушение. Тогда мне больше ничего не оставалось, как попытаться объединить в форме книги свои заметки, предназначенные для устного изложения.
Я все еще придерживаюсь того мнения, что именно в годы этой великой войны должна быть написана книга, трактующая о мире. Во время братоубийственной борьбы Европы должна быть подчеркнута мысль об европейском единении; конечно, не для упомянутых нескольких сбившихся с пути ученых (они и сами сумеют разобраться в этом вопросе), но для бесчисленного множества других людей, ныне не знающих, как им поступить дальше, внутренне и внешне вынужденных начать всю свою жизнь сызнова, потому что все они нашли разбитыми многие из глубоко, хотя и не вполне ясно, осознанных ими идеалов. Для таких людей я решил написать книгу и убедить их, что война (притом не только данная, но и война вообще) представляет собой явление преходящее, не заслуживающее слишком серьезного к себе отношения. Для достижения этой цели, для того, чтобы внушить хорошим и справедливым людям чувство моей непоколебимой уверенности, я постарался развить на основе проблемы войны мировоззрение, которое мог бы {21} принять каждый и при помощи которого всякий смог бы ориентироваться.
Таким образом, эта книга о мире возникла в самый разгар воинственной деятельности Грауденца, и маленькая крепость одновременно оказалась для нее тормозом и стимулом. Тормозом служили недостаток книг и отсутствие лиц, советами которых я мог бы воспользоваться в таких областях знания, в которых я не был специалистом. Тем не менее несколько друзей значительно помогли мне различными указаниями и фактическими поправками. За это я приношу им тут свою глубокую благодарность.
Затем я не могу не пожалеть о том, что записанные мною в ограниченном числе, да и то лишь бегло и сжато, цитаты, которыми я думал воспользоваться в своих лекциях, не могли быть мною точно проверены. Между тем это было бы особенно важно: целый ряд цитат, из необъятной массы которых я мог привести здесь только некоторые, показывает, что до начала эры современного милитаризма никогда, на протяжении всей мировой истории, ни один более или менее выдающийся человек не усматривал в войне что-либо великое и прекрасное. Конечно, даже исчерпывающий материал не вполне подтвердил бы такое доказательство от противного: всегда кто-нибудь мог бы возразить, что отзывы лиц, упоенных войною, просто опущены мною. Но пусть кто-либо из очень многих охваченных сегодняшним опьянением интеллигентов попытается доказать обратное!
Вдохновляла меня в моем труде постоянно камера Фрица Рейтера1 в нашей крепости. На том месте, где этот германский {22} патриот в течение ряда лет просидел в заключении за то, что верил в Германию, его бывшие тюремщики воздвигли впоследствии храм, доказав тем самым, что не знает вечности и реакция. Останемся же при убеждении, что те самые люди, которые еще ныне клеймят как измену отечеству гётевское понятие европейца, будут через несколько лет преклоняться перед ним, подобно тому как преемник коменданта крепости Курьбе, некогда призванного держать Рейтера в заточении, ныне-обязан заботиться о сохранении в порядке того музея в который превращена камера Рейтера.
В той же мере, в какой наши предки, опережая свое время, вдохновлялись идеею единой Германии, готовы и мы бороться за единую Европу.
С этою надеждою написана настоящая книга. Если бы мне удалось убедить хотя бы нескольких людей в этической и естественноисторической обоснованности понятия «европеец» и тем несколько уменьшить шансы новой войны, то это было бы такою наградою за мой труд на которую я едва осмеливаюсь рассчитывать. Но будь что будет: книгу эту необходимо было написать.
| {23} |
БИОЛОГИЯ ВОЙНЫ
| {24} |
| {25} |
КРИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭВОЛЮЦИИ ВОЙНЫ
| {26} |
§ 1. Значение инстинктов. В течение тысячелетий войну ненавидели. Ни один мыслящий человек никогда не сказал о ней ни одного доброго слова, по крайней мере в тех случаях, когда он излагал свои мысли письменно. Между тем сейчас почти все любят и восхваляют войну. Во всяком случае в Германии в начале этой войны не слышно было иного мнения. Ясно, тут что-то неладно. Невозможно предположить, чтобы немец внезапным скачком изменил в своих инстинктах типу человека Поэтому или образованные люди всех времен, или нынешние интеллигенты просто-напросто ошиблись.
В действительности ошиблись и те, и другие: разум никогда не сможет оправдать войну, и попытки наших современников все-таки сделать это потерпели жалкое фиаско. Это знали люди древности, и потому они проклинали войну. Но они не знали, как силен инстинкт войны у человека, инстинкт, сидящий в нем глубже всякого разума. Это современники воочию пережили отчасти с содроганием, отчасти с изумлением. Но и они ошибаются, думая, что, так как во всех нас силен инстинкт, его надо восхвалять. Правильная оценка войны может быть лишь результатом такого двойственного познания. Дело в том, {27} что даже из уст самого откровенного противника войны раздается какой-то возглас в пользу войны. Природное влечение, нечто такое, что напоминает самые потайные источники человеческой силы, заставляет нас любить войну. В частности, среди немцев даже наилучшие люди в глубине своей души немного гордились тем, что они вступили на арену истории в качестве завоевателей и разрушителей мировой Римской державы. Само по себе, конечно, это вовсе не важно, потому что некогда все народы впервые вступали в свою страну в качестве завоевателей. Даже несомненно миролюбивым евреям пришлось предварительно завоевать Ханаан. Сказанным мы, впрочем, не собираемся отрицать того, что германцы действительно особенно воинственный народ. В самом деле, навряд ли у какого-нибудь иного народа были первоначально так тесно связаны с военным делом все права и гражданственность, социальная и духовная жизнь, как это наблюдалось у древних германцев. Справедливо отзывается о них Тацит: «Они ничего не делают без оружия в руках». Воспоминание об этом живо, и, несмотря на всю нашу гуманность, в нас, немцах, сидит неприятный «осадок», правильно именуемый furor teutonicus. Любовь к войне содержится в самой крови народа подобно скрытому инстинкту, и с наступлением подходящего случая она оживает и дает о себе знать. В мирные времена такое опьянение требует искусственного стимула. Выпив свое пиво, баварец дерется; английский матрос, уничтожив достаточное количество виски, приступает к боксу; упоенный водкою русский лезет в рукопашную; наконец, итальянец, насладившись всласть вином, хватается за нож.
Когда народами овладевает опьянение войной, тогда драка-бокс, ножовщина становятся всеобщими. Тогда французы перестают быть «декадентствующими болтунами», британцы — «самодовольно-флегматичными коровами», русские — «нежными мечтателями», итальянцы — «увлекающимися влюбленными», немцы — «опьяненными гуманностью идеалистами». Все тогда превращаются в людей дела Именно эта универсальность увлечения войною доказывает, что мы имеем здесь дело со врожденным роду человеческому инстинктом, всегда готовым обнаружиться.
И вот, так как любовь к войне является инстинктом, независимым от какого-либо размышления, она и кажется священною. Нас учили: «Инстинкты представляют самое ценное в человеке; {28} как только народ утрачивает свои истинные инстинкты и следует ложным, он погибает».
Собственно говоря, второе утверждение аннулирует первое: хотя и существуют инстинкты ложные, мы не можем слепо следовать каждому инстинкту, а должны всякий раз справляться, с нашим рассудком. Итак, если рассудок в конечном счете является здесь решающим моментом, можно было бы думать, что весь вопрос об инстинктах не имеет для нас, людей, никакого практического значения. Между тем это отнюдь не так. Человеческие инстинкты имеют для поступков человека гораздо большее значение, чем принято думать. Рассудок может, конечно, делать известный выбор, может развивать один инстинкт и подавлять другой, но сила действования вырастает из недр неведомых нам инстинктов. И хотя мы признаем воинственные инстинкты тысячу раз неправильными, мы все-таки сумеем только преодолеть их, заменив их иными, более миролюбивыми инстинктами! Посмотрим теперь, что, в сущности, представляет собой инстинкт вообще и как развились инстинкты воинственности в частности.
Либман однажды верно заметил, что понятие инстинкта является центральной, узловой точкой всего нашего знания о жизни души. Без анализа инстинктов невозможно распознать человеческую психику, а следовательно, и страстное влечение человека к войне. Так как из инстинктов нами овладели наиболее необыкновенные, ложные и потому труднее всего постижимые, то полузнание окутало все инстинкты вообще вуалью мистики. Но для того, чтобы точно узнать положение вещей, необходимо начать с простейших инстинктов. В этих целях мы позволяем себе следующее небольшое отступление.
Инстинктивным мы называем такой акт, который выполняется животным с чисто механической, машинной закономерностью и бессознательно, например сосание молока у матери, опускание век при грозящей опасности поранения глаза и т.п. Так как поразительное большинство инстинктивных действий обнаруживает прямо-таки ошеломляющую «целесообразность», далеко превышающую мыслительные способности данного животного, то возникло мнение, будто всякий инстинкт безразлично целесообразен.
Заметили, как птица, никогда не видевшая процесса сооружения гнезда, исполняет эту трудную работу без всякого {29} наставника и как она, не имея никакого представления о будущем существовании своих птенцов, устраивает это гнездо именно для их удобства. Наблюдали, как перелетные птицы в определенное время устремляются на юг и как пчелы строят себе шестиугольные ячейки, относительно которых только современная наука вычислила, что это наиболее целесообразная из всех возможных конструкций. Итак, инстинкт животных превосходит человеческий интеллект, он более верен, устойчив и, по-видимому, точно предусматривает грядущее, почему Жан-Поль Рихтер и называет его «чувством будущего».
У низших животных все действия носят автоматический характер. Подобно тому как свет, падающий на камень, заставляет его всегда равномерно расширяться, этот же свет принуждает определенные простейшие организмы (например, бактерии) либо обращаться к нему (так называемый положительный гелиотропизм), либо отворачиваться от него (отрицательный гелиотропизм). Аналогичным образом всевозможные воздействия вызывают у таких низших животных совершенно определенные, обязательные реакции. Сами по себе эти реакции только закономерны, но отнюдь не целесообразны или не нецелесообразны. Если же они оказываются для данного животного вредными, то соответствующая порода скоро вымирает. Отсюда вытекает, что сохранились только те виды животных, природа которых была такова, что они тяготели к полезному и удалялись от вредного для них Равным образом возникли и сложные инстинкты высших животных, и не следует удивляться тому, что они отличаются целесообразностью.
Некоторые из этих реакций настолько важны для жизни, что они должны быть одинаково присущи всем животным; ни одно, например, животное не могло бы уцелеть, если бы оно инстинктивно тяготело к поглощению ядовитых веществ. Следовательно, совершенно понятно, что возникла только такая протоплазма (а в процессе дальнейшего развития возникли и соответственные животные), которая воспринимает нужные для ее питания элементы и невольно отворачивается от ядовитых веществ. Поэтому мы не должны удивляться тому, что все животные избегают ядовитых для них растений.
§ 2. Изменение инстинктов. Между тем, если подобное животное с верными инстинктами изъять из его обычной обстановки и переместить в такую местность, где {30} попадаются неведомые ему растения, нередко бывает, что животное поедает растения для него вредные, и от этого погибает. При изменившихся условиях «верный инстинкт» превращается таким образом, в ложный. Подобные явления встречаются в природе нередко. Если, например, моль летит на свет или если самка дрозда кормит молодую кукушку, пока последняя не выбросит ее собственных птенцов из гнезда, то это инстинкты вредные. Но таковыми они были не всегда. Стремление моли к источнику света возникло в такое время, когда еще не существовало ламп и направление полета к солнцу и вверх было не только безопасно, но даже полезно. Кормление птенцов — инстинкт, без наличия которого развитие птиц вообще было бы немыслимо. То же обстоятельство, что время от времени в гнезде дрозда оказывается яйцо кукушки, не может и не должно изменить инстинкты дрозда.
Итак, в природе, наряду со многими полезными, обнаруживаются и некоторые вредные инстинкты. Во всяком случае, факт, что какое-нибудь действие совершается инстинктивно, сам по себе еще не доказывает, чтобы оно при данных обстоятельствах было целесообразно. Но, с другой стороны, мы можем с уверенностью сказать, что это действие в то время, когда возник данный инстинкт, было полезно. Следовательно, если человек обладает воинственными инстинктами, то это доказывает, что ведение войны было когда-то необходимо, но отнюдь еще не доказывает, что война и теперь необходима. Как это можно вывести из примера летящей на свет моли, инстинкты чрезвычайно консервативны и продолжают существовать, несмотря на то что вызвавшие их условия давно исчезли. Таких «рудиментарных инстинктов» существует бесчисленное множество. И собака была когда-то злым разбойником, но отказалась от своих разбойничьих свойств раньше своего хозяина, так что может казаться будто кнут лучший воспитатель, чем этические требования. Как бы то ни было, но с тех времен унаследована (до сих пор прославляемая как признак великого ума волков) привычка зарывать в землю свои экскременты. Это было вполне целесообразно тогда, когда бродивший по ночам хищник старался по возможности уничтожить явные следы своего пребывания. Но подобно тому, как он тогда не имел никакого представления о целесообразности этой меры, так и поныне пес, {31} несмотря на свой теперь гораздо более миролюбивый образ жизни, сохранил эту свою бессознательную привычку. Смешно видеть, как наши уличные собаки, покончив со своими делами на асфальтовой мостовой современных городов, делают ряд царапающих движений задними лапами. Вот вам пример бессмысленного и бесцельного инстинкта!
Приходится признать, что и у людей существуют рудиментарные инстинкты. Когда древняя обезьяна шла на противника, она сначала, как поступают многие животные, показывала для «устрашения» свое оружие. Приподняв верхнюю губу, она обнажала свои передние зубы и грозила сжатым кулаком И по сей день еще, когда мы, цивилизованные европейцы не кусающиеся и едва ли пускающие в ход свои кулаки, свирепеем, мы в аффекте вздергиваем верхнюю губу и сжимаем кулак, как это делал и наш предок древняя лесная обезьяна.
Итак, ни один инстинкт сам по себе не полезен. Право на существование он сохраняет лишь до тех пор, пока не изменились окружающие его условия. Подобно тому как животное, тысячелетиями переселявшееся к северу, постепенно приобретало более густую шерсть, ему приходится воспринимать другие привычки и усваивать иные инстинкты. К нам, людям, сказанное приложимо еще в гораздо большей степени. Так как нам предоставлена возможность в значительно большей мере, чем всем животным, самостоятельно изменять окружающую нас среду, то мы легче и чаще оказываемся вынужденными жить при изменившихся условиях. Поэтому на нас возлагается обязанность приспособления наших привычек (инстинктов) к нами самими созданным условиям жизни. Это трудно, потому что, как было уже отмечено, инстинкты отличаются упорным консерватизмом. Со времени изобретения оружия нам уже не приходится при наших стычках с врагами пускать в ход наши зубы; тем не менее на протяжении ряда тысячелетий мы не перестаем показывать им свои зубы. Когда мы постигли пользу мировой организации, наступила как будто бы пора подавить и некогда ценный воинственный инстинкт. Я не сетую на то, что это подвигается весьма медленно, но (да простят меня!) люди, доселе восторженно отдающиеся своим воинственным наклонностям, всегда вызывают в моей памяти картину собак на асфальтовой мостовой!
Необходимо подчеркнуть (и я с особенной радостью делаю это), что инстинкты важны для человека, важнее многого, что {32} мы делаем разумно. Ведь все необходимейшее для жизни определенно не поддается регулированию столь легко вводимого в заблуждение рассудка; хотя мы и осознаем голод и жажду, половое влечение, материнскую любовь и т. п., но все это регулируется инстинктами. Нечто еще более важное, например биение сердца, дыхание, пищеварение, несомненно функционирует помимо нашего ведома. Рассудок может ошибаться, инстинкт же никогда, по крайней мере тогда, когда (как в вышеприведенных примерах) его влияние простирается на такие явления, которые, основываясь на строении человеческого тела, почти неизменны. Однако необоснованное обобщение этого положения побудило многих отрицать мировой прогресс. Бактерия действует всегда правильно, человек же в большинстве случаев неправильно. К чему, следовательно, вся эволюция от основной клеточки до человека? Но и этот взгляд (я сказал бы, к счастию) покоится лишь на полузнании. Хотя инстинкт и непогрешим, и в этом его преимущество, но он слеп и не в состоянии учиться, и в этом его роковое свойство. Если животное попадает в новую среду, обладая несоответствующими последней инстинктами, оно в силу своей природы все еще продолжает действовать правильно, но погибает при этом. Так погибли целые ряды поколений животных, потому что они не могли измениться. Неужели же погибнуть и человеку, потому что он не желает измениться?
Человек ведь мог бы измениться. Ему не нужно, подобно бактерии, делать постоянно только то, что «соответствует его природе»; он может поступать и иначе и постоянно приспособляться. Один только человек в силах совершить невозможное; он выбирает, и в своем выборе он, конечно, может ошибаться. Но это проклятие заблуждения есть неизбежное следствие свободы и порождает благодатную способность изменяться, т. е. учиться. Воистину древняя Библия поступает умнее всех фанатиков инстинкта, приурочивая грехопадение к моменту возникновения человека: условием нравственности человека является предоставленная ему свобода грешить или не грешить. Животное не может поступать греховно; но именно потому оно и не в силах поступать этично. Хотя человек и заблуждается, стремясь вперед но он вместе с тем знает, что если бы не было заблуждений, то не было бы и стремлений: тому, кто, {33} следуя своему определенному инстинкту, движется по пути своему, не приходится отыскивать себе верную дорогу.
На протяжении тысячелетий гармоничный человек является нашим идеалом. Тем не менее мы не смогли отрешиться от таких чисто плотских инстинктов, как вздергивание верхней губы. С более сложными духовными инстинктами дело обстоит еще хуже: человеку свойственно считать все подобные унаследованные привычки, особенно такие, которые не представляются чисто физическими, весьма почтенными. Такая традиционная переоценка всего древнего в конечном итоге основывается, хотя мы этого и не сознаем, именно на том, что здесь дело идет об унаследованных, ставших священными инстинктах. Последние и без того обладают тенденциею к самосохранению; а так как мы не отдаем себе в этом ясного отчета, а лишь смутно это предполагаем, то мы думаем, что оберегаем вечные истины, когда, в сущности, охраняем старину. На основании такой недостаточной осведомленности нам представляется более достойным быть по-старинному людьми воинственными, чем по-современному миролюбивыми. В нашем мировоззрении все еще сильна древняя индоевропейская мысль, будто каста воинов выше каст купцов и земледельцев. Средневековое «pigrum et iners videtur sudore adquirere, quod possis sanguine parare» (признаком лени и бездеятельности кажется добывание потом того, что можно добыть ценою крови) и сейчас находит своих рыцарских поклонников-романтиков. Их ослепляет блеск оружия, и потому они не замечают, что всюду рост культуры сопровождается повышением оценки труда.
После всего сказанного ясно, что значение нынешних воинственных инстинктов можно правильно определить лишь в том случае, если знать условия, в свое время породившие эту воинственность. Если эти условия сейчас иные, то к ним не подходит и прежний инстинкт; если же они превратились в прямую противоположность былому, то данный инстинкт становится даже вредным. В этом отношении он похож на нашу рудиментарную слепую кишку, некогда также игравшую большую роль, сейчас же не только бесполезную, но вызывающую болезни. Собственно, это самоочевидно и давно уже признано и другими «историческими» науками. Так, например, политико-эконом Рошер заявляет, что только тот может правильно судить, где, когда и почему должны быть упразднены устаревшие установления, кто {34} вполне понял, отчего в свое время их пришлось ввести. Нам теперь надлежит без всякой предвзятости уяснить себе историю развития воинственных инстинктов и вообще войны. Это само собою послужит указанием, как следует в настоящее время относиться к войне.
§ 3. Стадные инстинкты людей. Не трудно доказать, что воинственные инстинкты вовсе не представляют необходимых или хотя бы характерных свойств рода человеческого, а напротив, знаменуют извращение мысли о человечестве. Ведь человек по своей природе с самого начала существо мирное и общительное. Это вытекает уже из анатомического строения его тела. Его облик направляет его к миролюбию, а не к разбойному убийству и опустошению. Человек самое беззащитное животное, какое только мы знаем: у него нет ни рогов, ни клыков, ни когтей, ни чешуи, ни ядовитых желез. Его безоружные предки, обезьяны, могли сохраниться лишь благодаря тому, что, хотя бы несколько ограждая себя, избирали местом своего пребывания ветви высоких деревьев.
Человеком, шествующим с выпрямленным позвоночником, такой лазун мог стать, лишь спустившись с дерева; ступая по земле, он развил себе ноги. То обстоятельство, что с тех пор только задние конечности стали служить для передвижения, освободило передние конечности. Пятипалую примитивную руку имели уже древнейшие позвоночные, напр. лягушка; но эта рука у всех животных преобразовалась или, если угодно, усовершенствовалась в специальный орган, большею частью в оружие (лапу или копыто). Только у беззащитных обезьян она осталась рукою, упражнявшейся в хватании ветвей. Эта по своему происхождению миролюбивая рука, не умевшая ни бить, ни царапать, а только ловить и держать, оказалась лишней при передвижении обезьяны по земле; она поэтому освободилась и оказалась в состоянии хватать нечто иное, чем ветви; и вот она схватила оружие и тем самым стала средством и символом всего будущего величия человечества.
Но важнее этого неоспоримого факта нечто другое. Если бы человек в те времена, когда он собирался покинуть безопасные верхушки деревьев, был существом одиноким, он вовсе не смог бы предпринять этого шага: он безусловно был бы уничтожен своими значительно более сильными и вдобавок вооруженными природою врагами. То обстоятельство, что он все-таки {35} рискнул сделать этот решительный шаг, в результате которого он подчинил себе всю землю, доказывает, что он уже тогда должен был обладать оружием. Найдя камень, ставший для него топором, лишь на земле, он усмотрел свое «могучее оружие» только в мысли, что единичная слабая личность черпает силу во взаимопомощи. Лишь оттого, что он был социальным существом, он и мог победить!
Против этого социального происхождения человеческой расы серьезных возражений быть не может. Единственное известное мне возражение (а именно, что человекообразные обезьяны, т. е. орангутанги, шимпанзе, гориллы, живут только семьями, а не социальными группами) покоится на ошибочно приписывавшемся Дарвину и давно уже опровергнутом мнении, будто человек ведет свое происхождение именно от этих обезьян. Ныне мы знаем, что антропоиды приходятся нам двоюродными братьями и что нашими прямыми предками были гораздо ниже стоящие обезьяны1. Все эти низшие породы обезьян живут ордами. Известны их совместные нападения на плантации (причем они выставляют даже дозорных) и их общие усилия, когда приходится сдвигать тяжелые камни и доставать из-под них копошащихся там червей и т. п.
Итак, мы происходим от социальных, стадных животных и были существами общественными задолго до возникновения семьи, на которую люди, ослепленные традиционною святостью семьи, некогда смотрели как на первоисточник всех наших социальных и государственных установлений. Если бы они были правы, то общественное стремление людей действительно носило бы второстепенный характер. Между тем дело обстоит иначе: не человек произвольно создал себе ту или другую общественность (напр, сперва семью, затем род племя, общину и т. д.), а предварительно существовавшая общественность превратила обезьяну в человека.
Фактически все низшие племена, бушмены, жители Огненной Земли, эскимосы и др., живут всегда ордами, не зная даже {36} зачатков семейного быта. Сообразно с этим и все их обычаи могут быть сведены к стадным инстинктам. Так, напр., упоминаемые всеми путешественниками болтовня и гримасничанье дикарей весьма живо напоминают аналогичные явления у стадных животных (обезьян и попугаев); среди первоначально одиноко живших пород эти явления никогда не могли бы развиться. Вообще дикари чрезвычайно общительны; в одиночестве они физически и духовно погибают. Недаром одиночное заключение является одним из тягчайших наказаний — даже для самых культурных европейцев. Равным образом определенно и категорически подтверждают первоначальное существование орд тщеславие и подражательные способности дикарей: пред кем одинокий отшельник стал бы проявлять свое тщеславие, кому мог бы он подражать, с кем болтать? Как далеко можно проследить это стадное свойство и вытекающие из него привычки в ряде человеческих поколений, доказывает хотя бы древнейший скелет, найденный в пещере Ле-Мустье, скелет человека, стоявшего на низшей ступени развития. По мнению Клаача, этот скелет обнаруживает следы тщательного погребения. Те, которые так усердно заботились о своих умерших, непременно должны были как-нибудь заботиться и о своих живых товарищах, т. е. должны были быть существами социальными.
Все эти первобытные качества мы снова встречаем, как и следовало ожидать, у ребенка. Мы знаем, что всякая отдельная особь проходит через все эволюционные этапы, которые проделали ее предки. В связи с этим первые проявления детской психики выражаются в таких формах, которые мы находим и у взрослого дикаря, а именно в тщеславии, подражании и болтовне (в лепете ребенка).
Быть может, наиболее ярким доказательством первоначальной стадности рода человеческого является язык. Никто не сомневается и даже не может сомневаться в том, что человек без речи не человек и что, следовательно, умение говорить совпадает, по крайней мере, с превращением животного в человека, вероятнее же всего предшествует ему Вполне очевидно, что речь никогда не может возникнуть у особей, живущих одиноко, а всегда возникает лишь как результат общения. И на самом деле мы наблюдаем речь (или возможность соответствующей дрессировки) только у стадных животных вроде попугаев и аистов, уток и кур, собак и лошадей, тюленей и коров. {37} Напротив, все одиноко живущие животные, даже обладающие относительно высокоразвитым мозгом (напр., хищные птицы, кошки и киты), остаются немыми или в лучшем случае обладают только звуками любовного призыва (мяуканье кошек) или звуками устрашения (рев льва). Другими словами, они начинают издавать звуки лишь тогда, когда вступают в сношения с другими зверями. Речь предполагает существование известных взаимоотношений, и тот факт, что человек говорит, доказывает, что подобные взаимоотношения существовали с самого начала. Следовательно, как это утверждал еще Аристотель, человек по природе своей животное общественное. Общее братство людей древнее и первоначальнее их взаимной борьбы, которую человечество познало гораздо позже.
§ 4. Миролюбие животных. Когда волк бросается на овцу или лев на газель, то это не связано для нападающих ни с какою опасностью; вообще животные, которых уничтожают другие звери, становятся опасными для своих преследователей лишь в исключительных случаях. Когда же животное нападает на своего сородича, оно всегда рискует быть побежденным своим более сильным противником. Следовательно, не безопасно вступать в драку с себе подобными. Так как каждое животное инстинктивно боится боли, то вполне естественно, что борьба или война между однородными животными происходит чрезвычайно редко. Это бывает так редко, что можно почти утверждать, что война, подобно многому другому, представляет собой изобретение человека В пользу этого как будто говорит и впервые высказанная англичанином Пай-Смитом гипотеза, что наблюдаемая только у человека праворукость есть следствие его воинственных привычек (сражаются правою рукою, чтобы ограждать левою «левый бок, в котором слышится учащенное биение сердца»). Уже древние изумлялись явному миролюбию или, по крайней мере, невоинственному образу жизни хищных зверей. Сравнивая душевные качества животных с человеческими, Мон-тень высказывает такой же взгляд. Он заявляет, что война — свойство, специфически присущее людям, причем отнюдь нельзя {38} усматривать в нем их преимущества Это скорее признак человеческой глупости и несовершенства. Ему лично, во всяком случае, кажется, что самоусовершенствование в искусстве взаимного истребления и тем самым уничтожения собственной расы отнюдь не может быть признано желательным. Равным образом Шефтсбери указывает на несостоятельность положения «homo homini lupus» (человек человеку — волк), «если принять во внимание, что волки очень нежно относятся к волкам».
И действительно, знаменательно, что лишь некоторые виды животных ведут настоящие войны. У большинства же животных, напр. у щенят и котят, возня сводится лишь к игре в войну, имеющей, разумеется совершенно иное значение, чем настоящая борьба Тут вовсе не преследуется цель причинения вреда товарищу по игре, а происходят лишь упражнения и подготовка к будущей борьбе с животными иной породы. Следовательно, эти явления можно сравнить со спортивными состязаниями людей.
Настоящие войны со своими сородичами (так назыв. Polemoi ipideimioi Гомера) ведут только олени, муравьи, пчелы и некоторые птицы. Теперь необходимо объяснить, каким образом эти немногие виды животных, ведущие стадный образ жизни, пришли к тому, чтобы уничтожать друг друга (что, как мы увидим ниже, противоречит общим законам жизни). С самого начала ясно одно: так как борьба с себе подобными опасна, то награда, могущая быть результатом победы, должна соответствовать риску, во всяком случае, если даже допустить неумение животного точно оценивать условия, должна существовать какая-нибудь возможная награда, побуждающая к борьбе. Но что может побудить тигра выступить против тигра? Тигр не пожирает себе подобных, и вообще лишь ничтожное число животных поедает своих сородичей. Каннибализм, подобно войне, является культурным достижением, свойственным одним людям. Но, кроме своего тела, тигр не располагает ничем, что могло бы прельстить другого тигра Те районы охоты, над которыми он властвует, не принадлежат ему, и если другой тигр пожелает воспользоваться ими, то он начинает там же охотиться; если второй оказывается проворнее первого и благодаря этому перехватывает у первого всю добычу, последний принужден, если не желает погибнуть с голода, покинуть данное место; если же первый тигр проворнее, то приходится удалиться пришельцу. Таким образом, борьба между ними протекает без уничтожения противника. {39} Настоящее достояние тигра (его силу, проворство и другие телесные свойства) никакой противник отнять у него не может: все это умирает вместе с ним1.
§ 5. Собственность, война и рабство. Итак, для того чтобы война была вообще мыслима среди сородичей, им приходится быть либо каннибалами, либо владеть чем-нибудь, что стоило бы похитить. Последнее обстоятельство гораздо важнее первого. Следовательно, война действительно «признак культуры»2: человек или животное должны при этом достичь, по крайней мере, такой степени развития, чтобы осознать право собственности на что-нибудь, будь то старая кость, которую собака припрятала для себя и которую она защищает столь же энергично, как человек свой кошель с деньгами, или же самка, за обладание которою олени и петухи борются совсем как люди.
Настоящие войны начались только тогда, когда культура положила начало накоплению собственности. Поэтому в мире животных наблюдаются войны почти только у муравьев и пчел, которые ведут их ради жилищ, пищевых запасов и меда. Ради подобного же воюет и первобытный человек Тут собственность может состоять в так или иначе возделанных полях, в оружии или орудиях; речь может идти также о стадах или женщинах (в качестве рабочей силы или для удовлетворения половых потребностей), наконец, и о самом человеке, в качестве раба становящемся собственностью победителя.
Где ничего нельзя добыть, там нет и борьбы. Юм справедливо замечает, что дикарь редко впадает в искушение прогнать дикаря из его хижины или похитить у него его копье: у него самого уже имеется и то, и другое. Поэтому наиболее миролюбивы те животные, которые собственности не имеют. Самые свирепые хищники среди зверей борются друг с другом лишь в редчайших, исключительных случаях, которые обычно и рассматриваются как признаки их вырождения. {40}
Итак, первобытные люди несомненно отличались миролюбием, и сейчас еще дикие племена никогда не бывают воинственны в нашем смысле слова А мы, цивилизованные люди, также отличались бы миролюбием, если бы мы, подобно нашим отдаленным предкам, не знали собственности. О, если бы человек запомнил раз навсегда: война не заключает в себе ничего естественного, великого и благородного, являясь лишь одним из бесчисленных последствий института собственности! По существу своему она такое же предприятие, как и тысячи других; только она нечестна и применяет насилие. Это. разумеется, ничего не изменяет на практике. Еще не столь давно глава торгового дома, как и предводитель военного отряда, назывался капитаном (capitano); поэтому современному подпоручику нечего глядеть свысока на приказчика: они сродни друг другу, и их титулы происходят от одного и того же корня (латинского capere — брать). Каковы бы ни были цели и результаты войны, здесь всегда дело идет об эксплуатации человека, выражающейся в том, что захватывают избыток его труда или стремятся присвоить себе продукты его будущей работы. Итак, всякая война, если она вообще ведет к практическим результатам и не является излишней, по необходимости влечет за собой порабощение некоторой части человечества. Из этого следует, что война лишь до тех пор имела законное основание, пока люди считали себя вправе требовать от побежденных, чтобы они прислуживали им в качестве рабов в какой бы то ни было форме. Далее, из того же вытекает, что война целесообразна лишь до тех пор, пока люди в состоянии насильственно установить подобное порабощение.
Даже при беглом, поверхностном рассмотрении мы без труда заметим, что современные мирные договоры все еще стремятся к своего рода порабощению. Что представляет собой военная контрибуция, как не часть труда побежденного противника, которой мы его насильственно лишаем? Гёте совершенно был прав, заявив, что «честные», но взимающие контрибуцию солдаты почти ничем не отличаются от воровской шайки. В настоящее время заботятся об ограждении частной собственности. Если это и так. то она ограждается лишь путем того, что отдельную {41} личность грабят не прямо, а косвенно, облагая всю массу побежденного народа. Далее, может ли присоединение какой-нибудь провинции иметь иной смысл, как не тот, что мы желаем воспользоваться проделанной там бывшим неприятелем работой, т. е. опять-таки занимаемся эксплуатациею? Это, разумеется, имеет место и в том случае, когда мы усматриваем в завоеванной провинции только область для колонизации и расширения нашего национального могущества. Правда, здесь играет роль не единичная личность, а весь коллектив в целом, и вопрос касается не только материальных благ, но и культурных. В принципе, однако, тут нет никакой разницы.
Другой вопрос, осуществима ли вышеуказанная эксплуатация путем войны. Во всяком случае, она — цель войны. Следовательно, если бы рабство фактически было упразднено, война стала бы бесцельною; она действительно постольку и бесцельна, поскольку упразднено рабство. А так как современными законами рабство запрещено и в силу фактических условий отчасти действительно стало невозможным, то война вдвойне утратила свое право на существование. De jure она столь же безнравственна, как и рабство, a de facto с нею не может быть связана большая польза, чем с рабством. Конечно, на деле до сих пор сохранилось еще много пережитков рабства (эксплуатация), и с этой точки зрения войну и теперь можно было бы признать целесообразною. Но пусть каждый, отстаивающий войну во что бы то ни стало, ведает, что тем самым он отстаивает рабство. Ведь в священной триаде (капитализм, война и рабство) ни одна составная часть не отделима от другой.
§ 6. Преодоление капиталистической триады. Вообще эта внутренне неразрывная связь указывает, между прочим, на то, что война (подобно рабству) некогда была полезна. Несомненно, в известную эпоху культурного развития человечества было не только полезно, но и крайне необходимо заставить большинство людей работать на других Жизнь животного почти целиком заполняется отыскиванием пищи. Травоядным приходится пожирать бесконечное количество пищи; остальное время уходит у них на переваривание или пережевывание последней. Равным образом и хищный зверь проводит свой день за охотою, {42} едою и сном, знаменующим для него отдых в целях восстановления сил для новых хищнических набегов. Если к этому присоединить время, потребное животному для его сексуальной жизни и некоторого ухода за своим телом, то навряд ли у него останется какой-либо досуг.
Первобытный человек едва ли вел другой образ жизни. И у него весь день без остатка Уходил на удовлетворение телесных потребностей. Между тем, в противоположность животному, у культурного человека имеются и духовные потребности. Когда последние стали проявляться сильнее, в то время как люди были вынуждены почти целый день трудиться над добыванием средств пропитания, возникла необходимость для большинства работать несколько усиленнее, чем это было нужно для него самого: благодаря этому некоторое меньшинство, само не работая, могло за счет избытка добытых другими благ спокойно заниматься на досуге насаждением культуры. Равным образом следует признать необходимым и полезным тот факт, что некоторые народы жили за счет избытков труда прочих народов, чтобы также иметь досуг для культурных занятий. Изумительная античная культура была бы совершенно необъяснима при отсутствии рабства Но и в Германии возникновение первоначально чисто рыцарской духовной культуры было бы невозможно, если бы развившееся в XII веке разделение труда не повело к новому социальному расчленению на классы, если бы крепостные и крестьяне не работали на дворянина-помещика; затем возникла буржуазия, а ныне к ним присоединяется пролетариат. Это произошло так потому, что иного рода организация сделала излишним насильственный, вынужденный, рабский труд. Все общество добровольно отказалось от части своих доходов, чтобы за их счет создавать культурные ценности, ибо если государство уделяет часть своих налоговых поступлений на нужды министерства просвещения, то тем самым восполняется культурный фактор рабства. И вот, как некогда благодаря рабству, горсть избранных имеет теперь возможность жить за счет всех1. К этому следует {43} присоединить еще и то обстоятельство, что (по крайней мере, принципиально) значительную часть работы, которая раньше лежала на рабах, могут в наше время выполнять машины. Если бы, в связи с техническими усовершенствованиями, наши потребности не возросли, к сожалению, в такой мере, что они все еще превосходят размеры машинного производства, если бы мы могли удовлетвориться утроенным количеством продуктов рабского труда греко-римской эпохи (что само по себе было бы не так плохо), то нашим рабочим приходилось бы трудиться лишь несколько часов в день. Машины наши производят работу примерно в десять раз большую, чем та, которую могли бы произвести обслуживающие их люди; следовательно, для того, чтобы создать только в три раза столько, сколько создал бы голый человеческий труд машинам пришлось бы быть в ходу лишь в течение одной трети того времени, какое они работают теперь. Следовательно, и рабочим пришлось бы работать примерно в три раза меньше, чем теперь. Но потребности растут и искусственно раздуваются, и этот рост потребностей до сих пор поощряет рабство в виде эксплуатации трудящихся и в форме войны.
Подобно тому как собственность вызвала воровство, она породила и войну, а вслед за ней и все пороки. Конечно, для некоторых лиц она является и источником добродетели: тем слабовольным людям, которые действуют только тогда, когда они могут рассчитывать на конкретное обогащение, собственность служит единственным стимулом к труду. Грабеж вызвал любостяжание, а последнее, в свою очередь, вызвало гнев и месть. И гомеровская Илиада, и древнегерманский эпос, свидетельствуя о правильном понимании жизненной правды, провозглашают целью войны месть и грабеж. Лишь изредка кучка людей как будто боролась за какую-нибудь чистую идею (таковы, например, альбигойцы). Но мне сдается, что и это одна лишь видимость и что при более детальном рассмотрении тут также обнаружились бы совершенно иные мотивы Я решительно не могу себе представить возможности обнажения меча за чистую идею, совершенно свободную от всякой примеси элементов власти. Даже за чистую идею отечества можно бороться, стараясь в себе самом (и тем самым соблюдая и интересы всех прочих), по возможности, развивать хорошие наклонности и стремления своего народа: но навряд ли {44} будет полезно для этой чистой идеи отечества, если мы, защищая ее, пустим в ход пушки.
Итак, война, собственность и рабство теснейшим образом связаны друг с другом.
§ 7. Дарвинизм. При рассмотрении первоначальных инстинктов войны обнаружилось, что поводом к возникновению ее было стремление к собственности. Это, однако, отнюдь не значит, что и по сей день еще смысл войны тот же: с течением времени характер того или иного явления меняется. Подобное «изменение функций» встречается у многих органов человеческого тела. Напр, когда наши отдаленнейшие предки еще плавали в прудах, их легкие, которыми мы теперь пользуемся для дыхания, исполняли роль плавательных пузырей. Позже, когда наши предки жили уже на деревьях, руки, которыми современный человек хватается за молот, грифель, топор и меч, служили для лазанья. И все наши установления с течением времени видоизменялись: брак и театр, ныне являющиеся нравственными институтами, возникли из стремления к обладанию собственностью (брак) и из потребности в движении (пляска — музыка — трагедия). Нечто подобное можно, пожалуй, сказать и о войне. Если бы даже удалось выяснить ее теперешнюю непригодность как средство к грабежу и доказать, что война в крайнем случае полезна только небольшим группам людей, то это еще не говорило бы о бесполезности войны вообще; ведь и она могла испытать «изменение функций»: некогда полезная для легкого обогащения война, быть может, в конце концов действительно стала, как это охотно утверждают ее {45} современные адепты, необходимым средством для отбора и усовершенствования народов; быть может, таково было ее влияние с самого начала, хотя человек и не культивировал ее специально с этой целью. Во всяком случае, необходимо рассмотреть ее и под этим углом зрения
Война, несомненно, изменила человека Первоначально возникшее в человеке стремление к собственности только объясняет, как мы, в противоположность нашим мирным прародителям, пришли к тому, чтобы впервые начать войну После этого война уже перестала быть только «действием»; она превратилась в «фактор воспитания». Мы совершаем действия, а затем мы зависим от них Убив своего брата Авеля, Каин стал иным, чем он был раньше, и от печати Каина человечество не освободилось до сего дня. В этом отношении война ничем не отличается от всех других человеческих деяний. Мы создали язык, земледелие, технику и многое другое; теперь же они воспитывают нас. Мы когда-то поедали людей, держали рабов, поклонялись идолам, и все эти временные явления оставили неизгладимые следы на человеческой психике. Равным образом и тот факт, что наши предки в течение свыше десяти тысяч лет вели длительные войны, не мог пройти бесследно: им определяется некоторая воинственность даже самого миролюбивого человека. Еще в другом, и притом гораздо более важном, отношении войне приписывается огромное влияние на развитие человечества: она будто бы не только воспитывает, приучает нас, но в качестве специального вида борьбы за существование влияет на отбор.
Нынешние теоретики-защитники войны в большинстве случаев не естествоиспытатели. Но, во всяком случае, они знают мнение Дарвина, что путем борьбы все живое идет к победе; тем, что всюду уничтожается непригодное, определяется дальнейшее существование пригодного, и таким образом происходит усовершенствование расы. Что могло бы быть приемлемее, чем применение этой теории к войне? Сильные народы побеждают, слабые погибают. Хотя это, к сожалению, и жестоко, и в единичных случаях тормозит культуру, но тем не менее это единственное средство к отделению ценного от плохого. Такой путь, правда, долог и кровав, но он все-таки ведет ввысь. Итак, подобно борьбе за существование, война является одним из тех неумолимых естественных правомочий, которые рождаются вместе с {46} нами. Наравне с борьбой за существование и война, безусловно, полезна.
Независимо от того, что ссылка на врожденное естественное право представляет ничего не значащую фразу, независимо от того, что борьба за существование отнюдь не всегда полезна, война, как сейчас будет показано, вовсе не совпадает с понятием борьбы за существование в истинном значении этого слова. От указанного утверждения остается, следовательно, очень мало. Тем не менее мы не должны удивляться ему. Наше поколение навряд ли способно оценить то чувство воодушевления, какое вызвало во всей Европе вышедшее 26 ноября 1854 года сочинение Дарвина о происхождении видов. Под влиянием первоначального восторга идея борьбы как бы загипнотизировала все науки: эту идею распространили на химию и астрономию, космологию и историю, психологию и социологию.
Здесь нас интересует лишь ее применение к социологии; применение оказалось особенно опасным. Борьба, захватывающая всю природу, конечно, не приостановилась в тот момент, когда возникло человечество. И человек безусловно зависит от борьбы; да никто в этом никогда и не сомневался. Гёте сказал:
|
Ведь и я был человеком; Это значит: был борцом. |
Но, начиная с ветхозаветного Иова и вплоть до Гёте, вероятно, никто не вздумал бы утверждать, что борьба, заполняющая всю жизнь человека, должна вестись с помощью ружей и пушек. Конечно, не считал этого возможным и Дарвин, устанавливая свою формулу «борьбы за жизнь» (struggle for life).
Борьба повсеместна; однако средства борьбы меняются Лисица борется с зайцем, поедая его. Заяц борется с серною, поедая у нее корм. Два вида мышей борются друг с другом, причем один из них, например, выносливее к перенесению холода. Различные виды борьбы в природе отнюдь не могут быть просто сопоставляемы и сравниваемы друг с другом. У всякой расы имеется своеобразный метод борьбы Также неправильно усматривать в борьбе за существование жестокость или даже грубость. Сам Дарвин в V главе своего «Происхождения {47} человека» пояснил, что уже низшим животным присущи социальные инстинкты, и притом имеющие большое значение. Однако последователи Дарвина не обратили должного внимания на эту сторону его учения, упустив из виду то обстоятельство, что если доискиваешься происхождения социальных инстинктов, то доходишь до принципов, развивающихся на почве борьбы, но коренящихся не в ней.
Не случайно, что почти исключительно русские ученые, т. е. представители той расы и жители той страны, в которой осуществлялся принцип мирской общины («мира»), подчеркнули именно эту сторону учения самого Дарвина и тем самым восстали против крайностей современного дарвинизма. Первым, определенно выдвинувшим значение социального инстинкта в качестве корректива к так называемому дарвинизму, был русский зоолог Кесслер1, к сожалению, вскоре затем (уже на следующий год т. е. в 1883 г.) умерший. Но он побудил Кропоткина опубликовать в течение семи лет в «Nineteenth Century» серию статей «О взаимопомощи»2. Наконец, во многих своих сочинениях Новиков3 также указал на это. Как мало, однако, эти труды повлияли на официальную науку, можно усмотреть хотя бы из того, что имя Новикова (как и имя француза Эспинаса) не значится даже в новейшем издании большой Мейеровской энциклопедии. Мы особенно рекомендуем всем интересующимся настоящей дарвинистической социологией труды Петра Кропоткина и Новикова
Подобно всем прочим животным, человечество тоже ведет борьбу за существование (без жестокости, но и без милосердия, вовсе не встречающихся в бесчувственной природе) по железным, вечным, великим законам. Но — и это самое главное — борьба должна быть «борьбой за жизнь», а не «борьбой против жизни» какова война Чтобы уяснить это, необходимо доказать, что для человечества борьба за существование сводится к тому, чтобы при помощи свободной интеллектуальной {48} деятельности подчинить человечеству наибольшую массу энергии. В тех случаях, где этому способствует война, она имеет оправдание, т. е. находится на пути человеческого развития. Там, где борьба не ведет к этому (или даже препятствует этому), она незакономерна, удаляя человечество от линии прогресса. Мы увидим ниже, к какой категории борьбы относится война.
§ 8. Основной закон роста. Смысл всеобщего принципа борьбы в природе останется непонятным без знакомства с самым основным биологическим законом, гласящим: все существующее, на первом плане все живое, являет стремление расти до бесконечности. Борьба объясняется лишь этим законом роста. Собственно говоря, на земле было бы достаточно места для многого; но так как у всякой вещи наблюдается тенденция расти беспредельно, то отдельные вещи по необходимости сталкиваются друг с другом.
Закон этот сказывается уже в области неорганической: небесные тела, раз образовавшись, растут благодаря силе тяготения, привлекая к себе все встречающиеся им на пути или попадающие в сферу их влияния планеты; «растет» и кристалл, пока для этого есть достаточно материала. Словом, всюду, где есть движение, ясно замечается стремление к «объединению однородного», т. е. к росту1. Физика в настоящее время теоретически уже обосновывает эту тенденцию или, по крайней мере, стремится к этому2. Как бы то ни было, но все, и особенно живая субстанция, растет. Однако этому росту поставлены границы, которых существует три: осмотические, механические и энергетические.
Отдельная клеточка не может вырасти за пределы величины булавочной головки, потому что в противном случае внутренность ядра не питалась бы достаточно набуханием, осмосом. Это и является пределом роста одноклеточных живых организмов. Но тенденция к росту все же сказывается. Так как отдельная клеточка увеличиться не может, то дальнейший рост {49} возможен только путем объединения отдельных клеток в клеточные организации. Таким образом возникают многоклеточные организмы, индивидуумы. Они также проявляют стремление к дальнейшему росту. Это можно проследить на ходе развития животных1. Так, например, древнейшая из известных палеонтологии лошадей была ростом примерно с нашу лисицу; понемногу она стала расти, и рост ее продолжается до сих пор. Так обстояло дело и со всеми другими животными (в том числе и с нами, людьми).
Наконец и тут достигается известный предел, которого не может переступить даже многоклеточный организм. По причинам механического свойства болотные и водные животные, достигшие большей величины, чем кит, сухопутные, превышающие ростом слона, и летающие в воздухе, если они значительно больше лебедя, существовать не могут: их организм не обладал бы достаточной силой и прочностью. Та же палеонтология учит, что указанный предел (теоретически вычисленный для птиц, например, Гельмгольцем и могущий быть установленным также для прочих животных) фактически не переступается. В течение тысячелетий все животные постепенно увеличиваются в росте; достигнув возможного предела, они вымирают, как, например, мастодонты мелового периода Однако эти, на наш взгляд исполинские животные все-таки еще невелики по сравнению с тем ростом, которого могла бы достичь разрастающаяся субстанция (вещество), к чему она и проявляет тенденцию. Но так как механический предел (именно вследствие своей механической основы) сам по себе непреодолим, то и особи, подобно тому как мы это видели на примере отдельных клеточек, принуждены объединяться в более обширные организации. Благодаря этому они получают возможность удовлетворить присущую им склонность к росту.
В известном примитивном смысле всякое множество однородных особей (напр., все мыши, все млекопитающие, даже все животные вообще) может быть принимаемо за такую организацию, т. е. считаться организмом. Да оно и является таковым, {50} поскольку им управляют однородные законы. Так, например, уже неоднократно отмечавшийся нами факт, что животные в большинстве случаев не едят себе подобных и даже не нападают на них, заставляет усматривать, именно в смысле борьбы за существование, во всей совокупности того или иного вида животных единый организм. Однако такой слабо связанный комплекс все-таки еще не представляет собой настоящего организма. Его можно приравнять, например, к тем кучкам клеточек, которые мы наблюдаем у Volvox globator. Но подобно тому как одноклеточные развились не только до плохо организованного шара вольвокса, но и образовали настоящие организмы, так из этих слабо связанных комплексов и наряду с ними постепенно развиваются организмы высшего порядка, социальные группы И подобно тому как организм сильнее кучки клеточек, так и социальные группы обладают легко уловимыми преимуществами а из этого следует, что стадно живущие животные несомненно составляют свыше девяти десятых всего животного мира.
Но далеко не все одноклеточные развились в многоклеточные индивидуумы: в воздухе, в воде и на земле осталось неисчислимое множество простейших, и по настоящее время существует немало одиноко живущих особей. Лишь некоторые виды животных достигли степени образования социальных союзов. Правда, многие животные живут стадами, что знаменует собой ценное начало, но настоящие социальные союзы существуют лишь среди высших насекомых (например, пчел, муравьев и т.п.) и среди людей. Соответственно общей тенденции к росту, непрерывно растут и эти социальные объединения У людей мы можем проследить это детально, но и относительно животных это хорошо известно. Так, например, древнейшие породы гименоптеров (пчелообразных животных) живут поодиночке; за ними следуют такие, гнезда которых состоят лишь из немногих отделений, тогда как пчелы имеют ульи с тысячами сотов.
Рост и таких социальных комплексов имеет свой предел. Это обусловливается тем, что на земле находится пища (или энергия) лишь для ограниченного количества организмов. Однако, если — как мы это только что видели — осмотический предел одноклеточных и механический предел многоклеточных могли быть обойдены более высокими группировками, то энергетическая граница незыблема и непреодолима. Это обусловливает {51} существенную границу: многие виды одноклеточных и многие виды особей могли существовать рядом, и каждый из них в течение своего развития мог вырасти до возможного предела. Однако, если бы какой-либо вид достиг полного своего развития, требуемого законом роста, если бы, например, существовало 25 биллионов слонов, или 1000 биллионов людей, или 100 000 биллионов морских свинок, или 10 000 000 биллионов мышей, то рядом с такими массами каждого из видов животных ни для какого другого животного на земле не оставалось бы места. Но так как каждая порода стремится к этой цели, то закон роста требует борьбы. Впрочем (и это столь же существенно), он предписывает также условия последней.
Во всяком случае, борьба эта должна быть длительной: слишком велика опасность оказаться превзойденным. Периоды, в течение которых какой-нибудь вид животных мог бы возрасти до массы, исчерпывающей все имеющиеся налицо источники питания, невероятно коротки. Наибольшею жизненною энергиею обладают бактерии. Одна бактерия, ежечасно делящаяся пополам, за 10 часов превращается примерно в 1000 бактерий1. В следующие десять часов от каждой из этих 1000 бактерий получилось бы еще по 1000; следовательно, через двадцать часов одна бактерия превратилась бы в один миллион бактерий. Так продолжалось бы и дальше, если бы бактериям доставлялось необходимое количество пищи, что, конечно, невозможно; другими словами, по истечении каждых десяти часов к числу, обозначающему количество бактерий, пришлось бы прибавлять по 3 нуля. По прошествии 120 часов (пяти суток) это дало бы число с 35 нулями, а по прошествии десяти суток число с 72 нулями. Если взять хотя бы самую маленькую круглую бактерию, имеющую 0,001 мм в диаметре, то, как это легко вычислить, колония через один день представляла бы едва видимый комочек в 0,25 мм в диаметре; на второй день {52} она заполнила бы уже обыкновенный стакан, на третий день достигла бы высоты четырехэтажного дома, а на четвертый день представляла бы гору величиною с Монблан. Спустя четыре дня и четыре часа эта масса возросла бы до таких размеров, что могла бы покрыть в виде живой слизистой оболочки толщиною около 20 см весь земной шар и тем самым представляла бы максимум того живого вещества, которое могло бы существовать на земле. Если продолжить этот подсчет, то окажется, что на пятый день колония бактерий была бы величиною с луну, а начиная с шестого дня она настолько быстро превзошла бы все доступные нам измерения, что на десятый день заполнила бы все мировое пространство, видимое в лучший телескоп.
Рост высших животных происходит гораздо медленнее. Но при беспрепятственном размножении и они давно достигли бы предела, возможного на земле. Следующая таблица дает соответствующие цифровые данные:
При беспрепятственном размножении
максимума (100 билл. тонн) достигли бы:
2 бактерии............... |
приблизительно в |
0,01 |
года |
2 кролика или мыши |
............................ |
20 |
лет |
2 человека................ |
............................ |
1200 |
лет |
2 слона..................... |
............................ |
2000 |
лет |
Итак, в сравнительно короткое время каждая порода могла бы собою одною настолько заполнить землю, что для чего-либо иного там не оставалось бы места. То, что этого еще не случилось, объясняется наличием борьбы, притом чрезвычайно ожесточенной, между отдельными породами. Тем не менее можно удивляться, что за те миллионы лет, которые уже длится эта борьба, ни одной породе не удалось хотя бы отчасти одолеть другие и что вся совокупность организмов пользуется лишь весьма ничтожной частью предоставленной в ее распоряжение энергии. В то время как на каждом квадратном метре земной поверхности имеется место для 200 кг живой субстанции, в действительности, как показывает ниже-помещаемая таблица, тут находит питание значительно меньшее количество. {53}
Чтобы понять, почему органический мир так скромно использовал предоставленные ему возможности и почему, в частности, человек, властелин земли, эксплуатирует столь ничтожную их долю, необходимо ближе присмотреться к источнику жизни. Лишь на основании ознакомления с объектом борьбы мы поймем, что мы оттого не преуспевали в этой «соответствующей природе борьбе всего человечества», что мы слишком отвлекались «войнами между собою».
На каждом квадр. метре |
Процент по отношению |
||
живет в среднем |
0,4 |
гр. людей |
0,0002% |
» |
10 |
гр. животных |
0,005% |
» |
1000 |
гр. растений |
0,5% |
могло бы жить |
200 000 |
гр. живой субстанции |
|
§ 9. Объект борьбы. Объектом борьбы является пища (в самом широком смысле слова). Борьбу за существование называют поэтому — пожалуй, это еще точнее — борьбой за пищу. Уже одно это обстоятельство объясняет, почему до сих пор еще ни одному виду организмов не удалось вытеснить все остальные живые существа. Лисица, например, нуждается в зайце как в пище, и если бы она съела последнего зайца, ей пришлось бы околеть от голода. Следовательно, поедающий в гораздо меньшей степени влияет на урегулирование числа поедаемых, чем обратно. Это должно поразить тех, кто думает, что течение жизни можно регулировать при помощи пушек, т. е. орудий истребления. Такая неизбежная зависимость организмов от источников их питания обусловливает множество в большинстве случаев очень запутанных взаимоотношений между животными и растениями. При этом следует иметь в виду, что, в сущности, все животные нуждаются в растениях: только растения в состоянии извлекать соответствующие питательные вещества из воздуха, воды, земли и огня (т. е. четырех стихий древности). Основные элементы этой пищи (водород кислород углерод и азот) в изобилии содержатся в воде, воздухе и земле, равно как и незначительная примесь иных веществ (например, {54} один только корабль, нагруженный железом, мог бы обеспечить этими материалами всех людей). Поэтому, если бы вопрос сводился к одной материи, то возможно, что постепенно почти весь земной шар превратился бы в живую субстанцию и стал бы затем вращаться в виде настоящего организма вокруг солнца
Не хватает, однако, четвертой стихии — огня. Если материальная пища была бы достаточна по крайней мере для 100 триллионов тонн организмов, то наличности оживляющего и формирующего огня (энергетическая пища в узком смысле слова) хватает только для 100 биллионов тонн живой субстанции; другими словами, огня хватает лишь для одной миллионной части всего живого мира. На примере это можно пояснить так: если материи хватило бы для огромного дома в Берлине, то энергия могла бы обслужить один лишь кирпич этого дома. Следовательно, с самого начала можно предположить, что борьба будет вестись за относительно скудную энергетическую пищу. Так оно и есть на деле: борьба направлена исключительно на захват энергии1.
Краткое упоминание относящихся сюда данных пояснит сказанное: жить — выражаясь языком физики — значит пропускать сквозь себя ток энергии. Когда человек ест или дышит, он воспринимает энергию; когда он работает и думает, он ее выделяет. Вся эта энергия — что в настоящее время в точности известно — ведет свое происхождение от солнца2. Как уже упомянуто, только растения в состоянии использовать излучаемую солнечным светом энергию и создавать с ее помощью из воды, воздуха и земли сложные химические тела, которые, подобно пороху, могут производить работу при своем сгорании. Порох выталкивает пулю из {55} ружья, а сахар, который я ем, дает моим мускулам возможность швырнуть подобным же образом камень. Живая субстанция (особенно животных) в состоянии сжечь созданную растениями пищу и, в свою очередь, превратить ее в работу.
Это обычно называется кругооборотом жизни. Однако подобное выражение может ввести в заблуждение: только химические вещества, из которых состоят растения и животные, проделывают такой кругооборот; настоящее же оживляющее начало, энергия, совершает свой путь не циклически; в этом отношении ее путь может быть сравниваем с параболическим движением комет. Освободившаяся солнечная энергия достигает чрез 8 минут земли, остается здесь определенное время (от секунд до миллионов лет) и затем медленно, но для нас безвозвратно покидает землю и, превратившись в теплоту, излучается в беспредельном мировом пространстве.
Во время своего пребывания на земле солнечная энергия заставляет влагу подниматься к облакам, вызывает ветры и создает морские течения, творит растения и через них питает животных. Без солнца земля была бы мертвым, безжизненным телом. Солнечная энергия может оставаться на земле долго (в виде каменного угля она насчитывает, быть может, миллионы лет); но в конце концов ей приходится все-таки покинуть землю и уйти в мировое пространство. Необходимо использовать этот избыточный поток и воспринять из него, провести его через себя в возможно большем количестве. Так как известно, как велик этот достигающий земли поток энергии и сколько энергии должно пройти через каждый килограмм организма, чтобы он мог жить, то легко высчитать, что на земле, как уже сказано, может существовать не свыше 100 биллионов тонн живой субстанции. Но эта масса могла бы жить, и если бы человеческому роду удалось направить всю имеющуюся энергию на себя, то он мог бы численно увеличиться более чем в миллион раз. Тогда на каждом квадратном километре суши жило бы в среднем не 11 человек, как теперь, а 20 миллионов (или, так как тогда удалось бы использовать как-нибудь для жилья и водные пространства, 60 миллионов). Во всяком случае, тогда на каждый кв. метр пришлось бы по 6 человек. Следовательно, люди вынуждены были бы жить, подобно муравьям в муравейнике, во множестве этажей, друг над другом. Такого количества людей в действительности быть не может. По причинам, о которых мы сейчас скажем, мы, вероятно, только приблизимся к нему. На земле, {56} во всяком случае, имеется место не только для «всех», ныне на ней живущих, но и для бесчисленных новых миллиардов людей. Итак, человек стоит в самом центре могучей борьбы, борьбы в буквальном смысле за частицу солнечной энергии. Борьбу эту следует довести до конца. Все способствующее ей означает победу; все, что тормозит ее, — поражение.
§10. Методы борьбы. Мы уже говорили, что цель этой борьбы заключается в том, чтобы пропустить через себя возможно большую долю всеобщего потока энергии. Средства к достижению этой цели разнообразны. Все они, однако, могут быть сведены к трем основным категориям: всякий вид существ может увеличить сумму воспринимаемой им энергии лишь тем, что он:
1) отнимает от других почерпнутую ими энергию;
2) размножается и тем самым увеличивает число черпающих энергию;
3) совершенствуется, увеличивая этим путем свою способность черпать энергию.
Первая возможность сводится к грабежу и войне, вторая означает усиление способности размножения, третья — настоящую творческую борьбу.
Нет никакой необходимости детально описывать эти методы. Достаточно коснуться их лишь постольку, поскольку это требуется для выяснения вопроса, имеет ли война что-либо общее с борьбою за существование. И вот приходится в общем отметить, что уже среди животных главную роль, несомненно, играет третий род борьбы и что вульгарное представление о борьбе за существование совершенно незаслуженно выдвинуло на передний план первый метод, тогда как второй занимает во всех отношениях среднее положение. В отдельности к этому приходится добавить лишь немногое.
Первый метод и вместе с тем наиболее примитивный, состоит в том, что отнимают что-либо у других, убивая их и стремясь использовать в своих интересах ту энергию, которая доселе питала подвергшихся нападению. Он теснее других методов связан с войною. Но по отношению к человеку с этим методом едва ли приходится считаться. Если вспомнить, что вся совокупность животных пользуется лишь одной двадцатитысячной долей наличного запаса энергии, то станет совершенно ясным, что в этом случае «воровство» совершенно нецелесообразно. {57} Вопрос о подобном воровстве мог бы возникнуть только в том случае, если бы до сих пор неиспользованная энергия вообще не могла быть использована. Когда все булочные закрыты, становится понятным, что человек может совершить убийство ради куска хлеба. Но если в то время, как тысячи булок валяются повсюду, кто-нибудь убил убогого нищего из-за сухой корки хлеба, то это было бы сумасшествием. К животным сказанное неприменимо столь просто: для них не остается так много свободной энергии, потому что они не отличаются способностью подчинять себе по своему желанию силы природы. Человек же (как это известно всякому и вдобавок будет нами выяснено) обладает в значительной мере возможностью использовать в своих интересах свободную энергию; поэтому ему метод «грабежа» совершенно не нужен. Между тем характерно, что именно этот нецелесообразный метод особенно способствовал популярности борьбы за существование: для большинства людей борьба за существование сводится к взаимному истреблению и ограблению друг друга как в частной, так и в международной жизни. Конечно, в отдаленном прошлом непосредственная борьба играла и у человека более видную роль: тогда человек, подобно животному, располагал лишь весьма несовершенными средствами для использования наличной в природе энергии. Чтобы стать властелином земли, человеку пришлось с самого начала уничтожить, например, крупных зверей. Но эта борьба не аналогична нашей современной войне. Борьбу с миром животных человек закончил давно, тогда, когда он еще сам был как бы животным и применял методы животного. В настоящее время своего рода воспоминанием об этом давнем прошлом служит борьба его с бактериями, наименьшими (это характерно!) из известных нам живых существ.
Второй метод борьбы за энергию состоит в размножении породы, т. е. в повышении плодовитости1. Если каждое животное потребляет одну калорию2, то 100 животных потребляют 100 калорий, а 1000 животных — 1000 калорий. Это настолько простой {58} пример, что он ясен всем, и одно время спасение усматривалось именно в умножении породы. Это по многим причинам неверно. Не следует забывать, что размножение ценно лишь в связи с усовершенствованием и что повышенная плодовитость содействует только в том случае отбору, если детей рождается больше того количества, которое при данных условиях может прожить: тогда многие умирают, притом, согласно общему закону, как раз слабые, так что в итоге получается порода более сильная, чем если бы людей рождалось меньше и все без разбора оставались бы в живых Если же, как это наблюдается в современной Германии, несмотря на быстро падающее число рождений, численность населения все же увеличивается благодаря уменьшению смертности, то это подтверждает превосходную постановку учреждений социальной гигиены; во всяком случае, тут нет биологического плюса Впрочем, подобное стремление к увеличению численности населения во что бы то ни стало обнаруживает не что иное, как плохо скрываемое желание страны иметь побольше солдат. Следовательно, здесь нет и следа влияния учения Дарвина.
Впрочем, еще важнее нечто другое. Численность особей того или иного вида животных никогда не находится в прямой зависимости от их плодовитости: если рождается много экземпляров, то многие из них и умирают в молодости, и чем меньше их рождается, тем большее количество их достигает периода половой зрелости. Такого рода уравнивание подтверждается всюду опытом. Численность особей животного вида зависит скорее от внутренних свойств данного вида Такой способный к размножению вид мы называем хорошо приспособленным, причем само это обозначение показывает, что в конечном счете внутренние качества находятся в зависимости от условий окружающей среды. Подобно всем другим явлениям в мире, и возможность распространения породы животных или человеческой расы представляется состоянием равновесия между внутренними и внешними условиями. Если что-либо изменяется, то равновесие нарушается, и в результате получаются количественные прирост или убыль.
О внутренних условиях речь будет впереди. Влияние же внешних условий установить нетрудно. Дабы львы могли размножаться, необходимо сперва, чтобы размножились газели; если должно быть больше ласточек, то должно предварительно увеличиться количество мух. Так как все животные, как выше указано, косвенным {59} образом питаются растениями, которые одни только и могут черпать непосредственно из солнечных лучей все им необходимое, то растения следовало бы признать единственными живыми организмами, способными размножаться самостоятельно. Между тем и они, в свою очередь, в весьма разнообразных отношениях, например при процессах оплодотворения, зависят от животных. Однако принципиально, по крайней мере, они могли бы быть независимы; и на самом деле они составляют наиболее значительную часть общей массы организованной субстанции на земле.
Третий метод самостоятельное усиление собственных способностей, ясно выявляется лишь на человеке: только человек представляется нам самодеятельным. Хотя и у животных имеется намек на этот процесс, но последний находится в слишком большой зависимости от внешних условий. Человеческая борьба будет описана ниже. Там мы, между прочим, покажем, что, во-первых, этому методу, который люди, составляя в этом отношении единственное исключение среди всех живых существ на земле, развили в своем свободном духовном творчестве, человек обязан всеми своими успехами в прошлом, настоящем и будущем; во-вторых, что по этому пути, не задерживаемый ничем и никем,— разве только самим собою,— он мог бы шествовать до бесконечности; в-третьих, что это единственный соответствующий человеческому достоинству вид борьбы.
На основании этих трех объективных данных я затем сделаю вывод который, если угодно, можно назвать субъективным.
Мне кажется, что человек должен вывести отсюда следующее заключение: творческая борьба ценнее уничтожающей войны; поэтому наша человеческая борьба за существование не только должна принять форму творческой борьбы, но и примет ее.
§ 11. Животная борьба людей. В целях размножения человеку приходится искать новых источников питания Он достигал этого до сих пор главным образом тем, что приручал и разводил животных и насаждал растения. Таким образом, в этом отношении получается как бы заколдованный круг: человек {60} может черпать тем больше, чем больше он предоставляет заимствовать другим. Конечно, и при таком методе борьбы получается известная доля прогресса: пока человек вел примитивный образ жизни животного, довольствуясь всем, что ему попадалось на пути, по-видимому, не свыше 100 миллионов таких сравнительно нетребовательных и, вместе с тем, сравнительно неуклюжих людей могли найти на земном шаре подходящие для них условия жизни. Затем наступило время, когда человек сделался властелином земли, правда, сперва властелином только царства животных и растений (но еще не неограниченным владыкою над управляющими землей законами). В настоящее время мы устраиваем себе жизнь по своему собственному усмотрению. Из фауны и флоры мы оставляем себе лишь полезных нам домашних животных и культурные растения. При таком положении человечество в состоянии значительно прогрессировать. С той эпохи варварства, когда человек зависел от случайного наличия средств питания, человечество размножилось уже в 15 раз: ныне, вместо прежних 100, на земле живут 1500 миллионов людей. Но при более интенсивном использовании всех заложенных в земледельческой фазе нашего развития возможностей мы могли бы увеличить нашу численность приблизительно еще в 15 раз: при интенсивной хозяйственной обработке всей земли на одном кв. километре могло бы жить до 150 человек (т. е. 22 500 млн на всем земном шаре)1. Энергии же хватило бы для в 100000 раз большего количества людей. В настоящее время мы живем как раз в середине сельскохозяйственного периода, насчитывающего, вероятно, уже почти 20000-летнюю давность (быть {61} может, и того больше), и мы можем быть уверены, что вторую часть этого пути мы пройдем гораздо быстрее, так как мы во всеоружии научного знания. В связи с применением агрономических методов количество населения земного шара не может превысить 20 миллиардов человек. Это объясняется не только тем, что нам придется содержать и разводить великое множество животных и растений, чтобы питаться ими, но главным образом нетрадиционным использованием имеющейся в изобилии энергии. Чрезвычайно существенно, прежде всего, то обстоятельство, что предоставленные нам природой, но сравнительно еще весьма мало усовершенствованные растения нужны нам для использования при их посредстве солнечного лучеиспускания. Но мы знаем, что возможны и лучшие методы.
Это лучшее использование, эти новые методы борьбы, являющиеся, по крайней мере в своем высшем развитии, достоянием человеческого общества, базируются на открытии новых источников энергии. В известном смысле этого достигает уже животное путем повышения своей жизнеспособности. Животный организм в состоянии сжигать (растительную) пищу и тем самым творить работу, т. е. приводить в движение мускулы, выделять соки, развивать деятельность мозга, короче говоря, совершать действия, полезные для соответствующего животного. Но в ряде таких действий и состоит жизнь. Поэтому ясно, что жизнеспособность животного становится тем больше, чем больше такой энергии животное может использовать для себя и своих целей. Это сказывается двояким образом. Если животному приходится быстрее и лучше ползать или бегать, прыгать или лазать, плавать или летать, то для этого, при прочих равных условиях, необходимо, чтобы оно могло потреблять и больше энергии. Поскольку же оно приобретает способность скорее реагировать даже на менее сильные импульсы, оно должно иметь возможность быстрее использовать имеющуюся у него энергию, т. е. быть в состоянии потреблять в единицу времени больше энергии, чем раньше. Другими словами, всякий прогресс как способности восприятия, так и работоспособности, возможен лишь путем усиления потребления энергии. Эта связь обусловливает полный параллелизм развития жизненных сил телесной субстанции и усовершенствования органов животного. Если медленно сокращающийся мускул червяка превращается в быстро двигающийся мускул насекомого, животное должно одновременно с этим {62} приобрести способность производить более значительную работу. Иначе улучшенный мускул был бы бесцелен. И это наблюдается везде и во всем. Каждый орган требует все больших и по возможности новых источников энергии, заключающихся для высших животных в том, что они больше едят и соответственно с этим больше работают. Но они не могут съесть больше того, что они могут использовать. Тем самым определяется и предел борьбы за энергию, обусловливаемый организациею того или иного животного. С другой стороны, отсюда же вытекает, что всякое различие между нами и лениво ползающими на дне морском низшими видами животных может быть выражено числовым обозначением энергии. Это сопоставление показывает, что животные в течение процесса своего развития действительно усовершенствовались в данном отношении: живая субстанция высших животных трудоспособнее, т. е. расходует больше энергии. Говорят, что интенсивнее стал обмен веществ. Энергия, которую ежечасно расходуют почти неподвижные морские звезды, выражается в сравнительно ничтожных количествах; у насекомых и каракатиц, у лягушек и пресмыкающихся количество поглощаемой энергии уже больше; лишь у высших животных этот поток энергии достигает такой интенсивности, что надолго согревает их тело. Человек, например, приобрел способность расходовать в час от одной до двух калорий на килограмм. Следовательно, весь человек в час расходует приблизительно 100 калорий, а при усиленной физической работе порою и значительно больше. Но хотя на протяжении миллионов лет способность человека к восприятию все большего количества энергии и прогрессировала, однако по сравнению с остальными млекопитающими на его стороне едва ли наблюдается в этом отношении какое-либо преимущество. Его жизнеспособность не больше и его органы не лучше, разве только их можно признать более многосторонними.
§ 12. Человеческая борьба. Но человек в состоянии сделать больше. Как ниже будет подробнее выяснено, высшие животные обладают приблизительно максимумом органов, которые они в состоянии иметь. В §14 я укажу на те преимущества, которые представляет способность человека пользоваться устранимыми и заменимыми органами (орудиями) для его психики; здесь то же обстоятельство выявляется в другом смысле. Тот факт, что человек научился пользоваться {63} орудиями, чуждыми его телу, дает ему возможность использовать в своих собственных интересах почти беспредельное количество энергии.
Правда, и тут он не вполне обошелся без прообразов и примеров из царства животных Вообще, едва ли сам человек создал что-нибудь безусловно новое1. Когда парящая в воздухе хищная птица чертит свои круги, почти не делая движений, она пользуется энергиею ветра; когда же муравей эксплуатирует рабов, он пользуется долею жизненной энергии этих существ. Самостоятельное развитие эти первые смутные попытки нашли, однако, только у человека. Лишь человек создал для борьбы за энергию новые формы и возможности, научившись пользоваться в своих интересах чужой энергией, не пропуская ее через свое тело. Начатки этого процесса обнаруживаются еще у первобытных людей. Волу приходилось тащить их груз, коню бегать, собаке применять свои слух и обоняние, овце давать им тепло; словом, каждое домашнее животное, прирученное человеком для своих целей, было для него фактором энергии. Но в конечном счете животные использовались тут только в том виде, в каком они и сами по себе уже выполняли те же функции. Однако при дальнейшем следовании этому принципу обнаруживается значительное затруднение (как раз в Германии особенно ярко сказавшееся в нынешнюю войну), а именно то, что лошадь поедает у человека овес, т. е. его пищу. Если представить себе такой случай, что земля когда-нибудь будет так переполнена лошадьми и людьми, как сейчас Германия, то неоткуда будет взять необходимое количество пищи, и конкуренция между людьми и ими же разведенными лошадьми окажется даже в мирное время весьма чувствительной.
Ясно, что замена лошадей автомобилями очищает место для новых людей. Мотор и тут является воплощением того принципа, с помощью которого человек может принудить служить ему почти безграничные массы энергии. Не домашние животные, а огонь превращает его во властелина земли: когда человек впервые заставил вспыхнуть накопленную в растениях солнечную {64} энергию, он создал себе новый источник силы. Последний дал ему возможность настолько увеличить полезный для него поток энергии, что мы имеем тут полное право говорить о новой ориентации и датировать моментом зажжения первого огня владычество человека над природою. Правда, в течение тысячелетий огонь применялся лишь для согревания, а польза, которую он приносил, была ничтожна. Однако за последние сто лет этот новый принцип, благодаря развитию машинной техники, был использован настолько интенсивно, что с этого началась, в свою очередь, новая эпоха. Во всяком случае, исконные животные принципы борьбы за существование будут играть лишь второстепенную роль: уже обозначается путь, на котором подобное развитие техники может идти вперед почти беспредельно, в то время как прогресс, опирающийся на земледельческие методы, как было отмечено выше, встречает всюду почти непреодолимые, выдвигаемые самою природою, преграды.
Никто не сомневается в том, что наша машинная техника преобразила мир. Мне же важно показать, что победа машины является единственно возможной победой, какую человек, согласно общим правилам борьбы за существование, в настоящее время вообще в состоянии одержать.
Человек научился и другим образом извлекать пользу из той солнечной энергии, которой он всегда был обязан своею пищею. Поднятая ввысь солнцем и возвращающаяся к морю вода заставляет работать его мельницы; выросшие на солнечном свете древнейших времен леса, превратившись в каменный уголь, питают его железные дороги, пароходы и электрические машины или приводят, в виде бензина, в движение его автомобили и аэропланы Нетрудно найти еще много других подобных же примеров, и уже давно та масса энергии, которую человек включает в сферу своей деятельности, значительно превзошла то первоначальное количество ее, которое проходит через его тело. В Германии, например, человек, тратя физически одну калорию, одновременно расходует при помощи машин в среднем около десяти калорий. Между тем человек в состоянии пользоваться солнечной энергией только косвенно. Он берет ее у растений или у водопада, у каменного угля или нефтяного источника Эти источники энергии велики и далеко еще не использованы полностью, но они совершенно ничтожны в сравнении с теми {65} потоками энергии, которые ниспадают с солнца на землю. Наибольшая часть их вовсе не превращается в такие виды энергии, которые легко доступны для нашей эксплуатации, а пребывает в форме теплоты и в таком виде, неиспользованная, излучается обратно в мировое пространство.
Теоретически человек уже умеет превращать солнечную энергию непосредственно в работу. Если он не делает этого на практике, то это отчасти объясняется тем, что он нашел сравнительно большие массы готовой и удобной для использования энергии (в виде водопадов, залежей каменного угля, дров и т.д.). Затем он продолжает пользоваться растениями, хотя бы потому, что они являются единственными машинами, превращающими солнечную энергию в пищу. Только в растении уголь, соединяясь с водою, дает сахар. Если бы удалось воссоздать сахар, то мы устранили бы растение, «выжали» бы из четырех тесно связанных между собой стихий жизнь и одновременно с этим разрешили бы проблему гомункулуса. Разумеется, в самой реторте не было бы сотворено ни одного человека, но тысячи миллионов людей были бы обеспечены пищей; когда же имеется последняя, новые поколения вырастут сами собою. Так было всегда. Рациональная обработка почвы, несмотря на все преграды, удвоила в течение XIX века население Европы; если же когда-нибудь будет рационально использована и станет, подобно домашнему животному, послушно работать на нас солнечная энергия, если каждая десятина земли, теперь едва-едва прокармливающая одного человека, снабдит пищею тысячи людей, то последует и соответствующий рост населения и отпадет необходимость поддерживать этот рост законодательными мероприятиями (заметим кстати, что в Германии они окажутся столь же безрезультатными, какими они оказались во Франции). Таково в сущности решение, предложенное Гёте для проблемы гомункулуса: в конце концов ослепший Фауст приходит к выводу, что людей создать нельзя, но что достаточно, если будет создана свободная территория для свободного народа. Новь стремится Фауст отвоевать у моря, но он отнюдь не помышляет о захвате уже занятой земли. Итак, формула, к которой можно свести учение о полезной и бесполезной борьбе, такова: там, где добывается новь, борьба разумна, животворяща {66} и плодотворна; там же, где дело идет лишь о том, чтобы отнять что-нибудь у других, борьба бессмысленна, губительна и бесцельна.
Нидерланды в продолжение тысячелетий вели такую медленную животворящую борьбу. Поэтому они являлись как бы прообразом прогрессирующего на ниве мирного труда народа. Было бы особенно печально, если бы в эту современную и красивую борьбу теперь вмешалась грубая сила. В этом центр тяжести бельгийского вопроса.
§ 13. Борьба или война. Такую борьбу за новь, едва только начатую Нидерландами с помощью примитивных методов, грядущее поколение принципиально доведет до конца в широчайшем масштабе: оно создаст новь, создаст пищу, помимо растений, путем непосредственного использования солнечной энергии. В юности фельдмаршал Мольтке установил формулу: «Увеличение роста населения на 25% в мирное время равносильно, по меньшей мере, завоеванию области, представляющей по своей величине четвертую часть страны-завоевательницы». На основании этой формулы мы в состоянии вычислить размеры возможных достижений в такой будущей борьбе. А кто займется этим хоть раз, кто увидит, что тут вопрос идет о миллиардах людей, причем каждое из ныне воюющих государств могло бы мирным путем завоевать весь земной шар1, тому нынешние военные потасовки2, благодаря которым в лучшем случае может быть достигнуто перемещение нескольких миллионов людей с одного места на другое, покажутся совсем маловажными, какими они и являются на самом деле.
Что касается непосредственного использования солнечной энергии (в качестве пищи), то практические результаты в этом отношении пока еще не особенно велики; с другой же стороны, мы уже потребляем значительное количество энергии, находящейся {67} вне нашего тела. Это показывает суммарный подсчет: на земле живет полтора миллиарда людей; организм каждого человека потребляет в год неполный миллион калорий. Общая добыча каменного угля на земном шаре составляет, однако, круглым числом в год полтора миллиарда тонн, так что на каждого человека приходится в год одна тонна угля. Так как в каждой тонне заключается около 8 миллионов калорий, то отсюда следует, что человечество при помощи своих насыщаемых каменным углем машин работает в настоящее время приблизительно в 8 раз больше, чем оно могло бы работать при помощи рук Если к этому прибавить использование водяной силы и работы животных, равно как и некоторых других, менее важных, факторов, то мы не ошибемся, если скажем, что современные машины производят работу по крайней мере в 10 раз бо́льшую, чем люди. И всякое расширение добычи угля, всякое открытие нового источника энергии увеличивает жизненную силу человечества и означало бы для нас дальнейшую экономию в труде, если бы социальные отношения были хоть сколько-нибудь разумны. Если бы удалось умело использовать энергию, заключающуюся в Ниагарском водопаде (17 миллионов лошад. сил), то при ее посредстве можно было бы выполнять приблизительно одну треть общей работы всего человечества.
Очевидно, что благодаря таким силам можно было бы без труда облегчить положение переутомленных людей, что, следовательно, машины предоставляют возможность уничтожения всякого рода рабства (ср. §6, где указано, почему это до сих пор не было сделано). Притом все подобные проблемы в настоящее время отнюдь не скрываются в туманной дали, а (по крайней мере, принципиально) уже разрешены и только ждут своего практического осуществления. Термоэлектричество дает нам возможность непосредственного рационального использования солнечной энергии, а труды современных химиков, среди которых приходится отметить особенно Эмиля Фишера и его учеников, неопровержимо доказали возможность создания искусственных средств питания. В отношении большинства последних это уже достигнуто; на очереди искусственное создание белка, но и эта проблема за последние годы также сильно продвинулась вперед. Впрочем, все эти лабораторные опыты не нашли пока еще практического применения. Тут-то и предстоит борьба; но цель уже ясна. {68}
Какой мизерной представляется война рядом с этою удивительною борьбою — работою человечества! Что у войны общего с борьбою за существование? Конечно, ничего (не говоря уже о том, что она постоянно уничтожает одну, хотя бы и незначительную, часть человечества, нисколько не способствуя успехам настоящей борьбы)! Следовательно, война — продукт чистейшего вырождения. Нам врождено лишь право вести иную, бескровную борьбу, борьбу требующую напряжения всех наших физических, умственных и нравственных сил. Посильное участие в этой борьбе — наше неотъемлемое право и прямая обязанность.
Война допустима. Но не осужденная разумом война вчерашнего дня, борьба людей против людей, а та новая, живительная, вечно юная война за господство человека над землею и ее силами, миллионную часть которой мы едва еще проделали, но в которой наше время выступает с совершенно иными средствами, чем раньше. Как уже было сказано, мы являемся свидетелями удивительного подчинения природы, свидетелями таких побед над нею, каких до сих пор человек еще не одерживал. Этой творческой борьбой необходимо заменить борьбу разрушительную.
Эмиль Фишер создал искусственный синтез сахара и, быть может, найдет синтез белка. Он является основоположником — по крайней мере, предтечею — нового периода в истории человечества, и все грядущие поколения с признательностью вспомнят о нем как об одном из великих победителей в борьбе за основы жизни. Он на деле творил «божественное искусство», о котором говорит Архимед (Шиллер: «Архимед и ученик»). Профессор Габер, использовавший свои знания для изготовления бомб с удушливыми газами, также, вероятно, не будет забыт. Но пусть он не мечтает о славе Архимеда, «защитившего родину от римского самбука»!1 Во-первых, с тех пор прошло две тысячи лет; во-вторых, Архимед защищал только осажденные Сиракузы (при этом, однако, он не употреблял яда, применение которого всегда было излюбленным средством только в определенных кругах); наконец, слава Архимеда зиждется не на том, что он в течение двух лет спасал свою, {69} находившуюся в союзе с карфагенянами, родину от мощного напора европейской мысли, которую тогда олицетворял или, по крайней мере, предвосхищал Рим, а на том, что он был первым настоящим физиком, т. е. подготовил, в сущности, почву для всех будущих плодотворных достижений1.
§ 14. Закономерность и свободная гармония. На предшествующих страницах было показано, что такая творческая борьба целесообразна и полезна и что только она в состоянии содействовать материальным интересам человечества. Но можно также доказать (и это представляется мне еще более важным), что она вместе с тем является единственным видом борьбы, дозволенной человеку, как личности свободной и нравственной. Для этого нам придется развить натуралистическое понимание человеческой свободы.
Говорят, что борьба за существование сводится к отбору целесообразного среди живых существ. Подобный «отбор» целесообразного встречается не только в живой, но и в неживой природе. Именно в последней, где взаимоотношения менее сложны, ясно видно, что именующееся целесообразным отнюдь не противоречит тому, что мы называем обычно закономерным, а что и то, и другое в сущности одинаковы и только рассматриваются с различных точек зрения. Так, например, мы могли бы назвать «целесообразным» то обстоятельство, что вследствие сравнительно медленного круговращения земли центробежная сила меньше силы притяжения: иначе все предметы на земле были бы безвозвратно выброшены в беспредельное пространство. Но если глубже вникнуть в это явление, то такое устройство представится не столько «целесообразным», сколько «само собою разумеющимся» (т. е. аналогичным закономерному). Ибо если бы центробежная сила была больше силы тяготения, то ни одно центральное тело {70} вообще не могло бы возникнуть. И, наоборот, на каждом из действительно возникших мировых тел должно иметь место это явление, представляющееся нам столь целесообразным именно вследствие своей естественности. Поэтому вовсе не удивительно, что форма гор на земле и земных образований, равно как кругооборот воды и жизни, теснейшим и «целесообразнейшим» образом приурочены к силе тяготения. Иначе все это «не имело бы права на существование» или, вернее, не было бы способно существовать. Впрочем, если бы не существовало тяготения (что мыслимо), то во всей вселенной не было бы прочных небесных тел и весь мир был бы совершенно иным, чем теперь; и если бы тогда в какой бы то ни было форме возникла жизнь, то она должна была бы прийти в состояние равновесия путем совершенно иных сил, и, следовательно, она являлась бы чем-то совершенно иным, чем теперь. Но если бы она существовала, она, разумеется, должна была бы быть «целесообразно» приурочена и к той или иной природе сил.
Подобная связь и зависимость существует между всеми отдельными частями органического мира. Море создано для рыб, воздух для птиц, корова находит нужную ей траву, хищный зверь свою добычу, чтобы глаза могли видеть, светит солнце; дабы человек мог осуществлять умные мысли своего мозга, добрый рок дал ему руки. В действительности же без наличия моря и воздуха не существовало бы никаких рыб и птиц, без растений не было бы нынешних или им подобных животных, без зайцев не было бы лисиц, без солнца — глаз, без рук — мозга. Таким образом, для человека, мыслящего натуралистически, само собою создается то единство вселенной, которое прежде приводило в изумление созерцавших его. Естествоведу вовсе не кажется странным, что «все сливается в одно целое»: он знает, что эта, воспринимаемая нами как гармоничность, закономерность все сызнова должна сама создавать себя под воздействием всемогущего принуждения природы. От этой зависимости не может уйти и человек. Тем не менее в гармоничной природе он действует как чуждое ей тело, ибо, руководствуясь своей свободной волей, он решается преодолеть принуждение природы. Но он не только решается на это, он действительно в состоянии так поступать. {71}
Пользуясь этой свободой, человек многое разрушил. Муки и горе, тревогу и беспорядок внес он в замкнутость и стройность «совершенной» природы. Война лишь одна из многих форм заблуждений человечества. Но как святыню носит в себе человек веру в новую гармонию, которую в свободном самоопределении он сам создает для себя. Верно, что инстинкт животных никогда не ошибается, тогда как ум человека «заблуждается при всех устремлениях» последнего. Но столь же верно и то, что благодаря ошибкам открывается возможность устремлений, и эта возможность ценнее самой совершенной механической гармонии. Вместе с человеком на свет явился грех, но одновременно и добродетель, возникло рабство, но и свобода, появилась война, но и мир вожделенный.
Но как возможен такой кажущийся дуализм? Как смог человек якобы превзойти создававшие его законы? Как мог он преодолеть принуждение природы? Конечно, нельзя сомневаться в том, что это освобождение человека находится в известной связи с развитием его мозга Благодаря своему мозгу, и только благодаря ему, он представляет собой в ряду животных определенное исключение. Все части нашего тела не только аналогичны частям тела животных, но, как показала новейшая сравнительная анатомия, отличаются почти все относительной примитивностью (в первую очередь это относится к конечностям, о которых прежде думали как раз обратное). Только человеческий мозг развивался беспримерно быстро и скачками. Его величина (как функция в соотношении с весом тела1) превосходит почти на 100% мозг всех прочих, даже высших, животных Скачок этот, представляющийся вдвойне загадочным при сравнении его с медленным и постепенным развитием, которому подвергался мозг у всех прочих животных, требует объяснения.
Как мы видели, все животные существуют для того, чтобы воспринимать возможно большую долю энергии. У низших животных это сводится к возможно большему потреблению {72} пищи. Последнего они достигают благодаря тому, что они обладают органами чувств для нахождения пищи, ногами для беганья за нею, лапами для охватывания ее, пастями для проглатывания ее, зубами для раскусывания ее, железами для переваривания ее и многим другим, предназначенным для той же цели. Так возникло тело животного с его разнообразными и, по-видимому, многосторонними органами. Для того же, чтобы оно могло функционировать как законченное целое, необходимо, чтобы ноги действительно бежали туда, где обоняние почуяло добычу, чтобы пасть хватала там, где видят добычу глаза, словом, необходимо, чтобы всякий орган тела исполнял то, чего требуют от него органы чувств. Следовательно, необходима связь между органами перцептивными и эффективными. Так возникла нервная система, и таким образом по причинам, рассмотрение которых здесь завело бы нас слишком далеко, у высших животных возник мозг — не ради самого себя, а как нечто второстепенное. Мозг первоначально был лишь слугою органов еды, и, хотя он, как таковой, имел огромное значение, он не принимал самостоятельного участия в настоящей жизни. Эта зависимость мозга существовала долго. Когда же усовершенствовались органы чувств или хватания, тогда усовершенствовался и мозг. Он охотно шел следом за развитием тела, но не мог ни на шаг опередить это развитие. Удалось ли бы развиться центру речи, если бы у человека не было рта, чтобы говорить, и ушей для слушания? Следовательно, развитие мозга зависело и зависит от развития органов, число которых в конечном счете ограниченно. Еще Аристотель указывал, что у рогатого животного не может быть зубов хищника, что, следовательно, животные всегда обладают лишь одним родом оружия. Подобная экономия необходима: если бы животное было перегружено органами, оно не смогло бы успешно выполнять свою конечную задачу (поедание).
Таким образом, в течение целого ряда тысячелетий мозг оставался верным слугою своего господина, пока не наступила революция, впервые освободившая мозг от его зависимости от органов и вознесшая его затем на пьедестал. Эту революцию проделал только человек. Только человек схватил рукою камень и, следовательно, превратил руку из невооруженной в вооруженную. Хотя он тем самым и не создал нового органа {73} тела, но, как говорит, к сожалению, почти совершенно забытый Капп1, проецируя органы, он стал приобретать новые свойства и способности совершенно так, как если бы он обзавелся новыми частями тела Но — и это очень существенно — новое приобретение не стесняет владельца: он может отложить новый орган в сторону по мере минования в нем надобности и может заменить его другими органами. Итак, он в состоянии постепенно создать себе множество органов, владеть которыми не могло бы ни одно животное.
Это положение влечет за собою весьма замечательное последствие для мозга. Само собою разумеется, что новые органы влияют на мозг и совершенствуют его, как то делали и наши прежние органы; современные микроскопы, например, действуют совершенно так, как если бы сила нашего зрения увеличилась в тысячу раз. Но в то время как раньше мозгу приходилось дожидаться появления новых органов, теперь он сам создает себе новые органы и, таким образом, совершенствуется собственными силами. Следовательно, благодаря этому «самопроизводству» органов мозг достигает свободы и независимости, независимости в первую очередь от своего собственного тела.
У всех животных главную роль играют физические качества, и только у человека последние имеют сравнительно небольшое значение. Все то превосходное, что на протяжении миллионов лет создали животные, молодой человеческий мозг сотворил себе в еще гораздо более совершенном виде2. Мы видим зорче соколов, обоняем лучше собак, слышим лучше слонов и осязаем тоньше крыла летучей мыши; мы сильнее носорога, без труда обгоняем на суше — коня, в воздухе — орла, в воде — акулу. {74}
§ 15. Автономия мозга. Ставший свободным и мощным, мозг решает отныне исход борьбы за существование; поэтому в настоящее время интеллектуальная борьба важнее рукопашной. Если бы даже все люди на земле схватились за ножи и вступили между собою в бой, то в крайнем случае они все перерезали бы друг друга. Это дало бы полтора миллиарда трупов (такой случай к тому же едва ли мыслим). Если же, с другой стороны, одному человеку удалось бы непосредственно использовать солнечную энергию для производства пищи, то это означало бы, что дана возможность существования полутора биллионам живых людей (т. е. в тысячу раз большему числу, чем в предыдущем примере), и эта возможность когда-нибудь осуществится.
Да, наши орудия представляют собой оружие, но оружие, направленное против природы, а не против людей. Наше первое орудие, камень, было оружием, но оружием в борьбе за пищу, орудием для рытья почвы1. Лишь впоследствии это оружие против земли и дерева стало применяться в борьбе с животными и, наконец, с человеком. Основная ошибка войны в том, что на войне человек рассматривается не как нечто противопоставляемое и противоположное всей природе, а как часть самой природы (по выражению Канта, тут пренебрегают достоинством человека). Однако это не только безнравственно, но и неверно, потому что мы отнюдь не просто часть природы. Я, естествовед, хотел бы особенно оттенить эту своеобразную позицию человека В небольшом человеческом мозгу было передумано и проделано все «миросотворение», и явившаяся в результате этого процесса свобода привела к тому, что мы «живем по своим собственным законам». Поэтому действие человека есть нечто отличное от явления природы, и поэтому к войне приходится относиться иначе, чем к землетрясению. Если бы даже было верно (между тем, как показано, это не так), что война является единственным лозунгом природы, то эта принудительность ее для нас не была бы обязательна, и человек мог {75} бы браться за меч лишь по своему свободному усмотрению, сознавая ответственность своего поступка. Борьба за существование никогда не может оправдать войну и даже не аналогична ей. Это бессознательно признается даже практикою войны: желающий ныне воевать должен вооружать других, так как единичная личность, несмотря на всю присущую ей храбрость, слишком слаба Вооружать же других людей и вербовать союзников (даже в рядах собственного народа) возможно исключительно путем убеждения, интеллектуального воздействия, т. е. словами. Следовательно, убеждение, умственная борьба являются даже при мнимом устранении ее основным и решающим моментом (как это, впрочем, ясно доказывает настоящая война, исход которой покажет это еще нагляднее!). Во всяком случае, не должна исчезнуть вера в свободу и всемогущество духа, и в настоящее время все надеющиеся на какое-нибудь улучшение положения в тайниках своей души убеждены, что слово сильнее всякой реальной действительности. Прежде всего, это относится к друзьям мира, по-видимому, ныне совершенно растерявшимся. Об этой горсточке людей иронически говорят, что если бы она захотела одолеть исполина войны, то она уподобилась бы маленькой собачке, лающей на мчащийся курьерский поезд: локомотив раздавит ее, даже не заметив этого. Разумеется! Ведь собака располагает в лучшем случае лишь одной миллионной долей той живой силы, которая заключена в курьерском поезде. И если бы человек не умел ничего иного, как только противопоставлять свое тело такому грозному бедствию, как война, то все его могущество ничего бы не стоило. Но воля человека не прикована к силе, которой располагает его тело, а обладает способностью пускать в ход какие угодно силы. Достаточно ему отвинтить одну гайку на рельсах, и весь величественный поезд превратится в обломки. Этого не может сделать собака, но зато это может сделать человек
Пока речь идет о воздействии людей друг на друга, энергетический момент не имеет большого значения. Но все-таки влияние слова велико. Христос и Дарвин, Лютер и Вольтер познали такую силу слова В свое время каждый из них являлся молниею, зажигавшей и приводившей в движение накопившуюся массовую энергию целого мира. Все мы знаем и наблюдали (с радостью или содроганием) летом 1914 года {76} магическое действие маленького слова «война». Всегда «в начале было слово», и только слово. И слово всегда оставалось победителем. Эта победа легкого, как дуновение ветерка, слова над всеми силами в мире сводится в сущности к тому, что Кант называл автономиею практического разума и достоинством человечества.
Для того чтобы покончить, например, с войною, достаточно автономии мозга (в понимании естествоведа), и Фридрих II, в этом отношении действительно Великий, был вполне прав, когда он заявил: «Если бы мои солдаты захотели мыслить, ни одного из них не осталось бы в армии». К сожалению, однако, прав и Шопенгауэр, заявивший: «Люди — существа не мыслящие». Впрочем, Шопенгауэр был пессимистом, а в наши дни можно быть, пожалуй, даже оптимистом. Ныне, по крайней мере, общеизвестно то, чего еще в точности не знал Шопенгауэр, а именно, что, если люди и не мыслят, мозг их все-таки способен мыслить. Один из любопытнейших фактов, обнаруженных современной физиологией мозга, показывает нам, что в мозгу животных и человека таятся возможности, значительно превосходящие то, что развили в себе когда-либо собственники этого мозга. Во всяком мозгу имеется огромный ряд еще не использованных путей. Точное подтверждение сказанного базируется на замечательных трудах гениального русского физиолога И. П. Павлова. Детальное рассмотрение этого вопроса завело бы нас здесь, однако, слишком далеко, а потому поясним изложенное лишь двумя примерами. Животные, особенно обезьяны, при общении с людьми могут научиться вещам, далеко выходящим за пределы их умственного горизонта; но мозг их от этого не изменяется; следовательно, он должен был быть приспособлен к выполнению подобных функций раньше. Если бы японцам пришлось самостоятельно выработать у себя западно-европейскую культуру, то они, наверное, употребили бы на это столетия, если не тысячелетия. Между тем за несколько лет они научились так же быстро подражать европейцам, как они раньше подражали культуре китайцев. Когда же обезьяны или японцы вступают на новый путь, они действуют безупречно. Ученая обезьяна столь же изящно курит папиросу, как любой франт, а Соейн-Шаку пишет по вопросам этики книги, содержащие буквально те же выводы, к каким независимо от него пришли германские ученые. {77}
То обстоятельство, что в мозгу многое содержится в потенциальном виде, оставаясь неизвестным человеку, содействует выяснению целого ряда явлений в жизни народов. Достаточно указать здесь на то, что именно этим объясняется приводящая нас нередко в отчаяние консервативная тенденция избитых путей и, наоборот, внезапное появление чего-то нового, после того как удалось привести эти «мертвые пути» в движение, разбудить эти «дремлющие струны». Физиология мозга оправдывает в этом случае оптимизм: как бы резко ни проявлялась ненависть, но противоположные социальные тенденции уже давно покоятся в нашем мозгу как древнейшее унаследованное нами достояние. Эти струны еще не звучат, но когда-нибудь и они заговорят, и тогда они заглушат весь средневековый и современный хлам. Во второй части нашего труда приведены доказательства того, что в нас таятся «мертвые пути», что любовь древнее ненависти.
§16. Война как деяние человека. Пока люди не знают и не верят, что та естественная организация, частью которой является отдельная личность, обязывает нас (как бы физически) к соблюдению определенных правил в наших взаимоотношениях, до тех пор можно возражать: именно оттого, что человечество свободно и не подчинено природе, оно может воевать, так как оно желает этого; а так как оно всегда желало этого, то оно пожелает этого и впредь, ибо «война всегда существовала и потому всегда будет существовать!» Не стоит останавливаться на подобных доводах, ибо с таким же успехом можно было бы отстаивать каннибализм и культуру каменного века.
Между тем войну постоянно признавали логосом, разумом. Правда, не разумом человечества, а (и это характерно!) только королей. Кальдерон (1694) иронически заявил, что на войне последним словом королей является порох и свинец. Но короли не поняли этой иронии, и на пушках Короля-Солнца, равно как и на орудиях Фридриха II Прусского, были выгравированы слова «ultima ratio regum» (последний довод королей). Во Франции Национальное собрание уничтожило 17 августа 1791 года эту дерзкую надпись. Но в Пруссии она существует до сих пор, причем — достопримечательно! — лишь на полевых орудиях, предназначенных для наступательных действий, тогда как на оборонительных, крепостных орудиях ее нет. Тем самым еще резче подчеркивается, что пушки — символ разума не {78} людей вообще, а именно только монархов. Если же война действительно последний довод королей, то республиканцам тем более следует надлежащим образом ответить на это.
Часто высказывается мысль, что война — дело чести. «Подл народ не жертвующий всем ради своей чести». Разумеется, вопрос только в том, можно ли реабилитировать свою честь при помощи оружия. Народ, считающий это возможным, обладает действительной честью в столь же малой степени, в какой таковая присуща хорошему стрелку, доверяющему свою честь умению стрелять из пистолета. Неужели не понимают, что огромная ненависть, страх и презрение, с которыми в настоящее время большинство человечества относится к Германии, безусловно усилятся, если Германии удастся подчинить себе новые территории с чуждым ей населением? Необходимо совершать моральные завоевания. И если Германия, одержав победу, вслед за тем все же выполнит элементарные требования гуманности (что будет тогда, конечно, гораздо труднее), то она, правда, не защитит этим своей чести, но восстановит ее.
Честь человека покоится на уважении других людей. Честь нации базируется на уважении прочих народов; миновали те времена, когда это уважение вызывалось мускульной силой. Сколь необходимой ни казалась бы война, будь то вследствие унаследованного представления о ней, или как разумное действие, или, наконец, как дело чести, она таковой быть не может. Подобной необходимости для человека существовать не должно; для него необходимо только то, что он признал справедливым в силу своего свободного размышления. Кто объявляет войну необходимостью, тот низводит ее тем самым на степень животного акта, и Фенелон (Telemaque, 1699, livre XI) прав, заявляя, что «позор человеческого рода состоит в том, что война кажется иногда неизбежной». Ведь война загоняет человечество на неестественные пути, а животная борьба увековечивает животное состояние в человеке и препятствует возможности специфически человеческого развития. Поэтому война свидетельствует не о случайном заблуждении, а о полном непонимании положения, занимаемого человеком в природе. {79} Зная, сколько в нас таится животного, мы с особенным усердием должны ежедневно и ежечасно развивать в себе все человеческое. Паскаль понимал жизнь, когда, в годы своего медленного угасания, писал (Pensées, IV, 7): «Опасно показывать человеку, как сильно он похож на животных, не напоминая ему об его величии. Еще опаснее показывать ему слишком часто его величие, не упоминая об его слабостях. Опаснее же всего скрывать от него и то, и другое. Наоборот, весьма полезно раскрывать перед ним и то, и другое».
Кто постиг эту изумительно глубокую мысль, тот должен признать лишь естественным выводом из сказанного, что война, как на это указывает Паскаль в другом месте (VI, 9), есть издевательство над понятием человечества. Именно здесь становится ясно, что война не только грех, но и смертный грех.
§ 17. Характер отбора. «Война есть пробный камень народов; что гнило, то во время войны погибает»,— говорит проф. К.Штенгель («Weltstaat u. Friedensproblem», 1909), а один богослов, фамилию которого я забыл, выразился еще картиннее, заявив, что война — большая лопата, которою Бег отметает зерно от мякины. Таким или подобным образом многие необдуманно и слепо перенесли представление о борьбе за существование на войну. Война, разумеется вызывает отбор. Вообще в мире не случается ничего, что не заключало бы в себе элемента отбора: при издании нового биржевого регламента погибают (по крайней мере, в качестве биржевиков) те, кто не может приспособиться к новым условиям; когда входят в силу новые правила верховой езды, первые призы уже не достаются прежним наездникам. Но этим вовсе не сказано, что новые правила облегчают верховую езду. Так обстоит дело и с войной. Она, разумеется, сортирует людей; в первую голову она отделяет живых от мертвых Но кто внушил вышеуказанным мнимым {80} последователям Дарвина, что остается зерно и отлетает мякина? А что, если дело обстоит как раз наоборот? Ведь важно то, положителен ли или отрицателен отбор. Он может влиять в сторону улучшения или ухудшения породы.
Если погибает всякая газель, не видящая и не слышащая подкарауливающего ее льва или неспособная достаточно быстро убежать от него, то в конце концов выживают только те газели, которые отличаются острым зрением, тонким слухом и проворными ногами; только такие экземпляры размножаются, и их порода становится более зоркой, более чуткой и ловкой. Если вымирают все черепахи, обладающие слишком хрупкими щитами, то остаются в живых только черепахи с очень толстыми щитами. Обладают ли они, кроме того, хорошим зрением или тонким слухом, сравнительно безразлично, а так как тут отсутствует стимулирующий момент отбора, то со временем, поскольку нет иных решающих моментов, эти чувства совершенно притупляются. Вследствие такого отрицательного отбора возникают существа неповоротливые, слабо реагирующие. Тем не менее черепаха, как и газель, превосходно приспособлена к особым условиям существования своей породы.
Точно таким же образом произошло бы, несомненно, полное приспособление человека к войне, если бы война в течение продолжительного времени была главным его занятием. При современном способе ведения войны нечего ожидать возникновения особенно мужественной, сильной и интеллигентной породы людей (как мы сейчас увидим, война только истребляет подобных людей); очень длительная позиционная война в окопах скорее способна создать, так сказать, людей кроликообразных. Подобно кроликам, такой новый человек не знал бы утонченных потребностей (их нельзя было бы удовлетворять в окопах, в ямах), лишился бы чувства обоняния, хотя бы для того, чтобы без труда переносить смрад от разлагающихся трупов; с другой стороны, он был бы подвижен и проворен, обладал бы хорошим зрением и слухом, чтобы в нужный момент замечать опасность и быстро исчезать из окопов или прятаться в них Хорошее зрение понадобилось бы ему и для прицела, хотя, как учит опыт, при продолжительной борьбе стремление к умерщвлению ослабевает и усиливается забота о самозащите. У него уменьшилась бы мыслительная способность, потому что его занятие крайне примитивно. {81} Он стал бы презирать мирный труд, так как человеческой природе присуще считать собственную деятельность особенно ценною. Интересы его понизились бы, свелись бы почти исключительно к еде и питью; развился бы некоторый дух товарищества, но главную роль играли бы ненависть к врагам и страх перед ними. Результатом длительной позиционной войны была бы подобная полуидиотская порода пещерных людей. Приблизительное представление о такого рода людях дает нам средневековый ландскнехт; вновь народившийся солдат был бы худшею копией последнего. Еще в мирное время обнаружилось, как мало пригодны для современной жизни невежественные, испорченные многолетней муштровкой воины-люди. Отставному офицеру остается превратиться лишь в коммивояжера, а ни к чему не приспособленные и тем не менее полные чванства отставные заслуженные унтер-офицеры являются сущим наказанием для тех гражданских ведомств, которым приходится принимать их на службу. Известный американский писатель Поультни Бигело1, пожалуй, прав, уверяя, что значительная отсталость в отношении технического обслуживания германских железных дорог по сравнению с английскими и американскими объясняется тем, что большая часть низшего персонала состоит у нас из таких плохо подготовленных бывших сержантов и отставных унтер-офицеров. Никто не сомневается в том, что столь характерный для репутации Германии казарменный тон обращения этих людей с публикою объясняется именно усвоенной ими раньше воинской дисциплиной.
Так обстояли дела еще в мирное время! Что же будет по окончании настоящей войны, когда нормальное число бывших военных увеличится на несколько миллионов, притом таких, которые вследствие полученных ими ранений не будут в состоянии заниматься своей прежней профессией и которых придется в кратчайший срок подготовить к новой деятельности? Поспешная подготовка и слабое здоровье окончательно обесценят их, и они лягут тяжелым бременем на всех нас. Этих фактов никто {82} не станет и не может оспаривать. Впрочем, на это могут возразить, что некоторое количество воинов указанного кроличьего типа, если оно является результатом кратковременной войны, даже полезно. Это возражение столь же трудно опровергнуть, как известные поговорки: «Один раз не в счет» и «Немного — не вредно». Если же мы уверены, что прогресс человечества обусловливается нашей волей, то подобные половинчатые воззрения недопустимы: наши желания, стремления и тенденции станут для будущих поколений обязательными, и то, что ныне только намечено, претворится тогда в факт. Важно не то, что мы собой представляем, а то направление, которого мы придерживаемся. Каждым нашим поступком намечается известная цель и бесповоротно определяется наш путь. Именно это усугубляет нашу ответственность, и потому-то мы должны развить наши мысли до конца и поставить вопрос: попытаемся ли мы повести борьбу за существование таким образом, чтобы люди приспособились к военным конфликтам, или мы изберем противоположное направление?
Раньше, чем ответить на этот вопрос, необходимо уяснить себе, что всякая война делает народ не только «немного» воинственнее, но безусловно и бесповоротно содействует усилению его общей воинственности. Кто, следовательно, поощряет воинственное настроение народа или хотя бы одобряет его, тому приходится считаться и с тем конечным состоянием, до которого доходят и впредь будут доходить воинственные народы. Наоборот, предотвращение войны способствует миролюбивому настроению, и всякому, кто пытается предупредить войну, приходится считаться с конечным результатом этой тенденции — непригодностью людей для войны. Вообще, для полной ясности необходимо установить, следует ли особенно стремиться к превращению людей в солдат или, напротив, к воспитанию их в духе мирной гражданственности, и каков будет тон отдаленного будущего, воинственный или же миролюбивый. Вся наша теперешняя деятельность представляет собой лишь подготовку будущего человечества, и я убежден, что тут мы избегли бы многих осложнений, если бы всегда отдавали себе отчет в конечных результатах наших действий. Между тем люди думают, что всегда возможны по желанию любые отклонения в сторону. Подобно тому как существует, убеждение, что можно раз-другой {83} напиться без риска превратиться в «заядлого пьяницу», так все уверены и в том, что можно порой вести ту или иную войну, не превращаясь в «закоренелого вояку». При этом забывают, однако, что если подобное рассуждение применимо к отдельной личности, то оно недопустимо по отношению к целой расе или породе, ибо тогда возник бы так называемый отрицательный отбор.
Доказать это легко. Общеизвестна истина, что своим теперешним положением в мире человек обязан исключительно развитию своего мозга. Напомним здесь о вышесказанном, именно о том, что это условие человеческого развития было установлено еще тогда, когда лесной житель создал себе орудие и тем самым подготовил освобождение своего мозга. С тех пор человечество продолжало шествовать по великому пути дальнейшего освобождения мозга, и, думается, мы можем быть довольны этим. Впрочем, было бы бесполезно быть нам недовольными: жестокость и величие природы заключаются в том, что она не знает возврата. По закону неумолимой необходимости начатое должно быть закончено. Подобно истории с легендарным Орфеем (этот миф, правда в различных вариантах, известен всем народам), оглядывание назад равносильно для нас смерти. Как бы ни манил нас грандиозно дикий Ренессанс, как бы ни казались нам возвышенными бои героев под Троей, как бы ни влекло нас безмятежное наслаждение дикаря жизнью на нашей прародине, все это прекрасное погибло для нас безвозвратно. Нам приходится привыкать к тому, чтобы испытывать радостные чувства при созерцании новой красоты. В природе нет ни для чего возврата: есть одно только движение вперед.
Это движение вперед1 происходит в природе благодаря влиянию отбора таким образом, что всякое экспериментирование становится для природы невозможным. На первый взгляд это может удивить. Разве природа сперва не делала опытов, разве она первоначально не создавала ряд крупных и многосторонних (полисимметричных) животных, пока не выяснилось, что двухсторонняя симметрия (с правой и левой стороной) наилучшая? Разве она не создавала для пробы водяных, воздушных и сухопутных животных, пока наконец последние не одержали верх? Разве {84} она не создавала насекомых с шестью, пауков с восемью, раков с десятью ногами и так называемых тысяченожек с массою ног, пока она не остановилась на целесообразном четырехногом животном?
Конечно, все эти примеры правильны, но если присмотреться ближе, то окажется, что природа шла совершенно иным путем, чем мы. Если мы хотим, например, научиться летать, то мы прибегаем к крыльям, как это делали в средние века; если этот способ оказывается непригодным, то вместо крыльев берут воздушный шар (Монгольфьер, 1783); над этим люди бьются некоторое время и, убедившись, что управляемость подобного прибора весьма ограничена (Кребс и Ренар, 1884), оставляют мысль с воздушном шаре и снова берутся за почти забытые крылья, которые теперь должны, однако, служить совершенно иным, чем раньше, целям, а именно планированию (Ле-Бриэ и особенно О. Лилиенталь, 1890). И так развивается дело дальше: одни выбирают в качестве источника силы паровые машины (Хирам Максим, 1893) или аккумуляторы (Кребс и Ренар, 1884), но это не дает успешных результатов; другие применяют бензиновые моторы (братья Райт, 1903); они оправдывают свое назначение, и в конечном счете, после многих опытов, у нас появляется пригодный воздухоплавательный аппарат. Ясно, что возможность экспериментирования основывается у человека на наличии устранимых органов.
У природы нет таких устранимых органов, а потому ей приходится «экспериментировать» иначе. Завоевание животным миром воздуха было достигнуто различными способами: у одних животных выросли мохнатые, покрытые густой шерстью хвосты, замедлявшие падение и удлинявшие прыжок (напр, белки); у других растянулась кожа между ногами и руками, образуя плоскости для поддержания тела (напр, скиуроптеры); у третьих появилась перепонка, соединившая удлиненные пальцы (летучие мыши); у четвертых, наконец, выросли перья (птицы). Из этих четырех способов наилучшим оказался последний. Но остальные животные лишены возможности заменить несовершенство своего устройства более совершенным. Им приходится идти по раз избранному ими пути, независимо от того, приведет ли он их к победе или к гибели. Возврата для них нет. И так обстоит дело со всеми животными. Если какое-нибудь животное особенно хорошо приспособилось к ночи, к {85} тропическому климату или к горной местности, ему приходится отныне всегда быть ночным, тропическим или горным животным; доступная ему возможность самоусовершенствования состоит именно в том, чтобы наилучшим образом приноровиться к этой окружающей его обстановке. Таким образом, развитие организмов ограничено. Столь же ограничено было бы и развитие людей, если бы у них не было свободного мозга, при помощи которого они в состоянии по желанию изменять или устранять свои органы.
Следовательно, первым прочно установленным фактом является тот, что специфически человеческое развитие зависело не только в прошлом от развития нашего мозга, но и впредь всегда будет зависеть от него1 и вообще неотделимо от него.
§ 18. Война как средство отбора. Прежде чем рассмотреть выводы предыдущего § и исследовать, каким образом война влияет на развитие мозга, необходимо вкратце коснуться очень распространенного мнения, будто на войне выживает вообще «более пригодный». Я оставлю здесь без внимания факт, что в действительности пригодность к жизни и жизнеспособность человека связаны с развитием его мозга; я оставлю также в стороне все те человеческие моменты, которые явятся в последующем решающим критерием; ради любителей войны я решительно стану на животную точку зрения, готов допустить, что более сильный, лучше переваривающий пищу и более крепкий человек более пригоден к жизни, и задаю вопрос, наблюдается ли во время войны по крайней мере в этом направлении положительный отбор.
Поскольку речь идет о древних временах, есть, пожалуй, доля истины в том мнении, что на войне выживает более пригодный. Во-первых, в силу естественных причин отдельные {86} орды, города или государства были тогда приблизительно одинаковой величины: права государства зависели от внешних условий и путей сообщения, которые, по-видимому, нигде существенно не отличались друг от друга. Когда несколько таких оря городов или государств сталкивались на войне, то (так как количественная разница не играла роли) с самого начала казалось вероятным, что решающим окажется начало качественное, т. е. что победит более пригодный (или лучший). Последний избивал всю массу побежденных (следовательно, не только выступившие на поле брани отборные элементы, но и пребывавшие дома «остальные») или уводил ее в плен; вражеских женщин он либо также умерщвлял, либо насиловал их, создавая таким путем особое «поколение победителей». Подобная, вызванная стремлением к похищению женщин или, во всяком случае, кончавшаяся им борьба являлась в известном смысле даже биологически необходимой: она предупреждала вредные последствия браков между ближайшими родственниками, которых иначе не избегли бы жившие небольшими ордами люди.
Этим варварским, но вполне целесообразным способом ведения войны действительно достигалось то, что физически более слабые устранялись, и хотя можно оспаривать степень пригодности такого рода отбора и считать более целесообразными иные формы его, однако в те времена война не представляла собой отрицательного отбора. Ныне же такой отбор стал отрицательным, и правила ведения современных войн с большим искусством устраняют всякую биологическую пользу от войны. «Всеобщая воинская повинность» особенно вредно отражается именно на наилучших индивидах
В Германии живет около 33 миллионов мужчин, из которых половина либо слишком юна, либо слишком стара для участия в войне. Из прочих 16 миллионов человек половина опять-таки отпадает вследствие физических или умственных недостатков. Следовательно, достаточно сильных, здоровых и интеллигентных для участия в войне людей насчитывается не более 8 миллионов. На попечении государства остаются дети и старики, затем слепые, глухонемые, полоумные, горбуны, худосочные, идиоты, слабосильные, паралитики, эпилептики, карлики, уроды. Весь этот минус человеческой породы может быть спокоен: в него не попадут пули, и, пока молодые, храбрые, сильные мужчины гниют на поле брани, эти люди могут спокойно сидеть дома и лечить свои недуги. {87}
Выживают и морально менее ценные элементы. Во-первых, по принципиальным соображениям, все заключенные в тюрьмах; затем все трусы, потому что с различными тонкими ухищрениями по части уклонения от военной службы даже самый опытный военный врач, в конце концов, ничего не может поделать. Подобные люди, раз они уже попадут в армию, несут совершенно безопасную службу (в качестве писцов, этапных комендантов и т.п.) или слоняются по лазаретам. В большинстве случаев, впрочем, они добиваются полного освобождения от воинской повинности. Для достижения этой цели они прибегают к рискованнейшим средствам, иногда надолго подтачивающим их здоровье. Подобно тому как солдат нередко из трусости не боится смерти, так этот сорт «антимилитаристов» не останавливается даже перед самоубийством. Ввиду того, что за мною «также» установилась репутация антимилитариста и я был одновременно врачом, мне было предоставлено сомнительное преимущество глубже проникнуть в тайники и пути многих из этих душ. Ни разу мне не удалось ссылкой на собственный пример уяснить этим людям, что единственно достойный путь — это открыто отказаться от военной службы и присяги. Эти наблюдения чрезвычайно удручали меня. Среди нынешних противников войны найдутся, быть может, весьма храбрые люди, но, несомненно, вместе с тем и отъявленнейшие трусы.
Для находящихся в тылу война является, следовательно, своего рода страхованием жизни: эта «гвардия калек», как физических, так и нравственных, которая в мирное время, при свободной конкуренции со своими более пригодными соперниками, едва могла существовать, получает теперь самые выгодные места и хорошо оплачивается. Подобное влияние войны не может не быть в достаточной мере подчеркнуто. Можно предположить, что в течение этой нескончаемой войны из здоровой половины мужчин по крайней мере 25% (т. е. около 2 млн чел.) погибнут или же останутся полными калеками. Так как последних (примерно половину) придется причислить к менее пригодной части населения, то уже тем самым эта часть увеличится приблизительно на 30%1. {88}
Быть может, еще хуже, что пребывающая в тылу непригодная половина мужского населения получает благодаря войне чрезвычайно солидные и длительные выгоды. Оставшийся дома присяжный поверенный или врач может и не быть непригодным; но если даже он относится к категории последних, он, само собою, приобретает клиентуру своего поневоле покинувшего насиженное место коллеги; оставшийся дома купец приобретает заказчиков своего биологически, быть может, более ценного конкурента, ушедшего на фронт. Тем самым, однако, часто экономически непоправимо страдает вся здоровая часть населения, хотя бы она вернулась с войны невредимою. Правда, эти люди живы, но, вместе с тем, они как бы умерли: они оторваны от нормальной работы и обычной деятельности; кроме того, на них отныне ложится также забота о поддержании вернувшихся с войны инвалидов, о сиротах и вдовах убитых на войне. Так как на это придется тратить в год примерно около полутора миллиардов марок1, к чему присоединится еще приблизительно столько же для уплаты процентов по военным долгам, то здоровому работнику придется отчислять на эти расходы в будущем в пользу государства около 200 марок ежегодно. Таким образом, причиненный стране биологический ущерб не поддается даже учету. К тому же нельзя забывать и того, что «ущемленный интеллигент» почти неизбежно превращается в недовольного гражданина, а это, конечно, также невыгодно для общей массы населения.
Далее: среди солдат война также пожинает свою жатву не слепо; и на войне более храбрые и толковые люди привлекаются к более трудным, а потому и более опасным операциям, почему они и гибнут в большом числе. Между тем у них едва ли имеется, как это было раньше, возможность ограждать себя благодаря своей большей ловкости от опасности, потому что пуля настигает всякого. Короче говоря, если бы война затянулась, она автоматически привела бы к тому, что ведущий войну народ всецело превратился бы в массу малоценных элементов, исключая разве немногих «высших военачальников», которые обычно не столь подвержены опасностям войны, как все прочие2. {89}
К этому присоединяется еще следующее обстоятельство: оставшиеся дома слабоумные и болезненные соотечественники обзаводятся потомством,— притом у народа, войска которого находятся на вражеской территории и который, следовательно, собирается выйти из войны «победителем», почти исключительно своими силами, тогда как у другого народа, в стране которого находится неприятель, по крайней мере некоторая, довольно значительная, доля этого грядущего поколения создается более сильной «военной породой». Об этом можно было бы сказать еще многое. Но и изложенного вполне достаточно. Ни один здравомыслящий человек не усомнится в том, что прямым следствием настоящей войны явится в первую очередь непоправимое ухудшение физических свойств всех участников борьбы, у победителей, по меньшей мере, в такой же степени, как и у побежденных.
§ 19. Отбор по качествам мозга. Мы уже показали, что развитие человека зависит в общем от развития его мозга (§ 17) и что мозг, в свою очередь, в известном смысле свободен и, прежде всего, может самодеятельно развиваться (§§ 14 и 15). Из этого вытекает, что благодаря деятельности своего мозга человек в состоянии оказывать определенное влияние на развитие своей породы. Эту способность свободного, разностороннего развития, отсутствующую у животных, мы называем человеческой свободой. Вышеизложенное является лишь натуралистическим обоснованием присущего всем людям естественного свойства. Это обоснование, однако, не совсем излишне и разъясняет нам единственное, обусловливаемое возникновением этой свободы, ограничение: если дело идет о специфически человеческом развитии, то развитию мозга следует содействовать. Это можно выразить таким образом: Каждая победа умных над глупыми знаменует прогресс, есть признак положительного отбора; каждая победа глупцов над умными {90} знаменует регресс, есть признак отрицательного отбора (Новиков). Можно совершенно определенно сказать, что там, где решающим моментом является насилие (будь то грубое насилие пушки или столь же грубое насилие нетерпимости), там победа умного, т. е. положительный отбор по мозговым квалификациям, встречает преграды. Поэтому решение всякого недоразумения насильственными средствами должно быть с натуралистической точки зрения отвергнуто. Таков единственный вывод, какой можно, по-видимому, не без основания сделать из факта победоносной войны. Некоторые полагают, однако, что лица, с успехом занимающиеся избиением ближних, могут творить великое и в области культуры. Это, конечно, хотя и мыслимо, но мало вероятно.
Подобную точку зрения отстаивает, пожалуй, наиболее последовательно д-р С. Р. Штейнметц (Steinmetz: «Philosophie des Krieges», 1907). Он заявляет, что победа — удел не только одного положительного свойства, одной добродетели, а как бы целой суммы их; сюда он относит верность, чувство солидарности, выдержку, совестливость, образование, бережливость, богатство, физическое здоровье и силу. Ниже нам придется еще коснуться вопроса о том, существует ли подобная связь между специфически военными и общечеловеческими добродетелями. Тут же мы отметим только, что аргументация победителей сводится просто к признанию добродетелью того, что способствует победе. Ведь фактически все названные качества представляют собой отнюдь не абсолютные, а лишь относительные преимущества, превращающиеся в добродетели или в пороки, смотря по связываемой с ними цели: можно оставаться верным как хорошему, так и дурному, можно быть солидарным как с хорошим, так и с дурным, и т. п. Таким образом, все перечисленные Штейнметцем добродетели представляются таковыми лишь тому, кто в войне и ее результатах усматривает благо; если же стоять на противоположной точке зрения, то они превращаются в пороки. Выше было уже установлено, что консерватизм воинственных инстинктов человечества теперь уже не признается положительным качеством; в равной мере должно быть отвергнуто чувство солидарности небольших групп, тормозящих солидарность всего человечества (например, патриотов). Характерно, что в {91} перечне Штейнметца отсутствуют такие добродетели, как любовь и правдивость, к которым неприложимо понятие относительности. Впрочем, и в отдельности «добродетели» оцениваются различно, в зависимости от положения лица, производящего оценку. Побежденный никогда не согласится с тем, будто победу обеспечивают верность и совестливость. Даже теперешние сводки с театра военных действий, сообщая в силу необходимости об успехах противника, уверяют, что успехи эти достигнуты благодаря применению удушливых газов или других средств борьбы столь же высокого морального качества. Можно удивляться утверждению, будто бережливость способствует победе: в настоящее время, говорят, победа достанется тому, кто потратит больше денег на гранаты и снаряды. Но Штейнметц имеет в виду не бережливость во время войны, а экономию в мирное время. В этом пункте с ним, разумеется, можно согласиться. Трудно, однако, допустить, что добродетель заключается в сокращении расходов на образовательные и культурные цели (единственная область, в которой воинствующее государство может экономить). Впрочем, наш философ отличается от своих коллег еще и тем, что считает добродетелью даже богатство! Капитализм и война — современные добродетели! Штейнметц, по крайней мере, последователен.
Характерно, что он забывает о мужестве. И в самом деле, в настоящее время оно не причисляется к военным доблестям. Храбрые поручики действительной службы оказались в первой стадии этой войны в значительной мере зловредным элементом; дела поправились только тогда, когда решающее значение получили офицеры запаса. Такое обесценение мужества косвенно подтверждают и те, которые в пароксизме воодушевления заявляют, что сейчас исключительных героев нет, что ныне все — герои. Кому известно, как редко встречаются мужественные люди, тот знает и цену такому уверению. Подобно тому как организация генерального штаба поглощает единичных стратегов, так и окопы поглощают отдельных героев. Было время, когда храбрость была добродетелью; теперь оно миновало: мужество — свойство индивидуальное, и чем больше отдельная особь, пребывающая в рядах современных исполинских армий, превращается в простой номер, тем скорее исчезает там и личное {92} мужество, находящее лишь в других областях почву для своего развития.
Если сейчас и существует доблесть в военном деле, то это — организационный талант. Железные дороги и транспорт должны быть поставлены безукоризненно. Необходимо позаботиться о снарядах, о продовольствии и о тысяче других нужных вещей. Я первый готов с восхищением признать, что весь этот механизм действует великолепно, особенно в Германии. В способности столь совершенным образом подготовить и провести любое начинание кроется нечто, преисполняющее нас радостных надежд: ныне мы дошли наконец до того, что можем сорганизовать миллионы людей! Но здесь сказывается как раз правильность вышеприведенного общего соображения: организаторский талант, сам по себе, отнюдь не добродетель, а только ее форма; добродетелью он становится лишь благодаря своему содержанию, т. е. той цели, какую он преследует.
Техника взлома также достигла в настоящее время поразительного совершенства, и, сообразно с этим, ловкие писатели уже создали современный тип «джентльмена-взломщика», окружив его ореолом ложного романтизма. Но разве по этой причине кто-нибудь станет серьезно считать воровство и взлом чем-то прекрасным и высоким? Так обстоит дело и с войною. В лучшем случае она доказала наши организаторские способности. Мы организовали войну для истребления других, и все, кто считает истребление добродетелью, могут быть довольны. А кто усматривает добродетель в созидании, тот потребует, чтобы этот испытанный организаторский талант был использован для творческой деятельности. Если таков будет окончательный исход войны (а я думаю, что таков он и будет, и со своей стороны готов приложить крайние усилия к достижению этого), то тогда можно будет сказать, что теперешняя последняя европейская война явится заключительным аккордом минувшего и многообещающим началом нового будущего.
Во времена Фридриха II или Наполеона можно было бы еще представить себе добровольно сражающегося культурного человека. В наши дни это уже немыслимо. Разделение труда, мощно развившееся в XIX веке во всех областях человеческой деятельности, придало культуре и военному искусству столь исключающие друг друга формы, что в настоящее {93} время соединение их просто невозможно. Нам кажется странным, в нас вызывает чувство неловкости тот факт, что раньше, когда это было бы, пожалуй, и уместно, ни одному культурному человеку не пришло бы в голову принять участие в войне; лишь теперь, когда дифференциация общества достигла своего апогея, была придумана всеобщая воинская повинность, совершенно зря подвергающая наиболее культурного человека тем же опасным случайностям, что и ландскнехта, по самой природе своей предназначенного для военного ремесла.
Однако культурные люди настолько забывают о своих обязанностях по отношению к отечеству и человечеству, что добровольно лезут на арену борьбы и с воодушевлением кричат о своей готовности умереть. Еще в 50-х годах великий поэт Шарль Бодлер писал своему другу Пьеру Дюпону, который на первый полученный им за стихи гонорар нанял себе заместителя по военной службе: «Утешительно, что непрактичная муза хоть раз сделала нечто полезное» (Paul Fort. «Les poetes de la guerre en France», Journal de Geneve, 16/X, 1916). В настоящее время такой взгляд на вещи почти непонятен, и цитируемый Поль Фор заявляет совершенно в духе большинства: «Нечто подобное теперь, слава Богу, невозможно». Люди, однако, забывают, что истинное воодушевление возможно лишь в связи с созиданием жизни. Жизнь же говорит, что всякий пригоден лишь на своем месте: солдат не на Пегасе, поэт не в окопах.
В противном случае получилось бы то же самое, что при попытке сотворить скелет человека из клеточек мозга. Результатом такой процедуры было бы лишь уничтожение последних и сохранение одного только костяка. Такого рода отбор и произведет современная война: люди мозга погибнут, останутся только люди костей. Конечно, и это своего рода отбор, но отнюдь не прогрессивный, требующий усовершенствования человеческого мозга. Удачен отбор только в том случае, если он содействует развитию таланта и культуры.
§ 20. Развитие интеллекта благодаря войне. Хищные звери обычно считаются более умными, чем те, которые служат им добычей. Поэтому-то львы и леопарды, орлы и грифы, а также другие воинственные существа признаются особенно {94} благородными и чаще всего фигурируют на гербах1. Сиамский слон, перуанская лама и бирманский павлин составляют исключение.
В целом, широко распространенное мнение, что хищные звери умнее прочих, соответствует действительности: ловля добычи требует большей смекалки, чем простое бегство. Хотя сами по себе хищнические инстинкты зверей имеют мало общего с воинственными замашками человека, все-таки могло бы возникнуть мнение, будто внешне схожие привычки вызывают и аналогичные последствия. Однако это не так Уже среди животных мы видим исключения: наиболее умные среди них, обезьяны и слоны, — не хищники. В чем же дело?
Пока прием пищи является единственной задачей живого существа, хищное животное должно, разумеется, обладать большей сообразительностью: требуется больше ловкости и внимания, чтобы отыскать подвижное животное, чем просто съесть неподвижное растение, что, в свою очередь, сложнее деятельности растения, находящего всюду свою пищу, извлекающего ее из воздуха, воды и почвы и не нуждающегося в поисках ее.
Итак, получаются три ступени: растению присуща столь ничтожная сообразительность, что мы даже не замечаем ее; среднее положение занимают травоядные животные; хищники же стоят во главе всех прочих Такая градация сохраняется, впрочем, лишь до тех пор, пока организм не интересуется ни чем иным, как только едой или, что равносильно, самим собой. Когда же появляются интересы к другим вещам (и, главным образом, к «другим особям»), эта градация утрачивает свой смысл: тогда животное может развивать свой ум уже на почве новых интересов, и хищник, естественно, перестает быть умнее ограбленного. Эти новые, не одни лишь эгоистические, интересы, предъявляют {95} к рассудку более высокие требования, чем прежние хищнические инстинкты. Поскольку, например, петух не поедает сам всего того, что он находит, а заботится также о достаточном снабжении пищей кур, больше него нуждающихся в ней, так как им приходится сидеть на яйцах, мы имеем здесь дело с социальным инстинктом. Наличие этого инстинкта может и не сознаваться. Но для того чтобы он проявлялся, соответствующие животные должны обладать некоторыми повышенными умственными способностями. Отдельная особь должна прежде всего иметь возможность как-нибудь выявлять свою волю, т. е. должна располагать известным средством общения (языком); равным образом она должна считаться с чужой волей, т. е. понимать ее; другими словами, она должна иметь возможность учиться. Итак, отныне язык, рассудок и способность учиться являются теми факторами, которые постепенно развиваются все больше и больше. Они-то и тренируют интеллект и сглаживают всякое различие между хищниками и прочими животными. Этим объясняется то обстоятельство, что, начиная с определенного момента, социально настроенные животные (обезьяны, бобры, слоны, волки и т. д.) достигают, по сравнению с прежними хищными зверями, очень высокой степени умственного развития, совершенно независимо от того, являются ли они охотниками или добычей. Степень этой интеллигентности определяется, главным образом, степенью развития всего семейства (о кажущемся исключении у высших обезьяньих пород ср. сказанное выше в § 3). Особенной способностью к усвоению и подражанию обладают обезьяны, хорошо воспринимающие речь и, по-видимому, владеющие не совсем развитым языком. За последние годы их язык стал предметом довольно успешных исследований. Итак, в отношении интеллигентности совершенно безразлично, являются ли такие социально живущие существа хищниками или преследуемыми,— следовательно, утрачивает свой смысл и сравнение с царством низших организмов. Наоборот, наблюдаются скорее обратное явление и влияние! Так как хищнические инстинкты тормозят развитие социальных инстинктов и тем самым умственное развитие, то, начиная с известного момента, хищнический инстинкт должен становиться вредным: вызываемое им незначительное увеличение интеллигентности не соответствует неразрывно с ним связанному минусу — задержке в росте общественности. {96}
Это можно проследить на всех животных Наиболее резко выделяется этот факт у тех существ, которые, как, например, муравьи, ведут настоящие войны. Это бросилось в глаза еще Гюберу (Jean Pierre Huber. «Recherches sur les moeurs des fourmis», 1810), который впервые описал воюющих и держащих у себя рабов муравьев. Более подробные сообщения завели бы нас слишком далеко. Достаточно сослаться на сказанное по этому поводу профессором К. Сайо (Sajo: «Krieg und Frieden im Ameisenstaat», 1908): «Хищнический образ жизни муравьев ведет к боязни труда, последняя к паразитизму, который, в свою очередь, обусловливает утрату многосторонней сообразительности». Разнообразие пород у муравьев дает возможность установить все ступени постепенного упадка их жизненной энергии в связи с войной: у formica sanguinea возникают война и рабство, но этот вид может, по крайней мере, еще сам есть; у polyergus rufescens содержание рабов влечет за собой частичную беспомощность властвующего вида, который уже не может питаться самостоятельно; у strongylognathus иссякает, некогда мощная, сила, и эти бывшие воины в настоящее время умеют только красть; у вида anergetes, наконец, совершенно исчезает каста работников, и ставшая излишнею порода самцов окончательно погибает. Ибо, заявляет Сайо после рассмотрения различных пород муравьев, «труд является движущим, возвышающим принципом жизни, и среди муравьев происходит то же самое, что и среди людей». (К сожалению, это замечание не обратило на себя должного внимания.)
Последняя мысль- может показаться многим слишком антропоцентрической; да это и действительно так, потому что мы не можем признать муравья с ограниченной мыслительной способностью просто непригодным. По отношению к людям мы имеем право и должны так поступать: факты, которые приводит Сайо, говоря о муравьях, находят полную аналогию у людей. Исследования, которым подверглись малайцы и индейцы, показали, что подобные хищнические и охотничьи племена даже не обладают, как это раньше долго думали, более развитыми внешними чувствами (зрением, слухом, обонянием и т.д.). Физически они также не сильнее других племен, что известно каждому американскому поселенцу, а тем более не интеллигентнее, и настоящими носителями культуры были всегда только оседлые, невоинственные племена. Быть может, естественное {97} подтверждение мнения об уме хищников можно было бы усмотреть в том обстоятельстве, что во многих странах воинственные горцы раньше других достигли некоторого умственного превосходства (отчасти именно потому, что горы благоприятнее для защиты и, следовательно, горцам приходится затрачивать на это меньше усилий). Но и это приложимо лишь к низшим этапам развития человека, а равно и животных. Еще Страбону (XIII. 592) был известен закон прогресса культуры в направлении от гор к равнинам и морским побережьям. Рошер также приводит в качестве примеров того, что в конце концов власть утверждается на равнинах Северную Италию, Северную Францию, негористые части Швейцарии и Северную Германию.
Если же мы общим взглядом окинем всю область истории, то бросится в глаза культурное превосходство миролюбивых народов. Из всех известных нам народов наиболее культурными, в широком смысле этого слова, были греки, и хотя в случае необходимости, т. е. когда их культура подвергалась угрозе уничтожения, они сражались весьма недурно, все-таки их никак нельзя назвать воинственными; во всяком случае, они были не столь воинственны, как те племена, с которыми они боролись и которых они (что весьма важно) побеждали. Вообще миролюбивые племена, в силу своего более высокого умственного развития, часто одерживали верх над воинственными народами. Среди самих греков наибольшею воинственностью отличались спартанцы, а позже македоняне. Они же были и наименее культурными греками. Римляне, наоборот, отличались воинственностью, но для процветания культуры они сделали мало. Нечто подобное наблюдается всюду, и, пожалуй, нет лучшего этому примера, чем германский народ. Во времена Тацита германцы славились своею воинственностью и варварством. Впоследствии, однако, утомленные множеством войн, они стали миролюбивы и, вместе с тем, превратились в такой культурный народ, который вызывал изумление всего мира. Затем вновь наступила реакция: недовольные благами мира, германцы стали стремиться к войне и национальному величию. Вместе с тем померк блеск их национальной культуры.
§ 21. Специфическое влияние войны на мозг. Мысль, будто мир разнеживает, а война укрепляет людей, представляется большинству столь же неоспоримой, как и взгляд, что {98} изнеженность — грех пред культурою, а физическое развитие — выгода для нее. Оба взгляда совершенно не доказаны. Что «добродетель укрепления тела» не следует доводить до крайности, именно теперь поняли немцы. В то время как раньше мы завидовали физической выносливости англичан, ненависть заставила нас понять, что стремление всяческими мерами закалить тело является лишь «отвратительным бравированием мускулами». Отсюда видно, что и ненависть может научить кое-чему хорошему. После всего вышесказанного об отборе в соответствии с качествами мозга можно, во всяком случае, безошибочно утверждать, что не следует односторонне развивать тело за счет духа. Пусть популярный во всем мире (это нас мало касается) английский спорт признается всеми: подражание ему в Германии оказалось вредным для немецкого духа1.
Праздным является так часто возбуждавшийся вопрос, следует ли нам стремиться к древнеэллинской calocagaqia (сочетание красоты и доблести). Я лично не могу себе представить ничего более прекрасного, ибо я люблю древнюю Элладу. Но мне известно также, что прекраснейшие плоды германского духа не выросли на почве греческой calocagaqia. Известная тонкость немецкого мышления, быть может, несовместима с рыцарски закаленным телом. Я не имею здесь в виду мистиков и романтиков, равно как Канта и Шиллера, ибо, знаю, мне возразят, что время, когда нам нужны были подобные мечтатели, миновало; но я имею в виду сильных мужей XIX века, реально содействовавших успехам Германии, что теперь, по-видимому, является наиболее существенным. Такие люди, как например, Сименс, Крупп, Гельмгольц, Аббе, Баллин и Дернбург, {99} несомненно, придерживались старинной римской поговорки: «mens sana in corpore sano» (здоровый дух в здоровом теле), но мы едва ли можем представить их себе «премированными боксерами» или хотя бы физически особенно сильными людьми.
Итак, не следует преувеличивать значение укрепления тела Но правильно ли вообще, что война в состоянии физически укрепить народ? Швейцарцы и англичане1 долгое время не вели войн и все-таки остались физически крепкими и воинственными народами. Наоборот, турки и французы всегда считались наиболее воинственными в Европе нациями, а между тем и те и другие считаются вымирающими. «Больной» на Босфоре стал в такой же степени притчею во языцех, как и «вырождающийся француз». Это общее мнение нисколько не смягчилось под влиянием того, что многие стали смотреть ныне на союзную с нами Турцию другими глазами, а после пережитого нами на Марне и Изере утратила всякое значение легенда о французском «вырожденце».
В качестве наиболее яркого примера во всех учебниках приводится «зимовка Ганнибала в Капуе». С тех пор как Ливии заявил, что в этом «центре разнузданности» войска Ганнибала изнежились, все с уверенностью повторяют это вслед за ним. Как? Неужели эта армия, имевшая за собою многолетние войны в Испании, с оружием в руках пробившая себе путь к беспримерно трудному переходу чрез покрытые льдами и снегами альпийские перевалы (причем, как говорят, там погибла одна треть ее), одержавшая затем, в ближайший же год громкие победы на Тичино, на Требии и на Тразименском озере, а в следующем году прославившаяся своими блестящими успехами в грандиознейшей, быть может, в мировой истории битве при Каннах, — неужели такая армия за одну зиму своего пребывания в Капуе настолько изнежилась, что Марцелл мог без всякого труда разгромить ее под Нолой? По-видимому, прав Жан-Поль Рихтер, заявивший: «Укрепление человека на войне не прочнее крахмаления белья».
Если же это действительно так, если даже полугодичный мир может лишить испытанное на войне войско всей его мощи {100} и если мы, во избежание подобного положения вещей, должны ежегодно воевать, по крайней мере, дважды, то цена такого достижения представляется нам все-таки слишком дорогой: большинство людей охотнее откажется от такой закалки, чем жить в состоянии беспрерывной войны. Однако, быть может, вовсе не Капуя, а предшествовавшая захвату ее война ослабила воинственность армии Ганнибала? Все военные писатели сходятся в том, что солдаты по истечении известного периода войны (от 6 до 12 месяцев) достигают апогея своей выносливости и пригодности. В большинстве случаев предполагается, что воин за указанный период времени несколько отвыкает от обычной дисциплины и усваивает ряд приемов, которые дают ему возможность искуснее и легче, чем то делает храбрый, но не испытанный в боях новичок, преодолевать опасности. К этому присоединяется еще момент отрицательного отбора. В силу последнего армия с течением времени естественно лишается своих наиболее ценных элементов. Знаменитый маршал фон дер Гольц (V.d. Goltz: «Leon Gambetta und seine Armeen», 1877)1 пишет по этому поводу: «Смерть, понятно, собирает наиболее обильную жатву среди лучших воинов: храбрейшие всегда впереди, и их прежде всего настигают пули. Никто не станет поэтому отрицать, что ценность армии понижается после каждого боя. Кроме того, войска, месяцами находящиеся на фронте, перенесшие всевозможные тяготы и лишения, истощенные трудными переходами и сыростью ночных бивуаков, в значительной мере чувствуют понижение пыла своей воинственности. Свободными от всех этих влияний остаются лишь натуры избранные, но отнюдь не общая масса. Люди, не знающие войны, обычно игнорируют это обстоятельство; они представляют себе “ветеранов” переходящими со всевозрастающей храбростью от боя к бою, думают, что ежедневно укрепляются их презрение к смерти и их опыт, и полагают, что им становится все легче и легче вплетать новые лавры в свои венки победителей. Между тем совершенно невозможно неизменно оставаться героем в течение ряда месяцев, когда приходится {101} драться почти ежедневно, при постоянно возобновляющихся опасностях, когда весь день топчешься в грязи дорог, а ночи проводишь на сырых стоянках Правда, юноша преисполнен отваги в ожидании первого боя. Военная жизнь представляется ему неведомым царством, овеянным ореолом романтики. Здесь он ищет опасности и приключения, к которым его тянет. Но обстоятельства совершенно меняются после того, как ему пришлось пережить два, три, десять, двенадцать сражений, удалось достичь желанной славы и сознания, что в роковой час он исполнил свой долг, презрев опасность смерти. Невольно в его груди возникает тогда желание, чтобы всему этому наступил скорее конец и чтобы приобретенным им на войне богатым опытом можно было спокойно наслаждаться дома».
Последние года Семилетней войны и участь Наполеона подтверждают правильность этого взгляда.
Таким образом, по мнению компетентных специалистов-военных, сама война постепенно способствует разложению армий. К этому присоединяется еще один, быть может, самый существенный момент, выявленный лишь последней русско-японской войной. Это могучая борьба народов впервые обратила наше внимание на прямо-таки беспримерное расстройство всей нервной системы, являющееся спутником современной войны, быть может, в гораздо большей мере, чем прежних войн. Одним из первых отметил это влияние не военный (и не врач), а молодой русский писатель Леонид Андреев. В своем произведении «Красный смех» он нарисовал потрясающую картину того, как надламывает война людей и как утрачивают они способность переносить тысячи ужасов длительной войны. Андреев убежден, что мощь России разбилась об этот красный смех, распространившийся по обширной территории России. С Андреевым соглашались, но утешали себя мыслью, что подобная неустойчивость нервов — специфическое свойство мягкой славянской души. Вскоре после начала войны Бенгеффер выступил с публичною речью, в которой совершенно отрицал реальность прежде столь часто употреблявшегося выражения «военный психоз». Правда, он хотел этим сказать только то, что вызываемое войною душевное расстройство человека ничем «не отличается от всех прочих душевных заболеваний, возникающих вследствие физического и {102} психического напряжения и резких впечатлений». Но так как война представляет для большинства людей наиболее сильное физическое и психическое переживание, то не приходится удивляться тому, что именно война обычно пробуждает и усиливает ранее дремавшие в людях предрасположения к болезням. Во всяком случае, все, кто имел возможность неоднократно наблюдать офицеров и солдат, вернувшихся с театра военных действий, прекрасно знают, что такое «красный смех». Очень часто обстановка походной жизни ведет к сумасшествию, и если дело и не доходит до психического расстройства, то все-таки отмечается болезненное состояние солдат: они долго не могут заснуть, ворочаются на койках; заснув же, терзаются тяжелыми, кошмарными сновидениями. Даже спокойные, уравновешенные люди обнаруживают невероятную раздражительность, тяжело отражающуюся на их семейной жизни. Стойкие мужчины начинают плакать по малейшему поводу и сами сознают свою беспомощность. В глубине души все они испытывают страх пред ужасами боя, хотя воспитание и правила приличия в большинстве случаев заставляют единичные личности не признаваться в этом.
Удивительно при этом то, что подобные тяжкие психопатические недуги проявляются почти исключительно по возвращении участников войны домой, на почве контраста мирного образа жизни у родного очага. Дело доходило до того, что требовались административные мероприятия: учитывая, с каким трудом удается вернуть на фронт солдат, особенно раненых, военные власти стали по возможности ограничивать отпуск военных домой.
Эти наблюдения заставляют думать, что не зимовка в Капуе ослабила войска Ганнибала, а психические заболевания среди них во время предшествовавшего похода. Что люди научаются на войне ездить верхом и маршировать, стойко переносить непогоду и мириться с неудобствами плохих стоянок, это разумеется само собою; несомненно также, что все это в известном смысле закаляет тело. Но столь же несомненно и то, что победа достигается не руками и ногами, а мозгом. Мозг же безусловно страдает от войны. Следовательно, война является для важнейшего человеческого органа моментом не укрепляющим, а, наоборот, ослабляющим.
| {103} |
§ 22. Человек как субъект и объект войны. Участие человека в войне носит совершенно иной характер, чем все его другие действия: на войне его роль одновременно активна и пассивна. Во время воспроизведения музыкальной пьесы можно быть исполнителем или слушателем, при казни — палачом или его жертвой; короче говоря, всегда человек является либо субъектом, либо объектом. Только на войне человек, стреляя в других, в свою очередь расстреливается ими. Такая двойственность обусловливает и совершенно своеобразное влияние войны на человеческую личность. Во многих неопровержимых местах своих сочинений Кант указывает на трудность и даже невозможность быть одновременно объектом и субъектом. Несомненно, он прав. И только в пределах чувств любви и ненависти человек как бы инстинктивно в состоянии испытывать это двойственное ощущение: любовь и ответная любовь, ненависть и вызываемая ею контрненависть легко сливаются в одно-единое чувство. Правда, это неизбежно, потому что можно любить и ненавидеть, не возбуждая к себе ни любви, ни ненависти. Но на войне это не так: никто не может воевать, не вызывая другого на то же. В области любви требование любить своего ближнего как самого себя делает возможным полное слияние с ним. В сфере войны и ненависти это невозможно: ненавидеть ближнего как самого себя, разумеется, бессмыслица.
Существует термин «общность», заключающий в себе в различных случаях возможности всяческого смешения субъекта с объектом. Полнейший синтез мыслим только в отношении любви; поэтому социальное значение этого слова обнимает все то, что человек может пережить как субъект и объект всеобъемлющей мировой любви. Зато, как уже было указано, невозможен синтез в отношении ненависти; здесь попытка слить объект с субъектом ведет лишь к карикатурам, где не может быть выявлена ни настоящая объективность, ни настоящая субъективность.
Пока человек ничего не знал о возможности объективного отношения к другим существам, следовательно, пока он в этом смысле был зверем,— он беззаботно и радостно-наивно забавлялся своими веселыми и напоминавшими игру битвами. {104} Аналогично этому мальчик с улыбкою беспощадно умерщвляет кошек и разоряет птичьи гнезда. Но такое состояние невинности не вечно, и человек, некогда безусловно представлявший собой довольно радостного зверя, превратился затем, по меткому выражению Фридриха Шлегеля, в «зверя серьезного». Он научился анализировать самого себя, быть объективным, обладать собственным достоинством или по крайней мере делать вид что обладает им. Обычно люди инстинктивно цепляются за свое былое достоинство и, внешним образом еще ярче подчеркивая свое внутреннее — к сожалению, утраченное ими — достоинство, с сугубой серьезностью относятся к деяниям, которые должны быть оскорбительны для всякого человеческого достоинства. Та самая возмутительная серьезность одетых в белые мантии судей, разбиравших дела еретиков, которая некогда «окропляла небесную пальму человеческой кровью», ныне с воодушевлением взирает на кровь, проливаемую за земные престолы.
Лишь эта столь деловито выступающая серьезность превращает легкомысленное восхищение войной в тот смертный грех, которому нет прощения. Поэтому-то тысячи стихотворений 1914 г. не так вредны, как одна строчка философов. Поэты сверкали очами в порыве «прекрасного безумия»; но именно потому они являются безответственными. Между тем философы, хотя и бессознательно, но все-таки под влиянием «здравого смысла», жертвовали человеческим достоинством, от чего, при минимальной и законной доле обдуманности, следовало бы им воздержаться. Если бравый вахмистр и наградит новобранца в минуту возмущения его глупостью или подлостью пощечиной, то хотя это и запрещено, однако, едва ли вредно отразится на характерах того и другого. Если же телесное наказание устанавливается сознательно и проводится в жизнь самым серьезным образом, то это губит целое сословие, а в случае всеобщего применения такого наказания — и целый народ. А между тем, читая труды наших современных философов войны, мы испытываем такое ощущение, будто нас гонят сквозь строй.
Цель войны, практически и теоретически, сводится к уничтожению объекта субъектом и одновременно к уничтожению субъекта объектом. А так как дело обстоит именно таким {105} образом (в чем никто не сомневается и сомневаться не может), то, собственно говоря, трудно понять, почему многие люди так часто удивляются естественному результату войны — обоюдной подлости. Наиболее подходящим для войны символом все-таки являются два взаимно пожирающих друг друга льва, которые попеременно могут быть названы и субъектом, и объектом.
Еще другим образом сказывается это своеобразное двойное воздействие войны. На первый взгляд две вещи кажутся характерными для войны: решимость убивать и готовность умереть. Готовность умереть за идею признавалась ценным проявлением нравственного величия всегда и почти всеми, принципиально всеми, за исключением одних только — потому, быть может(?), столь дорожащих жизнью — китайцев; преднамеренное же умерщвление или желание убить другого, наоборот, всегда и всеми считалось проявлением нравственной одичалости. Можно было бы думать, что величие и подлость — друг друга исключающие явления, что субъективному усмотрению всякого индивидуума предоставляется подчеркнуть в большей или меньшей степени хорошую или дурную стороны войны и что даже, пожалуй, только от характера каждого отдельного участника войны зависит извлечь из нее максимум нравственных сил или максимум одичалости. В практике патриотов такая двойная возможность является, во всяком случае, весьма удобным предлогом для резких противопоставлений; «возвысившаяся благодаря войне толпа героев» — столь же распространенное среди народов выражение, как и «на войне огрубелая солдатчина» неприятеля. Если же оставить без внимания подобное, не выдерживающее никакой критики противопоставление, усматривая в нем лишь показатель простительного самомнения, то в факте двоякого влияния войны можно было бы как будто отыскать зерно истины. Между тем на самом деле все эти рассуждения беспочвенны, потому что в действительности войну характеризует одно только стремление к убийству. Совершенно безнаказанно умертвить своего ближнего можно в настоящее время в одном случае, а именно на войне. Даже убийство на дуэли ныне всюду карается, хотя и легко. Жертвовать собой человек имеет возможность во многих случаях: революционеры жертвовали собой во имя человечества, {106} Лукреция — во имя женской чести, Винкельрид — во имя отечества, Текла — во имя любви, разные врачи — во имя изучения чумы; матери жертвуют собой ради своих детей, дети — ради родителей, «порядочный человек» — ради своих ближних Короче говоря, каждому человеку жизнь предоставляет достаточно поводов к самопожертвованию, и ему вовсе нет нужды прибегать к тому методу, при котором ему приходится предварительно умерщвлять множество других себе подобных. Нельзя поэтому, как это часто делается, усматривать в происходящих на войне случаях самопожертвования доказательство необходимости самой войны. Существует ряд других областей, где можно столь же героически, но гораздо разумнее жертвовать своей жизнью: например, на пути к новым открытиям в борьбе с болезнями, во время пожаров, при добыче важных предметов потребления. Есть ли разница между героизмом офицера, под градом пуль несущего знамя впереди своего полка, и подвигом профессора Петтенкофера, с полным сознанием роковых последствий своего поступка проглотившего 7 октября 1892 года в Мюнхене культуру холеры ради изучения причин гамбургской эпидемии? Разве образ старца, мужественно идущего навстречу верной смерти, чтобы помочь человечеству, не возвышеннее и грандиознее образа генерала, пребывающего в полной безопасности в штабе и хладнокровно отправляющего тысячи людей на смерть и погибель? Если наше время не богато Петтенкоферами, то следовало бы принять все меры к тому, чтобы их было как можно больше. Побольше Петтенкоферов и поменьше солдат! Сумма героизма осталась бы прежней, сумма же человеческого счастья на Земле возросла бы.
Следовательно, не «умирание», а «умерщвление» является характерным, настоящим признаком войны. Умерщвление же приводит к огрубению, к бесповоротному одичанию, если даже речь идет об умерщвлении животных и если даже убийство совершается в таких безупречно законных формах, как работа палача. Таково и всенародное убеждение: живодер и палач (добровольная гражданская служба, аналогичная недобровольной военной службе) не столь давно считались еще людьми позорной профессии и до сих пор живут инкогнито и довольно одиноко. Я не знаю и не желал бы знать ни одного из них. {107}
Разница между палачом и солдатом, разумеется, все же существует: солдат (по крайней мере, ныне) несет в большинстве случаев свою службу по принуждению, вызывая тем самым с нашей стороны сострадание, тогда как палач совершенно не ведает в своей работе примиряющего коррелятива самопожертвования. Но так как последнее и не представляет собой необходимого, характерного признака войны, то неизбежным и неизменным результатом войны является лишь пренебрежение к субъекту в служащем предметом войны объекте, способствующее постепенно возрастающей дисгармонии между субъектом и объектом, т. е. усилению эгоизма.
§ 23. Жажда крови. Стремление к умерщвлению коренится, по-видимому, в человеческой крови. Один американский писатель, фамилию которого я позабыл, готов оправдать это, ссылаясь на наследственность. Он пишет: «Человек ведет свое происхождение не от благородных хищных животных, а от трусливых травоядных, которые, не будучи в силах умертвить другого, невольно набрасываются друг на друга». Это соображение несомненно ошибочно (в большинстве случаев травоядные вовсе не нападают друг на друга; к тому же гораздо легче умертвить другое, более слабое животное, чем своего сородича), и по всей вероятности стремление человека к умерщвлению, представляющееся ныне даже врожденным, вообще не может быть рассматриваемо как унаследованное от животных предков, а является качеством, приобретенным лишь впоследствии. В таком резко выраженном виде как у человека (у которого на известной ступени культурного развития оно почти всегда превращается в людоедство) это стремление не встречается среди животных Правда, утверждают, что иногда животные пожирают своих детенышей (например, свиньи). Но даже среди низших животных только в исключительных случаях взрослые особи пожирают друг друга. Инстинктивное уважение к себе подобным, по-видимому, одно из основных свойств животного и наблюдается даже у самых первобытных животных С гидрозоями обстоятельные опыты производил еще известный исследователь пресноводных полипов Авраам Трамбле; он сообщает, что эти почти микроскопические пятилучевые комочки, столь часто встречающиеся в аквариумах в виде загрязняющего их вещества и столь жадно пожирающие всякое мясо, весьма {108} редко прикасаются к другим видам полипов и никогда не трогают своих сородичей. Они не пожирают своих сородичей даже в том случае, если «их бросают им в пасть в измельченном виде» или «если они раньше долгое время голодали»; следовательно, их не так легко обмануть, как древнего Фиеста Среди же обезьян вообще не существует такой породы, у которой наблюдались бы черты каннибализма; поэтому можно с уверенностью сказать, что каннибализм отнюдь не пережиток звериной дикости, а чисто человеческое свойство. Это подтверждается и тем, что в жилищах первобытных людей находили обожженные и раздробленные кости различных животных (мелких), но никогда не попадались в подобном же виде человеческие кости1. Впрочем, несколько позже наступил период, когда почти все племена были людоедами. Предания о Пелопидах, Гайе, Полифеме ясно свидетельствуют об этом; в Библии тоже имеются кое-какие указания на это, а в раннем детстве мы читали об этом в сказках о людоедах. Из того факта, что во всех преданиях речь идет о родителях, поедающих своих детей, можно заключить, что мы имеем здесь дело, по-видимому, с самым примитивным, самым естественным видом каннибализма, биологической целью которого являлось возможно скорое уничтожение слабосильных новорожденных, чтобы дать место здоровому потомству (по аналогичным причинам обычай умерщвления детей встречается у физически весьма сильных народов, напр. у спартанцев и китайцев). Быть может, к этому нередко присоединялись и практические соображения, дети служат обузой для кочевых племен. Иногда (например, на Соломоновых островах) — впрочем, довольно редко — матери убивают новорожденных, чтобы не портить себе фигуры при кормлении грудью. Однако все это касается умерщвления детей. Но еще в настоящее время2 почти повсюду старики или {109} захваченные в плен враги убиваются или пожираются. Это едва ли может считаться проявлением примитивного инстинкта: то обстоятельство, что больных и слабых не просто бросают в лесу, а именно убивают, доказывает, что относительно них существует некоторое чувство ответственности. Только сравнительно высокоразвитые в социальном направлении животные (например, аисты) поступают аналогично этому или, по крайней мере, им приписывается нечто подобное. От практических условий питания зависит, главным образом, предаются ли убитые погребению или же поедаются: в бедных дичью местностях таким путем легче всего добывается мясная пища. Этим, как доказано, объясняется людоедство новозеландских маори, а также (быть может) каннибализм трудолюбивых ремесленников-ацтеков. Этическая сторона этого вопроса освещена Гердером1, который, опираясь на факты, открыто заявляет, что не приходится удивляться тому, что некоторые страдающие от недоедания племена предпочитают ребенка изможденному отцу и, так как они не могут кормить и таскать с собой стариков, охотнее готовы сами уготовить им дружеской рукой безболезненный конец, чем бросать их на растерзание диким зверям. Первоначально, следовательно, стремление людей к умерщвлению своих сородичей было понятно и целесообразно. Но вскоре сюда примешалось суеверие. Вкушая тела добрых предков или храбрых врагов, люди рассчитывали на то, что к ним перейдут и отменные качества поедаемых2. У некоторых еще ныне существующих людоедов эта мистическая черта фактически установлена. Подобное суеверие, которое могло, конечно, и не быть исходным моментом каннибализма, перенесло обычай умерщвления даже в такие эпохи, когда сам по себе он утратил всякую целесообразность. Каждому поневоле должно броситься в глаза, как часто каннибализм и человеческие жертвоприношения встречаются в связи с религиозными церемониями. Китайцы и индусы, финикийцы и {110} карфагеняне, иудеи и египтяне, греки и римляне, кельты, германцы и славяне, негры, индейцы и островитяне Тихого океана — все они приносили или до сих пор еще приносят человеческие жертвы.
Ветхий завет также знал человеческие жертвоприношения, против которых восстало, однако, христианство. Впрочем, и само христианство, несомненно, обнаруживает в таинстве евхаристии черты каннибализма, вследствие чего и насмешливое прозвище «mangeurs du bon Dieu» (поедатели Господа Бога) вовсе не лишено основания1. Но и независимо от этих догматических воспоминаний на практике тенденция к умерщвлению была сильнее принципа христианского учения, причем под видом еретиков и ведьм уничтожалось особенно много людей2. Во всяком случае достопримечателен тот факт, что величайший палач инквизиции Торквемада сжег за 15 лет своей деятельности не более 9000 человек, в то время как современный второстепенный полководец за один только день уничтожает такое же количество людей3. Но своего апогея достигли подобные ужасы в Мексике. С религиозными целями там ежегодно, в особо предназначенный для этого день, умерщвлялось от 20 до 50 тысяч человек (в 1486 году даже сразу целых 100 тысяч). Остро отточенными каменными ножами несчастным вскрывали грудь, извлекали оттуда сердце и бросали его, еще трепещущим, в отверстую пасть тут же стоявшего идола. Но не одни только ацтеки придерживались этого кровавого обычая: высокообразованные перуанские инки, равно как и все прочие первобытные племена Америки, поступали таким же образом. Говорят, что еще до сих пор в африканском королевстве Дагомее ежегодно приносятся в жертву сотни негров-невольников. Эти религиозные бойни показывают, быть может, ярче всяких других примеров, как глубоко коренится в человеке жажда крови. Постепенно, однако, человек лишался возможности утолять эту кошмарную жажду, и в течение {111} XVIII века вышли из употребления почти все способы законного умерщвления людей. Бедняки продолжали, конечно, умирать за лиц высокопоставленных, но народ погибал молча и уже не на арене. Лишь в немногих местах сохранились пережитки прежних официальных кровавых зрелищ: в Испании устраивались бои быков, в Англии матросы занимались боксом, в Германии студенты дрались на рапирах, в России существовали секты изуверов, умерщвлявших себя и своих детей. Но в общем, благодаря успехам Французской революции (также поглотившей большое количество людей), в Европе иссякла возможность удовлетворения кровавых инстинктов человечества. Осталась одна только война, и за нее ухватились все эти древние инстинкты. И в этом смысле война является неправильно понятым пережитком седой старины. Жажда крови утратила свою целесообразность, но традиция сохранилась и стала священной. Нет поэтому ничего удивительного, что со временем идея так называемого «народного» войска пустила глубокие корни в массы и что взлелеянная прежними кровожадными инстинктами любовь к войне возросла до гигантских размеров. С тем же фанатизмом, с каким некогда папа Иннокентий III благословлял сожжение «во славу Божию» огромного количества еретиков, современный немецкий поэт Рихард Демель торжествует, когда «к вящей славе родины» истекают кровью «внутренние враги» Германии (т. е. такие люди, которые не желают признавать мировой гегемонии Германии).
§ 24. Огрубение благодаря войне. Война, не брезгующая самым жестоким оружием, — кровавое дело. Но повествование о «льве, отведавшем крови» отнюдь не сказка, и человеческой природе действительно присуща большая легкость исполнения того, что повторяется неоднократно. «Первый шаг труден», и «аппетит появляется во время еды». Этот факт служит базой всякого развития, всякого обучения. Впрочем, научиться дурному не труднее (быть может, даже легче), чем хорошему. Но нет ничего утешительного в том, чтобы смотреть на человеческую жизнь как на quantité négligeable, потому что на уважении к жизни основывается в конечном счете вся культура. Между тем на войне жизнь теряет свою ценность. Во время сражения люди отправляются на убой целыми полками, а военно-полевые суды приговаривают к смерти граждан и солдат {112} за такие проступки, которые в обычное время едва ли караются. А что сказать о жизни неприятелей! Один весьма почтенный офицер рассказывал мне с ужасом, как он однажды пригрозил своему квартирохозяину расстрелом, если не найдется пропавший у него кошелек. Люди хладнокровно расстреливаются (например, заложники), причем расстреливающие убеждены в личной невиновности своих жертв. Когда в самом начале войны какой-то прусский офицер предпочел застрелиться, чем исполнить подобный приказ, его товарищи объясняли это «самопожертвование по моральным мотивам» сверхвпечатлительной натурой самоубийцы.
Равнодушие к ужасам войны проявляется и в том, что люди не стесняются в выражениях. Двадцать врагов «уничтожено» — гласят, например, наши официальные сообщения. Подобно тому как прежде очищали старое платье от грязи и насекомых, ныне от неприятеля «очищаются» окопы. Война содействует огрубению, потому что заставляет человека совершать гнусности чисто механическим путем. Эта привычка понемногу проникает в наше сознание. Так, например, В.Голландер, принимавший участие в войне в течение полутора лет, пишет: «Война стала для нас второй отчизною и профессией. Войско — это особый народ, не похожий на все прочие народы. Язык войны непонятен даже наиболее одаренным, но не знакомым с ним лингвистам. Чрезвычайное превратилось в обыденное, а то, что на житейском языке называется сумасшествием или безумием, на военном языке приобретает значение нормального явления. Никому из тех, кто провел на войне около года без перерыва, не удалось заметить постепенного превращения необычайного в обычное. Всех охватило отупение, равнодушие, упрямство; всякое физическое ощущение вызывало резкую реакцию. И только теперь, когда почти каждый, не побывавший еще дома в качестве раненого, получил отпуск (отпуск, как официальное признание войны нормальным состоянием), только теперь участник войны, который успел потерять счет времени, стал понимать, что произошел разрыв между нами и прошлым, между настоящей Германией и воюющей родиной»1. {113}
Та измена отечественной культуре, какая тут описывается, была самой ужасной в истории германского народа, была изменой самому народу; она гораздо хуже, непростительнее и непоправимее, чем измена знамени. Факт общераспространенности этого явления важнее всех других единичных случаев. Печальные события в Калише и Лувене, мрачные эпизоды партизанской войны можно, пожалуй, оправдать тяжелыми условиями соответствующего момента. Но решающим является то обстоятельство, что война ставит людей в такое положение, когда они вынуждены действовать бесчеловечно. В качестве примера такого положения упомянем об отказе от пощады. Этот факт твердо установлен: еще во время боксерского восстания девиз «никакой пощады» был объявлен официальным лозунгом; в настоящую войну этот лозунг был провозглашен в знаменитом приказе принца Рупрехта и вообще настолько общеизвестен, что, например, профессор Ястров в основу своих выводов относительно численности пленных кладет тот факт, что «наши войска не любят брать в плен англичан». Если даже согласиться с тем, что это, хотя и печальная, но неизбежная необходимость, то все же не подлежит сомнению, что она ведет к огрубению нравов. Можно, разумеется, как это делают софисты, утверждать, что противника дозволено убивать в бою, потому что он выступает добровольно, и что, следовательно, его собственная воля не насилуется, но при отказе от пощады отпадает и это мнимое основание: ведь если кто-нибудь просит пощады, то совершенно ясно, что уже никто не имеет права ссылаться в случае его умерщвления на молчаливое взаимное соглашение. Отказ от пощады, чем бы с военной точки зрения он ни оправдывался, является, таким образом, по прин-ципиапьным соображениям, несомненно, наиболее тяжким преступлением против человеческой личности.
Впрочем, пренебрежение к жизни — лишь одна (хотя и худшая) сторона дела. Равным образом уничтожается и понятие собственности. Один из моих приятелей, безусловно порядочный человек, прежде ни за что не присвоивший бы себе одолженной книги, закончил одно из своих писем следующими словами: «Надо кончать, потому что спешу на реквизицию, т. е. на то, что раньше в Германии обычно называлось {114} грабежом». Это хладнокровное описание того, что на солдатском языке именуется «добыванием», показывает, что на войне утрачивается представление о том, что подобный образ действий во многих случаях незаконен. Какой-то офицер познакомил меня однажды с техникой реквизиции. Отправляешься, сказал он, в лавку и спрашиваешь о цене товара, причем для большей ясности тычешь револьвером в самый товар (или в продавца). «За это вот тебе десять пфеннигов!» И тем самым все честно оплачено. Однако довольно! Зло заключается не столько в самом деянии, сколько в признании подобных явлений естественным следствием войны.
Огрубение оставшихся в тылу, быть может, еще сильнее, потому что им недостает эквивалента пережитой смертельной опасности. Здесь я не стану подробно рассматривать эту одичалость; о ней мне придется неоднократно говорить в следующих параграфах. Тут мне хотелось бы указать на один лишь факт, факт символический, показывающий, каких размеров достигло нравственное отупение. В человеческую войну вмешиваются общества покровительства животным, т. е. организации, открыто проповедующие сострадание и любовь к животным. Люди, без слез взирающие на груды человеческих трупов, оплакивают убитых лошадей! После того как «Бог любви» изгнан из обители людей, последние утешают себя идолом любви!
Наиболее ярким и подтверждаемым статистикой доказательством огрубения людей, несомненно, является обнаруживающийся после всех войн рост преступности (это наблюдалось также после франко-прусской войны 1870—1871 гг.). Во время же войны отмечается даже уменьшение преступности, так как элементы, дающие главный контингент уголовных преступников, находятся на фронте. Впрочем, в нынешнюю войну обращает на себя внимание сильный рост числа юных преступников в тылу. Хотя (из-за недостатка в судьях и т.п.) незначительные проступки остаются по возможности безнаказанными, тем не менее число юных уголовных преступников, например в Берлине, превышает 50%. Это верный показатель одичания юношества во время войны. А между тем юношество — наша опора в будущем. Тягчайшая ответственность за это падет на тех, кто проповедовал или хотя бы только допустил войну.
| {115} |
§ 25. Переоценка истины. Человек — создание миролюбивое. Все его интеллектуальные, моральные и эстетические суждения возникли на почве мирных занятий и нераздельно связаны именно с ними. Что представляется нам истинным? — То, чему учит нас наш разум! Что — хорошим? — То, что оправдывается при общении людей! Что — прекрасным? — То, что нас радует!
Между тем на войне дело касается не интеллекта, а силы. Люди не хотят жить дружно, а стремятся к взаимному уничтожению, не желают друг друга поддерживать, а стараются повредить друг другу. Но если, таким образом, переворачивается вверх дном база всех наших представлений, то удивительно ли после этого, что извращаются и сами представления?
Истина всегда страдала от войны, и еще Жан-Поль Рихтер сказал, что в течение самого продолжительного мирного периода человек не изрекает и половины того вздора, какой он распространяет за время самой короткой войны. Но никогда с правдой не обращались так бесцеремонно, как сейчас. Никогда ложь не была так хорошо сорганизована; никогда столько людей не было к ее услугам. Чуть ли не каждая война, начиная еще с XIII века, сопровождалась попыткой убедить простонародье, что враги отравили колодцы1. Однако прежде в распространении этих небылиц не участвовали университетские профессора, и врачей не обвиняли в подобных подлостях, как это делалось в настоящую войну по отношению к французским врачам2.
Бомбы летчиков в Нюрнберге! Взорванный тоннель! Отравленные колодцы! Это было первое, что мы услышали о войне, и все это оказалось ложью. Это были не случайно возникшие, не подлежащие проверке слухи, а официальные сообщения! {116} Не только допускались умолчания и прикрасы, нет, распространялись ложные известия, неверные цифры. Ложь стала священною. Ею оперировали как всяким другим военным средством. В Одессе и Париже, в Индии и Египте, в Марокко и Бурском государстве происходили якобы «революции». Сведения о нашем и вражеском урожае, о прибытии и отбытии судов, о ценах на продукты питания, о смертных случаях, о болезнях, о количестве рекрутов, словом, факты, которые, несомненно, всем были хорошо известны, сообщались в извращенном виде. Мне не хочется приводить здесь утомительные детали (они потребовали бы, пожалуй, ровно столько места, сколько занял бы комплект ежедневной газеты за целых три года). Но всякий, кто читал бюллетени, которые ежедневно получали газеты в форме «информации», знает, что это не были случайные заблуждения, что тут имел место отчасти умышленный обман. Люди боялись потерять престиж, оставаясь верными истине; поэтому они решили победить без нее. Время покажет ошибочность этого расчета. Некоторые виды этой лжи в течение ряда месяцев пользовались популярностью и, вероятно, навсегда запечатлелись в памяти у всех
Говорили, например, что в Восточной Пруссии перестреляны все лесничие (на самом деле был убит только один, указывавший путь германскому патрулю). Русские и бельгийцы отрубают детям руки! Бельгийцы (а в Австрии — сербы) выкалывают солдатам глаза! Вспомним также о разрывных пулях дум-дум.
Я скажу здесь лишь несколько слов о выколотых глазах Уверяли, будто солдат с такими увечьями можно найти в любом лазарете. Сперва распространители подобных слухов, быть может, действовали совершенно искренне, будучи введены в заблуждение, например, нередко происходящим поражением зрительных нервов, которое ведет к полной слепоте. Но после того как в Германии д-р Кауфманн (Аахен), а в Австрии профессор Карл Брокгаузен (Вена) занялись детальнейшим расследованием в этой области (Брокгаузен объявил даже премию в 50 крон за каждый установленный случай ослепления) и не нашли ни одного ослепленного, следовало бы потребовать принятия энергичных мер против распространения подобных легенд. Однако никаких шагов в этом направлении не последовало; пресса продолжала распространять подобные слухи, правительство не обращало на это никакого внимания, а народ верил всем этим басням. До сих {117} пор еще в широких слоях населения, даже среди людей образованных, господствует убеждение, что в Бельгии германским солдатам выкалывались глаза1.
Правда, некоторые из этих видов лжи имеют известное основание. Когда утверждают, что наши враги принимают в войска уголовных арестантов, то нельзя отрицать того, что во всех государствах в начале войны или по другим знаменательным поводам объявляется амнистия.
Когда уверяют, что враги обстреливают Красный Крест, то всякий сам поймет, что современные снаряды, в большинстве случаев обстреливающие лишь поверхностно обследованную местность (и притом на расстоянии до 20 километров), могут случайно попасть в лазареты. И если повязка Красного Креста в настоящее время представляет действительно некоторую опасность, то это объясняется тем, что вследствие защитного цвета обмундирования крайне затруднен прицел, в то время как повязка Красного Креста различима на далеком расстоянии. Так обстояло дело, вероятно, не раз, но, во всяком случае, это отнюдь не снимает ответственности с правительства, прекрасно осведомленного о всех деталях каждого происшествия2.
Так как правда была изгнана из обихода, то она утратила и власть над душой человека Никто больше не верил в свои собственные взгляды, и в день объявления войны все. не задумываясь, отказались от своих убеждений; социалист-интернационалист окончательно выбросил за борт свой идеал братства народов, а либерал — свою любовь к свободе: тот и другой обрели в лице сабли нового бога. Столь же беспринципным оказалось, с другой стороны, и консервативное прусское правительство: все то, с чем оно раньше упорно боролось как с разрушительной тенденцией, оно стало теперь поощрять, превратив свои лагеря для военнопленных в очаги революции. Оно, поднявшее меч за идею легитимности австрийской династии, вступило в связь с ирландскими {118} националистами; это правительство, правительство бронированного кулака, внезапно нашло ранее неведомых мирных союзников; оно, провозгласившее официальным поводом к войне опасность возникновения великосербского центра на границах Австрии, создало для самого себя такую же опасность после того, как оно объявило независимость сеймовой Польши, рассчитывая таким образом преодолеть временные затруднения.
Такого же точно отречения от всех наших убеждений требовали от нас, и, к сожалению, неоднократно: до 5-го ноября считалось, например, недозволенным говорить о Польском государстве; после этой даты столь же недозволено было нападать на него (ныне, думается мне, к Польше приходится относиться опять-таки с недоверием). План войны, построенный на принципе взятия врага измором, считался сперва приемлемым лишь с точки зрения народа, слишком трусливого для открытого боя. Со времени применения подводных лодок этот способ ведения войны признан наилучшим и наиблагороднейшим! — Перечень подобных мнений легко мог бы быть увеличен. Кто возьмет на себя труд просмотреть выпущенные с начала войны официальные бюллетени, тот найдет сотни случаев, когда правительство сегодня повелевало убивать, чтобы завтра по тому же поводу требовать милосердия1. Всякому же, кто не участвовал во всех этих махинациях правительства и, например, повторял вслед за канцлером его заявление о беззаконии вторжения германских войск в Бельгию, тому как мне, приходится подвергаться грубейшим оскорблениям и носить арестантское платье!
Впрочем, взгляды меняются не только во времени, но и в пространстве. То, что происходит внутри Германии, — принципиально иное, чем то, что происходит за ее границами. Панславизм и пангерманизм считаются столь же несравнимыми друг с другом, как с колониальными притязаниями Британской империи. Любовь к спорным местностям старой Лотарингии преступна в устах французов, но является аксиомой для Германии. Итальянская ирредента, относительно которой в 1866 году в государствах Центральной Европы обязаны были мыслить различно, в настоящее {119} время всюду объявлена нелегальной и представляет собой, во всяком случае, нечто совершенно иное, чем борьба немцев в Чехии (насчет этой борьбы можно, разумеется, быть разного мнения, смотря по тому, является ли рассуждающий рабом Гогенцоллернов или Габсбургов). Подобное различие приходится делать во всем: летчики с бомбами над Лондоном нечто совершенно иное, чем такие же летчики над Фрейбургом. Солидарность русских с их братьями на Балканах нечто иное, чем германская верность Нибелунгов! Только в одном люди, по-видимому, сходятся: так как Германия объявила договор о нейтралитете Бельгии клочком бумаги, то ожидают и даже требуют, чтобы все последовали этому примеру. А для тех сложных мотивов, в силу которых отдельные народы впутываются в войну, имеется лишь одно объяснение — зависть. В частности, Англия ведет войну якобы потому, что корыстолюбие и торгашество оказались у англичан сильнее чувства справедливости, культурности и кровных связей (так рассуждает Герман Бар), или потому, что Англия вела особую политику с целью захватить в свои руки германскую торговлю (профессор Карл Ратгенс); Францию ввергли в войну ее парламентские деятели, Россию — партия великих князей, Италию — маленькая, но воинственная группа единомышленников д'Аннунцио. Все эти подстрекатели были будто бы, в свою очередь, подкуплены Англией. Можно ли придумать более глупую политическую сплетню? Уверяли даже, будто Вильсон прельстился английским золотом. Я привожу этот факт потому, что он ясно показывает, насколько люди утратили всякую способность к критике; самая глубокая ненависть не могла бы сочинить такого вздора; подобный акт психологически просто немыслим. Вудро Вильсон, представитель одного из могущественнейших в мире государств несомненно (безразлично, с основанием ли, или без основания) считает себя высшим арбитром мира и рассчитывает на то, что будущие поколения будут благословлять его за его деятельность. Неужели же всю гордость сознания такой личной заслуги он решился бы продать за деньги, которыми он даже не смог бы воспользоваться? Средств, чтобы жить безбедно, у него, вероятно, имеется достаточно; значительное же увеличение его собственного капитала вскоре обнаружилось бы, и в этом случае даже груды золота не спасли бы его от всеобщего к нему презрения. Даже тот, кто считает Вильсона подлецом, не поверил бы такой нелепой {120} лжи. И если подобная небылица все-таки получила распространение, то это произошло оттого, что война до крайности ограничила не только стремление к объективности, но и способность людей рассуждать логично.
На такой почве народ, разумеется, легко заражается той манией величия, которая именуется шовинизмом. В Германии это настроение достигло своего апогея. То, что в мирное время было — конечно, не совсем безопасной — забавой немногих — после начала войны превратилось в шаблонное воззрение целого народа; все враги стали сразу плохими людьми, а все соотечественники и даже союзники превратились в рыцарей. Между тем искусственно разогретое антисоциальное настроение, при помощи которого думали порвать связь между народами, продолжало оказывать свое действие внутри собственной нации. Никогда немцы не были так несогласны между собой, как ныне. Более чем когда-либо обострились взаимоотношения между севером и югом Германии, усилился национальный антагонизм, возросли самомнение юнкеров, антисемитизм, заносчивость богачей и ненависть неимущих. Впрочем, среднего уровня немец глубоко убежден в правоте своего дела; он убежден, что увеличение армии и миллиардные военные займы необходимы, что подводная война и вторжение в Бельгию, принудительные работы для подданных вражеских стран и опустошение Северной Франции являются неизбежным результатом войны. Он даже не понимает, что можно быть на этот счет иного мнения, что можно смотреть, например, на его недавнее увлечение союзом с убийцами армян иначе, чем он сам. Между тем в Германии существуют тысячи людей, которым, как некогда венецианскому дожу Лоредано, вовсе не улыбается победа при помощи турецких кулаков.
Впрочем, все это отнюдь не ново. Еще Юм говорил: «Когда наш народ воюет с другим, мы ненавидим последний, называем его жестоким, неверным, несправедливым и грубым; самих же себя и своих союзников мы находим справедливыми, умеренными и мягкими. Наши измены мы приписываем своему уму, нашу жестокость — своей справедливости. Одним словом, каждый недостаток свой мы стараемся затушевать или удостаиваем его наименования той добродетели, которая является его контрастом».— Это было написано 200 лет тому назад. Но хотя в настоящее время у народов имеется больше возможностей {121} узнать друг друга, чем прежде, тем не менее в этом вопросе, по-видимому, все осталось без изменения. Разница лишь в том, что уже нет Юма, который смеялся над этим, и не существует Георга III, который назначил насмешника помощником статс-секретаря. Какой наивностью дышали, особенно в начале войны, официальные сообщения о неприятельских армиях. Говорили, что английская армия набирается исключительно из всякого сброда, что она занимается спортом, что в лучшем случае она сможет «побить рекорд в скорости бегства»; говорили, что французская армия состоит из детей и старцев, марширующих в рваных лакированных ботинках. Утверждали, что русские, и в еще большей мере сербы, совершенно деморализованы и почитают за счастье попасть в плен к немцам или австрийцам. Согласно сведениям немецких газет, бельгийская армия состоит будто бы из одних только добровольцев. При наличии такого грандиозного сознательного введения людей в заблуждение мы имеем полное право говорить о массовом психозе. В начале войны А. Молль посвятил выяснению этого вопроса особую статью, где он указывает как на всем известный факт, что в периоды всеобщего возбуждения свидетели, полагающие, что они говорят правду, на самом деле лгут. Он утверждает, что страх пред войной, вызываемая и подогреваемая правительством ненависть к нарушителям мира, желание быть полезным отечеству и еще многое другое в том же роде должны влиять на людей самым роковым образом; кроме того, он приводит, сам того не замечая, еще одно доказательство такого, по-видимому неизбежного, массового внушения: все перечисленные им вредные последствия войны он обнаруживает только у врагов Германии. Правда, Альберт Молль подчеркивает, что подписавшие акт бельгийской следственной комиссии, очевидно, еще не снискали себе славы в области оценки свидетельских показаний, и намекает на то, что он сам кое-что в этом смыслит. Но он может успокоиться: никто не употребит отмечаемого им факта ему во вред и не станет уверять, что он сознательно ошибся. Его самого придется причислить к тем, «которые думают, что они говорят правду», хотя на самом деле они распространяют нечто, «не соответствующее действительности». Военный гипноз ужасен, и никого нельзя упрекать за то, что он лжет вместе с другими. Не следовало бы только рекомендовать предаваться без удержу подобному увлечению ложью. {122}
Разумеется, с самого начала нужно признать, что ложь часто бывает полезна единичной личности; благодаря лжи она может порой удержаться на такой позиции, с которой она вынуждена была бы сойти, если бы опиралась на правду. Но целесообразно ли подобное удержание позиции? В некоторых случаях несомненно. Если отдельная личность (или отдельный народ) переживает кризис и я знаю, что после исчезновения данных ненормальных условий она вновь заживет вполне нормально, я, пожалуй, вправе, по общечеловеческим соображениям, помочь ей посредством лжи. Известно, что врачи широко пользуются этим правом; но совершенно ясно, что тут должен играть роль какой-нибудь не личный интерес Кто лжет в своих собственных интересах, того нельзя назвать благородным лжецом. Так и наше правительство, признавая себя врачом опытным, считает своим правом лгать народу. С этой точки зрения оно всегда, особенно в военное время, старалось отстаивать официальный способ осведомления Постоянно повторялось, что мы находимся в исключительном положении, носящем характер кризиса, который мы, по техническому выражению, должны изжить. При таких условиях правительство имеет-де полное право считать ложь дозволенной. Полагали, что народ проявит большую стойкость, если он не будет иметь представления об истинном положении вещей, почему правительство и находит целесообразным скрывать правду. Следовательно, война приучает ко лжи. Но тут отпадает всякое моральное оправдание: лгут исключительно в своих собственных интересах и в интересах своего народа.
Такой деморализующий результат войны сильнее всего сказывается среди остающегося в тылу и не участвующего непосредственно в военных действиях гражданского населения. Для солдата все это менее вредно. С имеющимися налицо фактами приходится считаться реальным, а потому и более или менее сознательным, образом. Наблюдая, как умирает противник на поле битвы, фронтовик научается уважать его. Пусть он считает себя и своих (это так и должно быть) лучшими воинами, чем врага, но трудность борьбы заставляет его не слишком низко оценивать этого врага. Пока у нас в тылу все еще продолжали издеваться над противником, стали поступать первые известия с фронта: о ловкости, проявленной русскими в окопной, позиционной войне, об их во многих отношениях образцовом {123} снаряжении, о той отваге, с которою эти «московские герои» исполняли свой долг, о доблести французов, о презрении к смерти и упорстве англичан, о героизме сербов. Но в то время как солдат справедливо оценивал противника, торчавшие в тылу газетные писаки, сумевшие забронировать себя и свое имущество, спокойно орудовали языком или, вернее, чернилами и типографской краской, не задумываясь над тем, что унижая врага, они умаляют победу собственной родины.
Я слишком мало знаком с иноземной прессой, чтобы сказать, на чьей стороне эта кампания лжи, в которой каждый народ охотно уступает пальму первенства своему противнику, велась ожесточеннее. По-видимому, чрезмерные нелепости не появлялись в германской прессе, потому что она подвергалась очень строгому контролю. Зато, думается мне, она успешнее других обрабатывалась по определенному плану; сделать это было легко именно потому, что она тщательно контролировалась и была наиболее послушной прессой. Однако ужасна была эта кампания лжи повсюду. И хотя газетный сотрудник «воюет только на бумаге», все-таки нельзя не отметить, что газеты 1914—1915 годов приложили величайшие усилия к поощрению ненависти и мести. Больше, чем сама война, они разжигали злобу наивных обывателей. Это нехорошо для Германии, которой так хочется быть сердцем мира. Она могла бы им быть, но сердце мира должно уметь любить.
§ 26. Переоценка нравственности. Самым ужасным свойством «военной» лжи является то, что она постепенно усиливается и, передаваясь с одной стороны другой, превращается в истину.
Допустим, что пьяный ирокез убивает в тылу пленного могикана1. Если бы об этом никто ничего не узнал, дело было бы кончено; но если только весть об этом распространится среди могикан или если только среди них распространится подобный слух о никогда не имевшем места случае, то могикане несомненно умертвят трех первых попавших к ним в плен ирокезов. {124} В ответ на это ирокезы, охваченные чувством «справедливой мести», начнут убивать всех пленных Следовательно, благодаря гласности единичный случай превращается в общее явление, и таким именно образом еще в 1914 году тенденциозные сообщения распространяли всякие мерзости. Так ложь стала воспитывать бесчеловечность.
Это было и должно было быть. Допустим, что честный немец отправился на фронт, будучи преисполнен рыцарских чувств. И вот он узнает из своей военной газеты, что неприятель отчасти убивает беззащитных женщин, стариков и детей, отчасти насилует их, отчасти гонит их впереди себя, чтобы защититься от германских пуль. Затем он слышит, что команды подвергающих себя большой опасности неприятельских минных заградителей состоят из немецких военнопленных или, как сообщала главная квартира в мае 1915 года, что французы во время окопных работ выстраивают впереди цепи германских военнопленных, чтобы оградить себя от нападения со стороны немцев. Далее, его уверяют, что тюркосы хранят в своих ранцах «на память о войне» отрезанные головы немецких солдат, что русские отрубают немецким детям руки, что бельгийские девушки выкалывают нашим солдатам глаза, что английские войска морят голодом немецких женщин и детей, что сербы — убийцы из-за угла, что черногорцы — воры, что итальянцы — бессовестные мерзавцы, а японцы — полуобезьяны. Наши газеты не находят достаточно сильных ругательств, чтобы клеймить противника. Старый анекдот о том унтер-офицере, который извинился перед носорогом за то, что недавно сравнил с ним одного из своих подчиненных, продолжает жить не только в повседневной немецкой прессе, что было бы не столь важно (в одной из газет можно было недавно прочесть, что оскорблением для немецкой свиньи является применение этого прозвища к русским и французам), но и в речах германских профессоров. Профессор Эйкен пишет, что называть англичан подлыми фарисеями значит оскорблять фарисеев. Л. Дейгардт придерживается даже того взгляда, что сравнение Эдуарда VII с Мефистофелем — оскорбительно для Гете (почему именно для Гете, это — вопрос, который следовало бы рассмотреть в главе о влиянии войны на интеллект). Кто встречает такие и еще худшие вещи ежедневно в газетах и в речах наших немецких профессоров, тот, хотя бы по своей натуре он был добрейшим человеком, должен неминуемо прийти к {125} убеждению, что все человечество — за исключением жителей Германской империи, Австро-Венгерской монархии, Турции и турецко-татарской Болгарии1 — испорчено до мозга костей и что наши противники не люди, а звери. Но тот, кто так мыслит, уже не может уважать достоинство человека и тем самым теряет базу своей собственной нравственности.
Приведенный пример был, конечно, фиктивным: германский народ, как и всякий другой, в своей совокупности отнюдь не состоит исключительно из чистых и нравственно совершенных натур. Но этот пример должен показать, как даже высоконравственный человек неизбежно дичает благодаря настоящей войне. К сожалению, подобное одичание собственного народа является отчасти сознательной целью прессы; напр., военный корреспондент штеттинской газеты пишет, что он сообщает о всех зверствах для того, чтобы исчезло «пресловутое немецкое сострадание». Равным образом правительство проповедует ненависть к иностранцам и пытается внушить ее даже детям. Так, например, во Франкфурте-на-Одере инспекторами народных школ было получено официальное предписание «не допускать никаких разговоров о будущем взаимном примирении культурных народов». Очевидно, Германию стремятся превратить не только в экономически, но и в духовно замкнутое государство.
Является ли это действительно желанной целью? Разве не прав Г. Н. Брайлсфорд, заявивший в середине сентября 1914 года, что небылицы о жестокостях неприятеля вызывают лишь жажду мщения? С течением времени они создадут такую Европу, в которой для чувств братства и человечности в конечном счете не останется никакого места. Не прав ли также Вильгельм Ферстер, еще в 1910 году2 писавший о том, что отравление человеческой фантазии путем распространения ложных сообщений грозит выродиться в одно из величайших несчастий культурного мира? Годы войны подтвердили правильность взглядов обоих названных лиц, и в настоящее время многие начинают это сознавать. Но всякий, не протестовавший против лжи с самого первого дня {126} войны, является преступником, ибо его авторитет способствовал подрыву европейской нравственности.
Неужели только стремлению к сохранению внутреннего спокойствия в стране следует приписать то обстоятельство, что почти никто не протестовал против подобной лжи в печати и не сказал: «Нам стыдно, что существуют немецкие газеты, что существуют в нашей среде официальные и неофициальные лица, которые осмелились “служить” своей родине, пользуясь такими гнусными средствами?» — Независимо от впечатления, произведенного на неприятелей и на нейтральные страны небылицами немецкой прессы, разве никто не подумал о том, как подействуют они на нравственность нашего народа?
В свое оправдание говорят, что при этом имелось в виду укрепить бодрость народа. Но это было совершенно бесцельно; инициаторы клеветнической кампании должны были бы давным-давно понять, что этим путем и сопротивление противника будет усилено. Таким образом, взаимоотношения враждующих сторон не изменились, и абсолютно излишним результатом всей этой инсценировки настроений явились взаимная ненависть и беспредельное презрение друг к другу.
Некий Ганс Флерке из Мюнхена задался даже целью опубликовать «документы ненависти». Потерпевшей же стороной оказался германский народ Так как его пресса и его правительство не сумели сдержать себя, то он теперь во всем мире именуется варварским. И если этот эпитет пока еще неприложим ко всему немецкому народу, то, к сожалению, приходится констатировать, что за последние три года мы, во всяком случае, сильно одичали.
В настоящее время, к счастью, покончено со всеми этими гнусностями. Могут задать вопрос, зачем же я теперь вновь перебираю все эти старые, полузабытые эпизоды. Однако человеку присуще любопытное свойство —. в недрах его души оседает конечный вывод из ряда единичных переживаний и продолжает там жить, несмотря на то что человек, быть может, уже давно забыл суть дела или даже признал свои заблуждения1. {127} Поэтому мне казалось, что я вправе и обязан напомнить об этом прошлом. Мне хотелось сказать: посмотрите, вот каковы были причины, разжигавшие в нас ненависть; вы видите, эти причины были неправильны, и теперь вы сами в них не верите. Разве вы не готовы сделать теперь единственно достойное логически мыслящего человека заключение и отказаться от своей ненависти? Неужели вы не желаете иметь мужество мыслить? Поверьте, тот, кто мыслит, может, пожалуй, ненавидеть человеческие установления, но отнюдь не людей.
В одинаковой степени деморализующе действуют и попытки свалить с себя и переложить на другие народы вину за войну. Вполне естественно, что никто не желает быть виновником войны. Но, в конце концов, из 26 «суверенных» европейских государств 16 (62%) определенно втянуты в войну или имеют к ней непосредственное отношение; из 450 млн так наз. европейцев вовлечено в войну 390 млн, т. е. 87%, и только незначительные остатки стран Европы «миролюбиво сосредоточили» свои армии около границ. Но пока еще не одержана победа и нет возможности оправдать этой победой свою инициативу в деле провоцирования войны, никому не интересно принимать на себя какую бы то ни было ответственность за скандальное натравливание друг на друга всех этих миллионов людей, а потому, чтобы доказать свою невиновность, каждый народ продолжает эту травлю. Весь указанный спор можно было бы, пожалуй, считать несущественным. Ведь не народы начали войну, а дипломаты, и потому, быть может, даже хорошее предзнаменование заключается в том, что народы, сознающие свою невиновность, упорно доискиваются настоящего виновника войны. Между тем народы вовсе не так неповинны, потому что в условиях настоящего времени всякий народ несет ответственность за свое правительство. Но весь ужас в том, что народ, отрицающий свою долю ответственности за войну, ничего не предпринимает, чтобы противодействовать ей. Каждый народ убежден и серьезно убежден в том, что другой народ дерзко напал на него и впредь будет так поступать; следовательно, он и в дальнейшем будет думать, что для предотвращения войн необходимо увеличивать вооружение и, в видах предосторожности, не доверять братским народам. Таким {128} образом, в этом отношении (как и во всех других отношениях) война укрепляет антисоциальный уклон народной психики.
Лишь тогда, когда каждый человек и каждый народ примет на себя выпадающую на него долю виновности, лишь тогда, когда грехи этой войны, добровольно или по необходимости, будут искуплены, может наступить улучшение общего положения Европы. Прежде всего для этого необходимо, конечно, чтобы отдельные народы перестали, как это они делали до сих пор, валить вину друг на друга. Ужасное притупление чувства ответственности исчезло бы само собой, если бы был создан авторитетный общеевропейский орган; ведь всякая ответственность перед лицом всего мира сама по себе воспитывает в людях чувство ответственности. Ибсен выразил эту мысль красиво, ясно и определенно словами: «свобода и ответственность!» Свобода и ответственность означают основу, критерий и неизбежные пределы всякой нравственности; если же, как это наблюдается ныне, уничтожается всякая мера ответственности и провозглашается лозунг, что «на войне, в конце концов, все дозволено», то тем самым устраняется самая возможность проявления нравственности и одновременно ухудшается и удаляется от своего прямого назначения тип человека.
§ 27. Переоценка искусства. Поклонники войны, по-видимому, особенно высоко ценят ее влияние на искусство, заявляя, что война способствует расцвету искусства, науки и добродетели. В. Рюстов1, например, отводит здесь искусству первое место.
Впрочем, и менее ярые адепты войны часто утверждают, будто война и искусство — родственные плоды деятельности человеческого духа. Великим полководцам присущи, конечно, интеллигентность и сила воли, но в конечном счете у них все сводится к интуитивной оценке положения в целом. Это, по существу, несомненно указывает на родство с искусством. На Ганнибала, Фридриха II и Наполеона постоянно смотрели как на художников, а на сражения, которые они давали, как на художественные произведения. Безусловно, в основе этого взгляда лежит правильная мысль, и о связи «военного искусства» с искусством вообще можно было бы сказать многое. Кроме того, не следует также забывать, что именно художественно одаренные и поклоняющиеся {129} красоте люди нередко ощущают величие военных подвигов столь интенсивно, что это ощущение они переносят на войну вообще. Но подобная переоценка нравственных и интеллектуальных воззрений под влиянием эстетических переживаний нас здесь не интересует. Мы хотим познакомиться с влиянием войны. В этом отношении вопрос идет лишь о том, повлияла ли война на художественное творчество и его формы в положительном или в отрицательном смысле, а также правильно ли (за последнее время это утверждалось особенно часто), что искусство восприняло от войны ряд плодотворных импульсов. В прежнее время никто не верил в возможность оплодотворения муз Марсом. Полагали, что шум битв отпугивает муз, и только в щедро оплаченных одах некоторых придворных поэтов делались попытки сблизить Марса с музами. Некоторая перемена в этом направлении произошла лишь в XIX веке.
Решающее значение имел здесь труд Эриха Шмидта, пытавшегося доказать, что плохо говоривший по-немецки Фридрих II и его Семилетняя война создали немецкую литературу. Этот взгляд встретил слабый отпор со стороны историков и критиков и быстро проник в школы. Поэтому современное поколение Германии очень серьезно верит в то, что и художественные достижения выявляются на полях битвы. Это немецкое воззрение определенно повлияло на взгляды всего мира.
По вопросу о влиянии войны на поэзию мы выскажемся в другом месте. Здесь мы ограничимся несколькими словами об изобразительном искусстве, которым в настоящую войну так часто пользовались для милитаристической пропаганды. Этим мы собираемся, конечно, не столько внести нечто новое в историю искусства, сколько осветить вопросы психологии войны.
Пока происходили отдельные военные стычки, например, в древности, в средние века и вплоть до нового времени битва представляла ряд художественных проблем: гигантомахия, бои Александра Македонского, Константина Великого и т.п.— несомненно художественные произведения, сохраняющие свою ценность, независимо от своего предмета. Еще в эпоху великих фламандцев при изображении отдельных боев главное внимание уделялось фигурам воинов и изящным телодвижениям последних. Громкую славу «баталиста» снискал себе тогда изобразитель животных Вуверманс, для которого батальная картина была удобным случаем поместить на видном месте белого коня, в то {130} время как другие художники в своих картинах из солдатской жизни стремились, главным образом, оттенить красивую одежду ландскнехтов. В те времена писали битвы точно так же, как и все другие живописные сцены. Но изображения современных битв одинаково претят как взору, так и душе зрителя, и одни лишь придворные живописцы пишут, по заказу великих и малых государей, те сотни тысяч полотен, окутанных пороховым дымом, которые, к ужасу директоров картинных галерей, красуются на стенах казенных музеев.
Баталисты обратились к отдельному эпизоду, воплощая его в форме панорамы, ставшей наиболее полным выражением этого набросанного на холст воинственного воодушевления. Однако этот жанр не дал много ценного. В большинстве случаев здесь чувствуется, за весьма малыми исключениями, что картина написана не ради самой себя, а ради предписанного художнику сюжета.
Если даже допустить, что единичные крупные художественные авторитеты интересовались отдельными великими полководцами (Наполеоном — Орас Берне и Мейсонье, Фридрихом II — Менцель), то это все-таки ничего не меняет в том факте, что искусство не обязано войне ничем таким, что, по крайней мере, отчасти можно было бы сравнить с тем, чем оно обязано культуре, любви, восхищению природой. Сказанное сохраняет свою силу даже в косвенном направлении: великие баталисты и пацифисты, вроде русского художника Верещагина и бельгийца Вурца, рисовавшие ужасы войны с потрясающею реальностью, чтобы вызвать отвращение к войне, не были мастерами в области техники. Их картины представляются нам скорее иллюстрациями к определенной программе, чем плодом творческой фантазии. Великое создали только те, кто непосредственно служил идее мира. Таковыми были до сих пор только христианские мастера. Мы все еще ждем художника, воплотителя идеи мира, который не был бы связан с какой-либо религией. В некотором смысле сюда можно отнести творца «Памятника труду» Менье.
Не случайно, что во все времена сооружались красивые общественные здания, но всегда безобразные казармы. Не случайно, что солдатская палатка всецело напоминает примитивное жилище первобытного человека, в то время как архитектура жилых домов всюду создала шедевры искусства; что жизнь и творчество представителей всех профессий привлекают {131} к себе внимание художников, тогда как жизнь военных до сих пор чужда искусству. Все это не случайность, а лишь выражение инстинктивно воспринятой и громко провозглашенной всеми человеческими поколениями истины. Марс является непримиримейшим врагом муз. Между тем в настоящее время пытаются устранить этот многотысячелетний контраст, и ныне, когда вся жизнь отдана на служение богу войны, люди стремятся посвятить ему также искусство. Но, по-видимому, патриотическими заклинаниями не соблазнить и собаки, не говоря уже о гениальном художнике!
Как известно, с самого начала войны на фронт было отправлено множество фотографов и кинооператоров; высшие военачальники рассчитывали продемонстрировать в кино свои победы раньше, чем они были одержаны. Но, как и многое другое, кино вызвало разочарование. Вскоре ошибка, допущенная при разрешении фотографировать поля битв, была понята; для того чтобы придать желательное оживление этим «оголенным полям битв», воспользовались услугами художников-живописцев. Благодаря умелым инструкциям и строгой цензуре удалось достичь того, что рисунки господ художников в смысле их соответствия патриотическим притязаниям оказались значительно лучше снимков господ фотографов. Впрочем, лишь немногие картины командированных на фронт художников превзошли прежние фотографии в художественном отношении. Этот печальный результат доказывает, по меньшей мере, то, что война может повысить патриотическую, но отнюдь не художественную ценность живописи; впрочем, это, в свою очередь, может быть оценено различно, смотря по тем требованиям, которые тот или иной критик предъявляет к искусству.
А между тем художникам на сей раз действительно удалось присмотреться к войне: они имели доступ к самым передовым позициям, в их распоряжение были предоставлены автомобили, им показывали окровавленные тела погибших воинов и павших лошадей, солдат, замерзших в Карпатах, утопленников из Мазурских озер. Они наблюдали, как производилась стрельба из знаменитых гигантских мортир и еще более знаменитых 42-дюймовых орудий. Несмотря на все свои заботы, Гинденбург и Макензен находили время позировать им. Словом, от них не было скрыто ничего из того прекрасного и великого, что только может дать война А что оказалось в результате? Нуль или, в {132} лучшем случае, следы некоторой растерянности и отрезвления среди лучших художников.
§ 28. Добровольцы и война. Если мы беспристрастно взглянем на факты, приведенные в этой главе, то обнаружим могучее влияние войны на всю нашу жизнь. Верно, что война переоценивает все наши представления об истине, добре и красоте, но не думаю, чтобы можно было сказать, что она возвышает. Показательна в этом отношении партизанская война: нигде эта двойная истина, двойная мораль и двойное эстетическое влияние не бросаются так резко в глаза, как именно тут. Историки, моралисты и художники во всех странах и во все времена единодушно венчали громкой славой тех воинов, которые добровольно противопоставляли врагу свою обнаженную грудь, если это были их соотечественники, и столь же единодушно осуждали и клеймили их как бандитов и разбойников, если то были неприятели. Еще в недавнем прошлом Пруссия отстаивала народную партизанскую войну в тех случаях, где таковая могла ей пригодиться. Кто но помнит знаменитой ноты, врученной прусским посланником графом Узедомом 19 июня 1866 года во Флоренции? Он рекомендовал организовать в Венеции, под руководством Гарибальди, народную войну и отправить в Венгрию летучий отряд, который должен был усилиться за счет национальных элементов этой страны. Последнюю часть плана действительно пытались осуществить путем оказания поддержки венгерскому революционеру Клепке, бежавшему в Нейссе. И в последнее время стремились натравить фламандцев на валлонов, поляков и украинцев на русских, ирладцев на англосаксов, индусов, входящих в состав Великобританской империи, на Антанту, — следовательно, открыто проповедывали революцию и охотно пользовались «реальной помощью» туземного населения, а порой даже восхваляли ее официально. Было бы несправедливо и излишне ставить это в вину прусской короне: апеллировать к народу всегда дозволено. Но кто хочет быть объективным, тот должен сознаться, что все то, что справедливо по отношению к немцам, должно быть таковым и по отношению к французам и бельгийцам. Однако партизаны постоянно именуются у нас гнусными отбросами человеческого общества. Так, например, германский император сообщил однажды президенту Соединенных Штатов, что ему приходится «прибегать в оккупированных областях к крайним мерам, чтобы {133} укротить кровожадное население и удержать его от дальнейших предательств и гнусностей». Между тем еще вопрос, не следует ли нам, при своеобразной системе обороны в Бельгии (где всякий гражданин в возрасте от 20 до 40 лет входит в состав «милиции», хранит свое оружие у себя на дому и официально носит вместо формы значок), рассматривать тамошних «защитников отечества» как регулярные войска. А затем, положа руку на сердце, кто из немцев стал бы считать отбросами общества восточно-прусских крестьян, которые, при вторжении русских в их страну, вздумали бы схватить свои ржавые ружья и защищать свою деревню?
Между тем и в этом случае солдат, в конце концов один только и подверженный выстрелам партизан, судит гораздо беспристрастнее. В то время как Герберт Эйленберг1, мнимый интеллигент, именующий себя «представителем современной германской интеллигенции», позволяет себе в своем ответе Ромену Роллану сказать следующее: «Бельгийцы, подобно парижским апашам, палят во врага, и фландрский лев не должен был бы иметь ничего общего с этими шакалами»; в то время как Макс Гохдорф2, бывший эстет, сводит партизанскую войну к алкоголизму и религиозному фанатизму бельгийских крестьян, — один австрийский офицер пишет в «Армейской газете», что «последний неприятельский партизан, в неверно понимаемом, но глубоко патриотическом порыве стреляющий из засады в немцев, зная, что последние его за это повесят и даже подожгут всю его деревню, стоит значительно выше того газетного борзописца, который извергает трескучие, но ничего не стоящие фразы, не борясь с врагом, а лишь оплевывая его».
Безобразно именно такое надругательство над Бельгией. Она повергнута во прах и не может обороняться. Пресса ее подавлена, граждане ее, поскольку они находятся еще на родине, вынуждены молчать, ее архивы перерыты завоевателем. В настоящее время мы, пожалуй, уже не требуем от победителя великодушия; к чему же еще глумиться над беззащитной страной? Еще Цезарь сказал жестокому царю Птоломею, велевшему умертвить Помпея и вдобавок пожелавшего его очернить: {134} «Довольно! Пусть ваша ненависть, залитая его кровью, удовлетворится этим, не затрагивая его славы. С вас достаточно того, что он умер» (Корнель: «Смерть Помпея», 1642.)
§ 29. Влияние войны на человечество и народы. Война, несомненно, не является фактором в общечеловеческой борьбе за существование; война нисколько не содействует ни благосостоянию человечества, ни его уюту, ни его умственной и физической культуре. Каждое собранное зерно ржи, каждая вновь изобретенная лампа, каждый новый метод производства, рассчитанный на сбережение сил, словом, все то, чего добиваются, ради блага людей, в жизненной борьбе человеческий труд или человеческое дарование, полезны для человеческого коллектива. Ведь каждое зерно служит человеку пищей, каждая лампа освещает его жилище и всякое улучшение в конструкции машины увеличивает его досуг, необходимый для культурной работы. Между тем война не создает материальных ценностей. Быть может, подобно тому как уличный грабеж выгоден единичной личности, так и война доставляет отдельному народу какие-нибудь жизненные плюсы, приобрести которые при помощи труда он неспособен. Но такие случаи редки. Обычно же на долю победителя приходится в лучшем случае только такое количество благополучия, какое теряет побежденный в результате своей работы. В лучшем случае, следовательно, война может переместить счастье, но не умножить его, не говоря уже о том, что при этом выигрывает менее пригодный для работы, но сильнейший, а проигрывает более трудоспособный, но слабейший.
В действительности итог войны оказывается еще более печальным, так как война разрушает материальные ценности: снарядами повреждаются здания, уничтожаются посевы, убиваются люди, причем ничего реального взамен не создается. {135} Поэтому, после всех перемещений счастья, общий результат получается отрицательный, хотя бы отдельные лица и сказочно разбогатели благодаря войне. Отсюда следует, что зря потраченной энергией является не только сама война, но и всякая направленная в ее сторону работа. При этом надо принять еще во внимание то обстоятельство, что, производя полезное, мы даем другим возможность отдохнуть, уничтожая же полезное, мы ставим других в необходимость исправлять разрушенное. Однако те немногие, которые «остаются в барышах» и которые в большинстве случаев одновременно решают вопросы войны, очень редко бывают заинтересованы в предотвращении войны, так как даже в войне, требующей крупных жертв, они едва ли чем-либо рискуют. Эти люди зарабатывают во всяком случае, именно они и затевают войны. Трюизм — слова Бисмарка: «Большинство обычно не проявляет склонности к войне; война поощряется меньшинством, а в монархических странах государями или их министрами». Важно, что это сказал Бисмарк: в приведенных словах ясно выражена мысль, что, если бы всюду выполнялась воля народов, войны исчезли бы навсегда. Эта воля народов играет, конечно, главную роль, ибо в устранении войн заинтересовано все человечество.
Не следует думать, что созываемые различными самодержцами гаагские конференции способны сколько-нибудь удачно разрешить мирные проблемы. Лишь заинтересованный в осуществлении какой-либо идеи в состоянии провести ее в жизнь; а так как только человечество в целом заинтересовано в ликвидации войн, то одно оно в состоянии что-нибудь сделать в этом направлении. Каждый отдельный народ может еще рассчитывать «завоевать» себе при помощи особенно хороших пушек летательных аппаратов или подводных лодок какую-либо выгоду, не являющуюся результатом упорного труда и, следовательно, представляющуюся большинству людей весьма желательной. Но такой расчет, ошибочный или правильный, не может быть предусмотрен заранее, а потому ни один народ не соблазнится им. Для массы расчет ясен как день: в случае возникновения войны она теряет. Когда все человечество окончательно убедится в этом, тогда настанет всеобщий и вечный мир. Мир будет обеспечен не «империей», не «status quo», не «священным союзом» не «европейским равновесием», {136} а исключительно международной демократией. Последней не придется вовсе добиваться мира насильственным путем: если она в один прекрасный день вообще будет осуществлена, то мир станет необходимым условием ее существования.
Трудно сказать, преуспевал ли когда-либо какой-нибудь народ благодаря войне, потому что, при едва ли не беспрерывных войнах и переменном военном счастье, каждому народу удавалось иногда одерживать победы, и его возвышение могло быть приписано этим победам. Во всяком случае, поражает и наводит на размышления тот факт, что единственные из уцелевших с древнейших времен народов — китайцы и евреи — в сущности почти никогда не вели войн, а если им и приходилось воевать, они неизменно терпели поражения. Но с уверенностью можно сказать, что еще ни один народ не исчез с лица Земли благодаря проигранной им войне. Войска завоевателей могут быть уничтожены в чужой неприятельской стране, при известных обстоятельствах, вплоть до последнего человека — такова была участь полчищ Ганнибала и Наполеона, — но это доказывает только бесполезность предшествовавшего поражению завоевания. Также может быть разрушен целый город, а все его жители могут быть перебиты; и если такой город, как, например, Карфаген, раньше возглавлял обширные области, то создается впечатление, будто в данном случае разрушено великое государство. Однако не было еще случая, чтобы весь народ погиб во время войны; это случалось иногда после войны. Разумеется, опустившийся и вымирающий народ проигрывает войны, но, с другой стороны, мы хорошо знаем, что война не является причиной гибели народов. Так, например, индейцы были истреблены не пулями, а водкой и болезнями; гибнут и малайцы, хотя никто их не побеждал. Негры же раса не вымирающая; и хотя они никогда не побеждали — по крайней мере в Америке,— они именно там начинают представлять известную опасность.
Следовательно, в грубейшем смысле этого слова, отбор путем войны, несомненно, не соответствует действительности. Однако некоторые думают, что благодаря победоносной войне народ может достичь таких материальных преимуществ, которые облегчают его дальнейшее существование и тем самым дают ему возможность подняться на высокую ступень культурного развития. {137}
В прежние времена войны, конечно, были прибыльны: на средней ступени культурного развития дикарь, одержав победу, мог получить все, в чем он нуждался. На возделанных врагом полях он мог собрать готовую жатву; отобранный у неприятеля скот давал ему пищу и одежду; пленные, которых превращали в рабов, были тоже желанной добычей. Позже накопленные запасы всякого добра или серебряный и золотой фонд делали войну еще более выгодной. Следовательно, пока богатство народов исключительно или большей частью состояло из накопленных запасов и могло быть просто унесено, до тех пор война была делом стоящим и сулила завидные шансы предприимчивым, мужественным и сильным народам и их вождям. Но теперь в основе богатства отдельных лиц и народов лежит, главным образом, их кредитоспособность (т. е. значение их подписи на векселе), другими словами, нечто такое, что нельзя ни захватить, ни унести; поэтому ныне бесчестный грабеж становится делом столь же ненадежным и неприбыльным, сколь в первобытные времена таковым был честный труд. Основываясь именно на этой утилитарной точке зрения, трезвые англичане уже давно признали войну убыточной. Так например, еще в 1826 году экономист Т. Купер1 восставал против усиления военного флота (большинство его соотечественников, как тогда, так и позже, считали такое усиление крайне необходимым), ссылаясь на то, что «еще ни одна морская война не оправдала вызванных ею расходов». Недавно Норман Энджел2 с ничем не прикрываемой резкостью и блестящим остроумием разоблачил деловую сторону данного вопроса, сторону, которая постоянно заглушалась всевозможными воинственными и пацифистскими выкриками. Трудно, впрочем, установить, безусловно ли справедлива его мысль о невыгодности всякой войны. Пожалуй, надо признать, что (по крайней мере, в частной жизни) эксплуатация все еще очень прибыльна: крупные предприниматели и землевладельцы зарабатывают всюду колоссальные деньги, заставляя работать тысячи подчиненных им людей; многие «чиновники» нередко грабят население еще по старому, примитивному способу. Но то, что может сделать единичная {138} личность, в конце концов доступно и крупным коллективам. Следовательно, в этом отношении вопрос заключается лишь в том, пригодна ли война для подобного обогащения.
§ 30. Убыточность современной войны. С точки зрения чистой наживы война, несомненно, не представляется приемлемым средством обогащения, а при огромных размерах основного капитала, требуемого войной, в настоящее время даже победителю не приходится рассчитывать на то, что он когда-либо вернет израсходованные на нее суммы. Если принять во внимание только непосредственные расходы на армию и флот, а также убыль полезного труда, связанную с ежегодным привлечением на военную службу новобранцев, получится, что с 1870 года Германия истратила на подготовку войны и саму войну такую сумму, которая, будучи капитализирована, составила бы сейчас примерно 200 миллиардов. Таких огромных сумм не вернуть ни посредством контрибуции, ни при помощи военных возмещений, ни путем ежегодных взносов побежденных; чтобы собрать подобные суммы, пришлось бы затратить новые миллионы на содержание армий, предназначенных для их взыскания. Само собою разумеется, что оккупация неприятельской территории не представляет должной выгоды, так как при этом не посягают на частную собственность, чего теперь не рискнуло бы, да и не смогло бы сделать ни одно государство, и не собираются налагать секвестр на капиталы английских банков. Впрочем, это было бы совершенно бесполезно, так как там не нашлось бы особенно много ценностей; ведь, как уже было упомянуто, богатство государств зиждется на их кредите.
Пожалуй, могут возразить: когда бедный народ оккупирует богатую страну, то выгода бедного народа сказывается в том, что усиленные подати, взимаемые с вновь приобретенной области, облегчают бремя плательщиков, живущих на территории победоносного народа.
Но, допуская даже наиболее широкие перспективы и предполагая (теперь, конечно, решительно никто не признал бы это возможным), что в настоящую войну 68 млн немцев (платящих в среднем налогов на 40 марок в год каждый) подчинят себе 12 млн неприятелей, которых заставили бы платить налоги по 60 марок в год нетрудно высчитать, что на деле мы сэкономили бы на душу по 2 марки 79 пфеннигов. Но так как для достижения подобного результата потребовался бы дополнительный налог, {139} по крайней мере, в 100 марок с каждого немца, то оказалось бы, что мы истратили 100 марок на то, чтобы заработать несколько менее трех марок Следовательно, подобная экономия при ближайшем рассмотрении не выдерживает никакой критики.
Словом, война стала делом неприбыльным. Но этот вопрос, по поводу которого Н.Энджел высказал, с натуралистической точки зрения, немало трезвых взглядов, представляет лишь второстепенный интерес. Важнее то, что война и стремление к ней (т. е. милитаризм) поневоле толкают народ на совершенно неправильные пути. Это, естественно, влечет за собой убытки отчасти материального свойства. Возведение укреплений тормозит развитие городов и опустошает обширные участки земли. Благодаря тому, что государство строит шоссейные и железнодорожные пути, руководствуясь соображениями стратегического характера, отпадает возможность рационального использования путей сообщения. Так, например, Фридрих II сознательно не строил в Пруссии шоссейных дорог, потому что не хотел, в случае возникновения войны, облегчить своим врагам доступ внутрь страны1. Равным образом электрификация железных дорог и использование имеющейся в Альпах водяной энергии до сих пор встречает в Германии противодействие со стороны военного ведомства2.
Вследствие того что государство поддерживает только те отрасли промышленности, которые могли бы оказаться полезными в случае войны, труд и энергия миллионов людей растрачиваются на изготовление в сущности никому не нужных вещей. Ясно, что опасение войны побуждает к безрассудному накоплению различных предметов вооружения, вовлекает целые отрасли промышленности в непроизводительную работу и, создавая вечное беспокойство, препятствует свободному развитию всей жизни.
Но оставим в стороне все эти специальные минусы и обратим внимание на тот неоспоримый факт, что всеобщая воинская повинность отрывает приблизительно 4% трудящегося мужского {140} населения на долгое время от его обычной работы и что около 12% общих доходов Германии идут на военные нужды. Отсюда следует, что война даже в мирное время непосредственно поглощает примерно одну шестую часть общей рабочей силы человечества и что она, таким образом, требует больше, чем церковь, которая, как известно, удовлетворялась десятиной. Между тем эту десятину считали разорительной. Что же скажут когда-нибудь об этой одной шестой части (которая, впрочем, вследствие косвенных минусов, сводится, в сущности, к одной трети)? Устранение опасности войны повело бы, следовательно, к тому, что все люди могли бы сократить свою ежедневную работу на 1,5—3 часа, другими словами, соответственно увеличили бы свой досуг. У нас получился бы тогда, в крайнем случае, 7-часовой, а быть может, даже 6-часовой рабочий день. Трудно представить себе, какое огромное значение имело бы это для общего развития человечества. Сокращение рабочего времени повлекло бы за собой повышение интенсивности труда (что опять-таки сберегало бы время), и если бы человек проработал до полудня, то остальную часть дня он мог бы использовать для физического и умственного отдыха и для своего дальнейшего развития.
Уже одни эти суммарные соображения показывают, каким тормозом для материальных и духовных интересов человечества являются факты, сопутствующие охваченной войной Европе.
В течение долгого времени на эти деловые соображения не обращали внимания, потому что ослепленные непосредственными ужасами войны люди в большинстве случаев переоценивали ее «жестокость». Именно вследствие этой мнимой жестокости сентиментальные натуры считали войну несправедливостью (тогда как сильные и мужественные умы усматривали, наоборот, благоприятный симптом в том, что люди приучались к некоторой «здоровой грубости»). Но, помимо того, что сентиментальный (как и грубый) аргумент никогда не бывает хорошим аргументом, жестокость и справедливость вообще не являются контрастами, хотя они и не эквивалентны: когда волк пожирает овцу или человек поедает быка, то это жестоко по отношению к овцам и быкам, но полезно и естественно, поскольку речь идет о волках и людях; но тут нет и намека на справедливость. Чтобы избегнуть жестокости, следовало бы, пожалуй, запретить горное дело и рыбный промысел, подобно тому как запретили изготовление серных спичек; тем не менее это вполне почтенные отрасли {141} труда. Излишняя жестокость, разумеется, неуместна, но иногда она бывает неизбежна, и здесь не в силах помочь никакое преклонение перед справедливостью.
В одной Германии ежегодно умирает около 35000 человек неестественной (насильственной) смертью (т. е. погибших во время работы, покончивших жизнь самоубийством и ставших жертвами преступлений); за 44 истекших мирных года это составляет, следовательно, 1,5 млн смертей. Война (до сих пор, по крайней мере) дала едва ли большее число умерших Итак, с объективной точки зрения война вовсе не так жестока Статистика показывает, что среди железнодорожников, рыбаков, горнорабочих, матросов смерть уносит в общем гораздо больше жизней, чем среди солдат даже в самую ожесточенную войну. Число жертв войны поражает только потому, что они сконцентрированы на коротком промежутке времени. На основании цифровых данных, которых я, правда, не проверял, Н. Энджел констатирует, что за последнее столетие одна только ловля трески потребовала от рыбаков стольких же жертв и страданий, обрекла их почти на такую же одичалость, как и война Наша «мирная» работа в тропических странах выражается в огромном числе человеческих заболеваний, а то, что происходит в Африке или Южной Америке, означает — увы! — такое нравственное огрубение человеческой натуры, что война, по сравнению со всем этим, представляется значительно меньшим злом. Но прежде всего обращает на себя внимание наша современная хозяйственная система: в происходящей на наших глазах экономической борьбе погибает бесконечно больше людей, чем на самой кровопролитной войне.
Если взглянуть на войну с точки зрения интересов всего человечества, то незначительность производимых ею опустошений не может вызвать никаких сомнений. На Земном шаре ежесекундно умирает приблизительно по одному человеку, но даже смертоносная мировая война 1914 года едва смогла увеличить эту цифру, со времени этой войны ежеминутно умирает в среднем 64 (вместо 60) человека1. Таким образом, под влиянием {142} бессознательной сентиментальности мы преувеличиваем число жертв войны. Впрочем, можно возразить, что на войне погибают молодые, полные сил люди. Конечно, это правильно, но вышеприведенная статистика несчастных случаев, согласно которой в Германии ежегодно погибает 35000 жизнеспособных людей, доказывает, что и в этом смысле жестокость войны усугубляется.
Впечатление об относительной безвредности войны становится еще ярче при сравнении числа ее жертв с количеством жертв экономической борьбы. Продолжительность жизни человека исчисляется в 70 лет, и действительно мы видим, что среди лиц, занимающихся безопасными для жизни и достаточно вознаграждаемыми профессиями, среди ученых, пасторов, чиновников, государственных деятелей и т. п., этого возраста достигают очень многие. Между тем средняя продолжительность жизни рабочего не превышает 40 лет. Туберкулез, недостаточное питание и специальные профессиональные болезни сильно и преждевременно сокращают жизнь рабочих В Европе ежегодно умирает около 12 млн человек; это составит за минувшее столетие свыше миллиарда смертей. Так как жители Европы, в связи с преждевременной смертностью среди трудящихся умирают в среднем на 30 лет раньше срока, то, следовательно, последнее столетие в одной лишь Европе похитило таким образом у людей круглым счетом 36 миллиардов лет. Если даже допустить, что за то же время в Европе прямо или косвенно погибло от войны до 30 млн человек, продолжительность жизни которых война сократила в среднем на 20 лет, то, таким образом, война поглотила несколько больше полумиллиарда лет человеческой жизни. Итак, мы видим, что жертвы войны составляют только одну шестидесятую часть жертв экономической борьбы. Имея перед собой эти цифры, право, нельзя признать войну самым жестоким и кровожадным видом борьбы на Земном шаре. И в самом деле, убыль человеческих жизней всегда очень быстро пополнялась: война 1870 года уменьшила рост народонаселения Германии едва заметным образом. Другие, более отдаленные по времени войны, например Тридцатилетняя, оказались гораздо более пагубными вследствие своих косвенных последствий. Однако подобно тому как единичной личности не возбраняется посвящать себя морскому делу и подвергать себя морским опасностям, чтобы со временем обеспечить себе более спокойное и {143} безбедное существование, так, пожалуй, и народы могли бы подвергать себя относительно небольшим опасностям войны, чтобы благодаря этому лучше преуспевать в дальнейшем. Кроме того, некоторая жестокость необходима, а потому и уместна. Жизнь отдельной личности вовсе не настолько важна, чтобы ради этого стоило отказаться от культурных достижений. Неужели мы не должны пользоваться железными дорогами вследствие возможности столкновения поездов или пользоваться автомобилями, потому что неосмотрительные прохожие попадают под них? Кто не радовался прорытию туннеля чрез С.-Готард хотя при этом погибло много рабочих? Кто станет сожалеть о сооружении судов водоизмещением 50000 тонн, хотя подобный исполинский корабль, вроде «Титаника», может потонуть и похоронить в какой-нибудь час тысячи жизней? Было ли возможно завоевание воздуха без того, чтобы сотни и тысячи людей не поплатились за это жизнью? — Таких примеров можно привести множество. Дело в том, что стремление рисковать жизнью врождено нам; даже бесполезный, в сущности, но очень опасный горный спорт привлекает к себе тысячи людей.
И хорошо, что это так Если культуре суждено прогрессировать, то должны существовать добровольно ищущие смерти люди; требуемые войною жертвы не могли бы сами по себе служить основанием к отказу от нее. Если война, как таковая, была бы допустима и законна, то можно было бы не считаться с грудами трупов.
§ 31. Колонизация. В общежитии колонизация представляется чем-то иным, чем оккупация. Оккупируются страны тех, кого, сообразно современным нравам, хотят пощадить1. Между тем колония является новью по крайней мере постольку, поскольку там не стесняются истреблять жителей или держать их в подчиненном положении (рабов). Последний способ колонизации был как раз недавно предложен у нас (Дельбрюк, Африканская Индия), после того как резкое уменьшение рождаемости в Германии показало безнадежность планомерного заселения немцами чужих стран. Здесь мы снова встречаемся с древнейшим законом роста. Все обнаруживает тенденцию расти, даже всякий коллектив; если это встречает естественные {144} преграды, то делается попытка достигнуть этого искусственным путем. Прежде, когда государство представляли одни только монархи, страны наследовались, покупались или получались в виде приданого. Иногда они присоединялись как военная добыча. Все это соответствовало тогдашним понятиям о праве и силе. В настоящее же время полагают, что народ сам по себе величина, имеющая право на существование и, так сказать, сам является своим представителем. В соответствии с этим вышеуказанная тенденция роста выражается в стремлении к тому, чтобы рос народ. Но столь же расплывчато, как и само понятие «народ», его стремление к расширению и росту. Представление о народе покоится на общности территории и происхождения, на общности культуры и языка Смотря по тому, какому из этих факторов отдельная личность приписывает большее значение, она и выдвигает на передний план расширение границ своей страны, рост населения, распространение языка или усиление культуры. Обычно принято думать, что все подобные потребности могут быть удовлетворены посредством приобретения колоний: таким путем увеличивается площадь страны, избыток населения находит для себя достаточно места, а если бы такого избытка и не было, то он возник бы благодаря наличию свободных земель в колониях; там же будто бы распространяется и язык метрополии, а расширенный умственный горизонт населения колоний может только благоприятно повлиять на его культуру, как это видно на примере Америки.
В основе подобных соображений лежит, несомненно, верная мысль. Понятно и полезно желание каждого народа создать для себя новые обиталища: прогресс человечества обусловливается эгоистическим, но законным желанием принять участие в борьбе за мировое владычество.
Хотя эта борьба и явится почти исключительно борьбой культур, но в ней (например, в борьбе за родной язык) все-таки известную роль будет играть количественный элемент: тому, кто захочет вступить в эту борьбу в качестве законного конкурента, придется выставить от себя значительное количество единоплеменников для того, чтобы привить новому народу (если когда-нибудь все нации сольются в единый мировой народ) по крайней мере существенные части своей национальной культуры. Но так как немцы составляют 0,04% всего человечества и им принадлежит {145} лишь 0,003 доля всей поверхности Земного шара, то они вынуждены делать попытки к расселению.
О распространении своей национальности мечтают даже те, кто доподлинно знают, что, вследствие примеси чужих элементов, аннексия приносит только вред собственной национальности или, по меньшей мере, видоизменяет эту национальность, в чем многие опять-таки усматривают нечто вредное.
Разумеется, большинство колоний было приобретено по иным соображениям, и в известной классификации Рошера1, делящего колонии на завоевательные, торговые, аграрные и плантационные, приведенный мотив колонизации вовсе не находит места. Но столь же верно и то, что некоторые из этих колоний (главным образом в Америке, Австралии и Южной Африке) способствовали распространению европейцев, хотя они и не были основаны именно с этой целью. Зато другие европейские колонии (преимущественно вследствие военных методов управления ими) содействовали распространению монголов. Но подобные явления недавнего прошлого не устраняют надежд на будущее. Со спокойной совестью каждый народ может и должен делать попытки к колонизации с целью своего распространения; а так как вся Европа густо заселена, то приходится отправляться на чужбину. Все это столь очевидно, что не требует никаких пояснений. Вопрос лишь в том, является ли завоевание колонии подходящим средством для овладения ею: еще Жорес сказал однажды, что не следует отождествлять владение колонией с колониальным господством. «Ведь весьма часто владеют колонией, в которой не господствуют, и наоборот». Эта разница между владением и господством — бесспорный факт для всякого, знакомого с положением дел в колониях. Особенно ясно сказывается это в Индокитае, той пограничной стране, из-за которой происходит спор между белокожими и монголами. Некогда владельцами и господами тут были малайцы; затем сюда пришли белокожие и захотели эксплуатировать эту страну. Но так как ни они, ни ленивые малайцы работать не желали, то пришлось пригласить китайских кули. С тех пор стремление европейцев к легкой наживе положило начало распространению китайцев, в лице которых пришельцы сами воспитали себе могучих врагов. Французы, {146} англичане и голландцы борются за господство, китаец же работает и постепенно переходит из положения кули в положение владельца. Пока Индокитай принадлежит еще французам, но хозяином и владельцем рисовых плантаций, составляющих главное богатство этой страны, является китаец. Сингапур — английская колония, но местные китайцы уже всемогущи. Когда там собираются строить английские школы, китайцы дают на это деньги, вследствие чего решающая роль в области просвещения принадлежит в Сингапуре им. На Ост-Индском архипелаге развевается голландское знамя, и с китайцами обращаются там порой еще жестоко и бесчеловечно, но влияние их все-таки растет. Мне самому пришлось быть свидетелем такого характерного случая. Китаец и голландец решили учредить торговую компанию. Рядом с высокомерным голландцем китаец со своим позорным видом раба, который предписан ему местным законом, казался мелкой сошкой. Смиренно он заявлял, что никогда не осмелится возразить своему знатному компаньону, но так как ему придется распоряжаться своими деньгами, то он попросил внести в договор пункт, по которому его повелитель вообще лишался права играть какую бы то ни было роль в делах компании. Голландец-нотариус составил соответствующий договор, несомненно, с не особенно радостным чувством, потому что в тех краях ненавидят китайцев. Но. вероятно, иначе поступить он не мог: его земляк был только «знатным господином», в то время как китаец являлся «смиренным владельцем». Китайцы начинают превращаться там в народ, тогда как европейцы остаются только кастою господ.
И у Англии нет настоящих колоний: в тех областях, где она некогда водрузила свое знамя, она господствует только потому, что там живут люди, говорящие по-английски и мыслящие как англичане. В своих колониях великобританская корона властвует только номинально. Зато Англия живет в сердцах своих колонистов, в жилах которых течет английская кровь.
Колонии приобретаются только в том случае, если колонисты в состоянии отстоять свою народность. Англия некогда поступила крайне несправедливо по отношению к Нью-Йорку и Бостону и лишилась поэтому Северной Америки. Теперь она поняла эту ошибку, и Америка, показавшая в свое время английскому владыке кулак, помогает теперь своему очутившемуся в беде {147} брату, быть может, в большей степени и усерднее, чем это было бы, если бы Англия господствовала над Америкой. Америка, в широком смысле этого слова, — английская колония, невзирая на свободный американский стяг, развевающийся над Вашингтоном. Америка — английское владение, потому что и в Америке жива англосаксонская идея. Несправедливо возлагать ответственность за эту симпатию исключительно на гнусное пристрастие янки к наживе. Быть может, и этот мотив играет тут некоторую роль, потому что он сказывается повсюду. Но кто отличается колонизаторским даром и упорной привязанностью к родным нравам и обычаям, тот приобретает колонии, безразлично, путем ли завоевания, подобно Англии, или путем упорного труда, подобно Китаю. Именно эти два примера доказывают, что тут суть дела в характере народа, а не во внешних обстоятельствах. Колоний можно добиться путем насилия и без него; необходимо иметь таких эмигрантов, которые не потонут среди массы чужих народов, и обладать такой культурой, которая среди чужого народа в состоянии снискать себе приверженцев. Если же у какого-нибудь народа нет такой национальной выдержки, то для него нет никакого смысла господствовать над чужими племенами или чужеземными колониями; последние все равно останутся во власти чужих племен. Если, например, немцы были бы лучшими колонизаторами, чем англичане, то им не приходилось бы предварительно отнимать у последних колонии; эти колонии так или иначе стали бы в конце концов немецкими, оставаясь даже под английским господством. Итак, завоевание колоний военными средствами не имеет никакого значения. По этому поводу существует мудрое изречение Наполеона. Рядом блестящих побед он быстро завоевал Египет, но он не был настолько ослеплен этим триумфом, чтобы думать, что оружие может дать что-нибудь реальное. «Если бы, — сказал он, — 40 или 50 тысяч европейских семейств переселились со своей промышленностью и своими законами в Египет, то Индия была бы потеряна для англичан». «И притом скорее силой обстоятельств, чем оружия»,— присовокупил он и тем самым снова заставил нас пожалеть о том, что этот великий человек не умел управлять миром мирным способом. В настоящее время дело обстоит не иначе. Если какому-либо европейскому милитаристическому {148} государству удалось бы насильственно занять С.-А. Штаты, то это не оказало бы на последние существенного влияния, поскольку там не изменились бы весь уклад жизни, все законы и обычаи. Но если бы все это изменилось под давлением и по образцу победившей державы, то жители последней, разумеется, не пожелали бы эмигрировать в Америку. Ведь их привлекала бы главным образом американская свобода. Единственным результатом военной оккупации Америки европейским милитаристическим государством было бы, вероятно, то, что это государство утратило бы свой вес в Америке. Неудивительно, что именно в колониях обнаруживается яснее, чем где-либо, какое ничтожное значение имеет оружие: свободная конкуренция различных народов, готовящихся заселить новую страну, открывает путь к победе тому из них, кто наиболее вынослив в борьбе за существование. Поэтому желающие научиться тому, как одерживаются настоящие победы, должны отправиться в колонии: этим они принесут пользу своей родине.
Мы не можем подробнее останавливаться на этой проблеме. Пусть каждый немец, который серьезно желает распространения своей народности, сам ответит на следующие вопросы: 1) Почему буры не помогли Германии? 2) Почему большинство немецких эмигрантов устремляется в Америку и в английские колонии, а не в германские колонии? 3) Почему во всех английских колониях германская торговля развилась так сильно, как ни в одной из немецких колоний, и почему то же самое наблюдается в американских колониях, хотя многие из них основаны позже германских? 4) Почему во время настоящей войны в значительной мере пропитанные французским духом лотарингцы проявили большую лояльность по отношению к Германии, чем эльзасцы, несмотря на то что последние стоят ближе к немцам и их гораздо энергичнее германизировали? 5) Почему австрийские поляки лояльнее прусских? Почему австрийские чехи в таком множестве оказались не на стороне Австрии? Кто уяснит себе эти факты, тот поймет, что национальная идея наиболее устойчива там, где она сильнее всего, где она по возможности не связана с представлением о власти и является чисто культурным понятием, — словом, там, где борьба ведется при помощи живого, а не мертвого оружия.
| {149} |
§ 32. Политическое влияние войны. Древнейшая народная мудрость, по-видимому, постоянно внушала подсознательному «я» человека, что побежденный на войне не только часто бывает прав, но что именно на его долю в большинстве случаев выпадают все выгоды от борьбы. Во всяком случае, характерно, что предание о происхождении римлян называет их предками не какой-нибудь народ-победитель, а троянцев, потерпевших жестокое поражение. Из всех жителей многолюдного Илиона избег смертоносного меча греков один лишь Эней (по другим сведениям, еще Антенор). Но за уничтожение Трои отмстили потомки Энея, и победоносная Греция стала впоследствии провинцией потомков побежденных троянцев. Можно было бы привести еще много аналогичных легенд, в большинстве случаев имеющих характер морали и подтверждающих, что победители никогда не пользуются плодами своих насилий. Впрочем, и трезвый Монтескье1 посвятил особую главу выгодам побежденного, а не победителя, и даже современные адепты войны считают, по-видимому, этот взгляд правильным, по крайней мере по отношению к минувшим временам. Так, например, Штейнметц2 обращает внимание на тот факт, что мировое господство Александра Великого предоставило побежденным выгоды греческой культуры и что победоносная Римская империя дала побежденным иудеям возможность широко распространить свою религию. Равным образом Карл Штенгель3 упоминает о тех преимуществах, которые получили французы после своего поражения в 1870 г, а пруссаки после разгрома их в 1806 г. А кто в конце концов подчинил себе разлагавшуюся изнутри Римскую державу? Отнюдь не победоносно сохранившее свою независимость западно-германское племя херусков, а ранее покоренные римлянами и подпавшие под их влияние восточные германцы. И действительно, если война вообще доставляет кому-либо жизненные выгоды, то, несомненно, лишь побежденным. Дело в том, что всякий {150} сколько-нибудь дельный народ после проигранной им войны работает с удвоенной энергией, учится новому и ограничивает свои потребности в предметах роскоши, тогда как народ-победитель, полагаясь на свои мнимые военные достижения, считает излишними труд научный прогресс и самоограничение и становится высокомерно-заносчивым и расточительным. Война влечет за собой «широкий размах жизнепонимания». Кому ежедневно приходится рисковать своей жизнью, тот смотрит на жизнь легко. Однако у победителей нет того нравственного импульса, который быстро отучает побежденных от усвоенных ими на войне воинственных привычек, между тем чувствующие свое превосходство победители считают возможным продолжать даже при изменившихся условиях мирного времени свой прежний легкомысленный образ жизни. Война — «ремесло», как и всякое другое (что она ремесло грубое, основанное на насилии, нисколько не меняет дела), а кто занимается одним ремеслом, тот забывает остальные. Те европейцы, которые провели некоторое время в тропических странах на положении существ высшего порядка, нередко в течение ряда лет не могут свыкнуться со своей скромной ролью у себя на родине; кто хотя бы несколько дней был господином, тому не хочется стать слугой, а кто был солдатом, тот неохотно расстается со своим военным мундиром.
Если народ часто ведет войны, он становится воинственным и отвыкает от мирных занятий. Но так как война может в лучшем случае лишь защитить культуру, мирное же время создает ее, то раньше или позже наступает такой момент, когда воинственным народам нечего защищать, и тогда они погибают. В большинстве случаев это происходит так, что более сильный разбойник отнимает у них добычу. Но это не неизбежно; нередко привыкший к победам народ становится жертвой неосновательной уверенности в своей непобедимости. Это понял еще библейский псалмопевец; в 68-м псалме он восклицает: «Господь рассеивает народы, любящие воевать». Давид знает жизнь и правильно оценивает ее, но ему просто кажется невероятным, чтобы народы, любящие войну и занимающиеся ею, могли очутиться под властью того, кто мало заботиться о войне; поэтому Богу приходится карать заносчивых царей.
Таков был способ, каким благочестивый иудей реагировал на непонятные ему вещи. Но глубже вникал в дело его великий {151} современник, который не был, подобно Давиду, царем и священником, а был законодателем и философом: изумительная книга этого китайского мудреца доказывает, что основатель атеистической религии уже вполне уяснял себе мощную связь явлений природы. «С сильным оружием в руках не победишь»1. Этими словами (в другом месте он повторяет это столь же категорически) он хотел сказать, что с человеческим оружием дело обстоит так же, как с растениями: твердая древесина мертва; живы молодые, мягкие части верхушки и корня. При помощи этих живых элементов растение борется, расширяется и растет, добывает себе пищу, крепнет и развивается. В таком же положении находятся и люди — при помощи железа и войны не побеждает никто; победа достается лишь труду и разуму. То, что это означает на практике, однажды очень ярко пояснил умный Ли-хун-чанг генералу Вальдерзее. Последний удивлялся тому, как спокойно взирают китайцы на то, что европейские солдаты убивают тысячи, быть может, миллионы их соотечественников. Но Ли заявил, что это сравнительно ничтожное обстоятельство. «Некогда,— сказал он,— на нас напали татары, вооруженные луками и стрелами. Татары всегда нас побеждали и умерщвляли миллионы китайцев; китайцы ни разу не одержали победы». «И однако,— закончил с улыбкой последователь Лао-цзе,— где ныне татары?» Да, где они? Китай не имеет сильного военного оружия, которое могло бы решить исход хотя бы одного сражения, но в его распоряжении было и есть то «живое оружие», при помощи которого одерживаются гораздо более громкие и значительные победы, победы, решающие судьбы целых народов. Тот факт, что никогда еще ни один народ не пожинал плодов своих побед, подтверждается даже поверхностным обзором истории. Лютер выразил эту мысль словами: «Насилием мы ничего не достигнем»; в другой раз он сослался в виде примера на Ганнибала, который, несмотря на победу при Каннах, быть может, одну из величайших в мировой истории, погиб впоследствии самым жалким образом. Впрочем, вместо одного Ганнибала можно было бы указать на сотни других Куда девались державы побежденного Александра и непобежденного Тамерлана? Как быстро рухнули воздвигнутые германцами при помощи меча {152} троны V века! В течение нескольких лет дикие воины покорили Рим и Византию, Испанию и Африку, а немного позже лишь полузабытые песни прославляли доблесть этих смелых завоевателей. Победы «бича Божьего» Атиллы были только эпизодом, подобно тому как бунт Пугачева, правда, сохранившийся в памяти русского народа, не оказал особого влияния на ход всемирной истории. Какую пользу принесло Карлу XII завоевание России, Дании и Польши, а Наполеону завоевание Европы? К чему привели несметные гекатомбы Чингисхана и бесчисленные жертвы крестовых походов? Какая участь постигла арабов, победоносно укрепившихся на всем побережье Средиземного моря?
Более прочные завоевания также оказались в конечном счете бесполезными. Базировавшиеся на войнах и угнетении исполинские державы Востока рухнули после кратковременного существования. Погибли и державы Запада. Мировая Испанская держава, в пределах которой в XVI веке никогда не заходило солнце, превратилась во второстепенное государство. В начале XVII века Генеральные штаты были первой в мире морской державой, но уже спустя несколько лет после того, как адмирал Рейтер вторично победоносно вошел со своим флотом в устье Темзы, Голландии пришлось окончательно выбыть из строя. Без применения оружия, связанная даже узами союза и персональной унии с Голландией (Вильгельм II Оранский был штатгальтером Нидерландов и королем английским), Англия одержала верх благодаря своему географическому положению, своим коммерческим способностям и соответствовавшей духу времени гибкости и как бы естественно вытеснила Голландию с ее позиции владычицы морей. В конце XVII века, после победоносных войн Густава-Адольфа и Карла XII, Швеция стала, по общему признанию, одной из первых в мире великих держав, но уже эпоха Великой французской революции застала ее в роли незначительной страны. Дело в том, что перевес Голландии на море и господство Швеции на суше были в конце концов явлениями искусственными, отнюдь не обусловленными реальными фактами. Их вполне понятное и, если угодно, справедливое падение показывает, насколько безрассудно до крайности напрягать силы народа на войне и тем самым расточать их.
Дальнейшими примерами служат Португалия и Венеция, колониальные или, вернее, клиентурные владения {153} которых значительно превышали их собственные размеры. С этим фактом связано совсем не парадоксальное изречение Макиавелли: «Венеция никогда не была более могущественной, чем тогда, когда у нее не было и одной мили своей земли в Италии». А какую пользу извлекли Франция или Швеция из того, что они заняли германскую территорию? Какая, в свою очередь, получилась выгода для Германии от того, что она оккупировала итальянские или польские земли? Равным образом победоносная Англия не смогла удержать завоеванной ею на чужбине территории и утратила Францию. При жизни Шекспира Генрих V был наиболее выдающимся героем своей страны, а битва при Азенкуре была величайшим событием в истории Англии. Разумеется, мировое, симптоматическое значение имело то обстоятельство, что в этой битве 10000 гражданских ратников перестреляли почти в пять раз более многочисленное рыцарское войско коннетабля. Но какой реальный плюс получился от того, что поля Франции были орошены кровью 18000 ее лучших сынов? Два года Англия господствовала над Францией. И как раз в это время бургундская династия, при Иоанне Бесстрашном и Филиппе Добром, достигла апогея своего могущества. Четырнадцать лет спустя после битвы при Азенкуре Жанна д'Арк освободила Реймс и преподнесла корону своему государю. И все осталось по-прежнему; потоки крови были пролиты понапрасну. Кто вспоминает в настоящее время об Азенкуре и о безрассудном и в конечном счете даже бесславном короле, там победившем? Сказанное в еще большей мере приложимо к новому времени. Вольтер писал полтораста лет тому назад, что «великую пользу принесла (или, по крайней мере, могла принести) современная история тем, что она показала государям, что начиная с XV века все цивилизованные нации всегда объединялись против той державы, значение которой слишком возрастало». Вольтер имел здесь в виду державы Карла V и Людовика XIV, но его слова оправдались и на примере Наполеона; современная Германия также не избегнет этого неотвратимого последствия. Ведь нынче народы действуют таким образом, как будто они знают, что глубочайший смысл мировых событий сводится к уничтожению побед одержанных оружием. Это — начало грандиозного финала, который наступит тогда, когда народы поймут, что необходимо сломить меч. Но ошибочно думать, {154} что это инстинктивное чувство солидарности народов есть не что иное, как «зависть отсталых наций». Победу одержит тот народ, который первый постигнет эту грядущую истину Тот же народ, который усвоит ее последним, погибнет. Следовательно, война является совершенно бесполезным в большинстве случаев фейерверком. Конечно, нельзя отрицать того, что иногда война заставляет проснуться спящий народ, но тут происходит то же самое, что и с остановившимися часами. Если их сильно стукнуть о стол, то они обыкновенно ломаются; иногда же их ход восстанавливается. Впрочем, часы, по крайней мере, когда они действуют, функционируют правильно. Народ же, аппетит которого возбужден войной, не знает, что ему пожрать. В большинстве случаев война, особенно заканчивающаяся быстрой победой (например, войны 1864, 1866 и 1870 гг.), возбуждает воинственность народа и тем самым толкает последний навстречу гибели. Отсюда следует, что тот, кому дорога Германия, должен протестовать против всякой политики аннексий. Если Германия желает уцелеть, она должна навсегда оставить мысль о том, будто можно чего-нибудь добиться силой.
Часто происходит и нечто иное. Неужели правители никогда не задумывались над тем, что замена молота боевым оружием может привести к тяжким последствиям? (Троцкий.) Привыкнув к этому оружию, им самим изготовленному, и имея его в своем распоряжении, рабочий попадает в такое положение, при котором он может непосредственно влиять на политическую судьбу государства. Тогда его перестают угнетать, у него заискивают, с ним считаются не только на улице, где публика приветствует «серых героев», но и в правительственных сферах Так было в 1813 г, когда народу была обещана конституция, в 1870 г., когда ему действительно было предоставлено свободное избирательное право; наконец, в 1914 г, когда германский император впервые вспомнил о конституции, повелевающей короне стоять выше партий; так будет и после заключения мира. Кроме того, на войне рабочий приходит в близкое соприкосновение с пушками, составляющими, по мнению Лассаля, важную составную часть конституции, и тогда он узнает, что ныне на земле сила — источник права. Многие ошибочно думают, что сила эта может быть обращена в любую сторону. Японская война содействовала успеху революционного {155} движения в России1. Многие думают, что в результате нынешней войны Германия усилится благодаря росту освободительного движения. Это возможно, но и свободы можно было бы добиться более прямым путем, и притом ценой гораздо меньшего кровопролития.
§ 33. Влияние войны в области экономической. Кто беспристрастно вникнет во внутреннюю жизнь народов, тот увидит, что положение побежденных лучше положения победителей как в сфере народного благосостояния, так и в области национальной культуры и вообще национального самосознания. Ясно, что обо всем этом проще всего судить на основании войн новейшего времени, потому что непосредственно результаты этих войн у нас перед глазами. Отмеченная выше экономическая тенденция приводит к тому, что, несмотря на почти полную тождественность неблагоприятных для обеих сторон условий, экономический кризис приходится почти во всех случаях переживать победителям, тогда как у побежденных в большинстве случаев наблюдается экономический подъем. Для Германии, пожалуй, наиболее показательны в этом отношении последствия войны 1870 г. С этих пор во Франции, избавившейся от деморализовавшей страну императорской власти, наблюдается решительный и постоянно усиливающийся рост всех экономических факторов. Знатоки Франции единодушно объясняют это тем, что Франция, до 1870 г. считавшая себя вправе разыгрывать роль повелительницы Европы, после германского нашествия вновь научилась трудиться. В Германии же, напротив, мнимое, обусловленное получением миллиардной контрибуции, благосостояние (так называемой период грюндерства) необычайно повысило потребление шампанского и вызвало интерес к безвкусной, впрочем, роскоши, пышной отделке зданий, мебели и т.д. Эта не имевшая под собой никакой реальной почвы расточительность, которой в экономической области соответствовала могучая тенденция к спекуляциям, привела к крупному краху и стала причиною разорения многих тысяч людей. Даже Бисмарк отметил в своей речи, произнесенной в рейхстаге 9 мая 1872 г.: «Мы знаем, что Франция легче нас переносит нынешний тяжкий {156} экономический кризис, охвативший весь цивилизованный мир, что ее бюджет возрос на полтора миллиона и притом не благодаря займам. Мы видим, что существуют лучшие выходы из положения, словом, что по ту сторону нашей границы слышно меньше жалоб на плохие времена». В связи с хозяйственной разрухой число лиц, выехавших из Пруссии, достигло огромных размеров (до 1866 г. ежегодно эмигрировало около 40000, а в 1873 г. пределы Пруссии покинуло почти 150000 чел.). Эта эмигрировавшая из Пруссии масса людей сама по себе представляла значительный капитал, во много раз превышавший полученные от Франции миллиарды. Какую же выгоду извлекла, следовательно, Пруссия из своей победы, что дала ей полученная от Франции контрибуция, и какую пользу принес ей благоприятный для нее торговый договор?
Возьмем несколько статистических данных и остановимся, например, на увеличении числа судов Саксонско-Богемского пароходного общества за период с 1850 г. по 1880 г. Оказывается, что число пароходов за первые 15 лет (1850—1865) возросло с 3 до 17, а за следующие 15 лет (1865—1880) с 17 до 20. Это означает, что во второй период произошло в 5 раз меньшее абсолютное увеличение числа пароходов. За время с 1865 г. по 1880 г. имели место две войны. Отсюда следует, что в мирный период число пароходов возросло почти на 500%, тогда как в следующий, прерванный двумя войнами (1866, 1870), число пароходов увеличилось лишь на 18%.
Интересны также данные о росте населения города Берлина В течение всего XIX века наблюдается медленное, но неуклонное увеличение населения этого города, достигшее своего апогея в период с 1860 г. по 1870 г. Непосредственно вслед за катастрофой 1870 г. наступает падение указанного роста населения. Нельзя согласиться с возражением, будто это произошло вследствие полного заселения городской территории: незначительный, но все-таки заметный рост в течение 1880—1890 гг. доказывает обратное.
Мы лишены возможности изложить здесь все экономические плюсы и минусы каждой войны в отдельности. Приходится ограничиться указанием на некоторые суммарные статистические данные, характеризующие общее развитие промышленности, торговли и сельского хозяйства. Успехи промышленности сказываются, пожалуй, наиболее ярко в росте числа паровых машин в стране. {157} Если сопоставить этот рост за десятилетие с 1870 г. по 1880 г. с данными предыдущего десятилетия (1860—1870), то получится следующая табличка, наглядно иллюстрирующая влияние войны1.
Название страны |
Рост (+) или убыль (–) |
Германия................................ |
–30 |
Австрия и Бельгия...................... |
–20 |
Франция и Америка .................... |
–0 |
Англия.................................... |
+15 |
Из этой таблицы видно, что хуже всего в данном отношении обстояли дела победоносной Германии, тогда как побежденная Франция сохранила, по крайней мере, свое прежнее положение. Наибольшую же пользу извлекла для себя мудрая третья сторона, не участвовавшая в войне Англия. Впрочем, и после 1870 г. экономический рост Германии был довольно значителен. Вообще часто вводит в заблуждение то обстоятельство, что в статистических таблицах рост какой-либо отрасли национального богатства в Германии отмечается лишь с 1870 г. При этом нередко упускают из виду, что рост до 1870 г. был относительно больше. Сравнение затрудняется еще тем, что до 1870 г. статистические сведения касались отдельных союзных государств, а начиная с этого года они в большинстве случаев охватывают всю Германскую империю. Я просмотрел множество отчетов торговых и промышленных обществ и почти всегда обнаруживал, что их рост до 1870 г. превышал их рост после этого года. Однако детальное изучение этого материала завело бы нас далеко за пределы настоящей книги и потребовало бы выпуска особого труда.
К аналогичному результату приводит рассмотрение данных мировой ввозной и вывозной торговли. За тридцатилетие 1872—1902 гг. общий оборот мировой внешней торговли возрос с 49,4 до 94,2 миллиардов марок, т. е. на 87%. При этом процентные доли участия в ней почти всех европейских стран уменьшились (главным {158} образом, вследствие расширения торговых сношений Америки. Японии и Канады). Но в то время как внешняя торговля Франции понизилась на 3,7%, внешняя торговля Германии уменьшилась почти втрое, а именно на 9,9%. Более точные данные относительно внешней торговли Германии, Франции, Англии содержит следующая таблица:
Внешняя (импортно-экспортная) торговля
Годы |
Оборот в миллиардах марок |
% участия в миров, торг. |
|||||
Во всем мире |
Англия |
Германия |
Франция |
Англия |
Германия |
Франция |
|
1872 |
49,4 |
12,2 |
6,0 |
5,3 |
24,7 |
12,2 |
10,7 |
1902 |
94,2 |
16,6 |
10,3 |
9,7 |
17,7 |
10,9 |
10,3 |
Уменьшение участия на .... |
28,3% |
9,9% |
3,7% |
||||
Значит, и тут подтверждается благоприятное влияние войны на побежденный народ1. То же самое относится и к области сельского хозяйства. Просматривая интересные диаграммы об увеличении числа голов скота в Пруссии2, мы обнаруживаем, что увеличение количества лошадей, свиней, коз и крупного рогатого скота начинается примерно в 1855 г, а увеличение числа овец приблизительно с 1864 г.; затем рост протекает равномерно. После войны 1871 г. нигде не наблюдается увеличения этих цифр; напротив, скорее отмечается временное понижение их Аналогичные данные мы установим повсюду, если будем анализировать цифры, отражающие в известной степени всю экономическую жизнь в целом, а не отдельные специальные категории ее. Указанное положение, создавшееся в Германии после 1870 г., вовсе не представляется {159} случайным. После русско-японской войны финансы победоносной Японии оказались совершенно расстроенными, тогда как бюджет побежденной России впервые за двадцать лет дал плюс. После бурской войны английские консоли упали на 20%, тогда как побежденная Бурская республика стала державой, богатства которой достигли огромных размеров. Равным образом возрождение Испании началось с того момента, когда она потерпела поражение и у нее были отняты ее колонии, в том числе «жемчужина Куба». Испанская рента вскоре после этого поражения повысилась вдвое. На Америку эта для столь мощной державы сравнительно мелкая война не оказала существенного влияния.
Итак не всегда правильно изречение: «Горе побежденным!» Чаще приходится говорить: «Горе победителям!» Да иначе это и быть не может, так как обычно побеждает та сторона, которая лучше подготовилась к войне. Методы победителя, о действительной ценности которых мнения могут расходиться, усваиваются почти автоматически побежденным (особенно в тех областях, которых лишилось проигравшее войну государство). Потерпевшая сторона считает своею обязанностью вознаградить себя в следующей войне; поэтому она старается подражать мероприятиям противника, оказавшимся для последнего столь полезными. Это относится не только к экономическим мероприятиям, но и к военным. Так, например, разбитые Наполеоном пруссаки очень скоро «пришли к заключению, что для победы над Францией придется применить те средства борьбы, которые возвеличили и усилили Францию»1. Когда же впоследствии, в 1870 г, Пруссия одолела императорскую Францию, во Франции стали вводить реформы по прусскому образцу. И наоборот: победитель склонен думать, что ему уже не надо учиться ничему новому. Как ни тяжело сознаться в этом патриотически настроенному Максу Леману, он все же чистосердечно заявляет: «Раньше чем можно было серьезно начать говорить о реформе, войскам Фридриха Великого пришлось потерпеть ряд поражений»2.
Так было всегда, и потому народы обычно побеждают друг друга попеременно. {160}
§ 34. Влияние войны на мощь народов. Больше всего переоценивалось влияние войны на национальную мощь народов. Однако война не содействует ни сколько-нибудь заметному численному росту населения, ни повышению его национального самосознания. Правда, на основании наблюдавшегося после некоторых войн незначительного увеличения рождаемости, некоторые ученые считали себя вправе говорить о благоприятном влиянии войны на жизнеспособность народа. Однако прирост населения всегда настолько невелик, что он почти не влияет на предшествующее войне понижение рождаемости.
Число рождений в той или иной стране вообще не зависит от одних только биологических факторов. Всякому народу доступна возможность гораздо большей рождаемости, чем та, которая наблюдается в действительности. Рост деторождения замедляется в силу разнообразных, главным же образом экономических причин; народ инстинктивно чувствует, что для большего количества детей не имеется достаточно благоприятных условий для их прокормления. И вот война освобождает в этом отношении места; с одной стороны, погибает известное количество мужчин, а с другой — в военное время детей всегда рождается меньше. Статистические данные ясно показывают, что в течение первых 9 месяцев после начала войны наступает резкое уменьшение числа рождений, и это уменьшение продолжается еще на протяжении примерно 9 месяцев после заключения мира Так как на основании средних данных за последние три года известна приблизительная кривая рождаемости, которая была бы вероятна, если не было бы войны, то нетрудно вычислить убыль деторождения. Она превышает 100 000 душ. Если к этому присоединить число лиц, умерших непосредственно от войны, то получится общая убыль населения почти в четверть миллиона. Эта убыль впоследствии постепенно восполняется, хотя гораздо медленнее, чем она произошла. Одна уже медленность восполнения убыли населения показывает, что не войне, как таковой, приходится приписывать тут благотворное влияние.
Более детальное рассмотрение приводит нас к дальнейшим небезынтересным выводам. Мы видели, что уже за первые 9 месяцев войны 1871 г. родилось относительно слишком мало детей. Это, в свою очередь, могло быть обусловлено разными причинами: экономическим застоем в связи с близостью предстоящей войны, {161} учащением выкидышей вследствие сильных переживаний и волнений в первые месяцы войны, увеличением числа абортов под влиянием страха перед неопределенностью будущего и т. п. Все это, если и не прямой результат войны, то, во всяком случае, косвенное последствие сопутствующих ей явлений.
Особенно бросается в глаза тот факт, что уже в ноябре 1871 г. число рождений довольно быстро вновь достигает прежней высоты. Следовательно, еще в апреле 1871 г. произошло примерно нормальное число зачатий. Между тем, тогда были демобилизованы лишь гарнизонные части, остававшиеся в Германии, тогда как огромная действующая армия пребывала в неприкосновенном виде во Франции. Эти, несомненно, менее сильные гарнизонные войска дали, следовательно, жизнь большему числу детей, чем они это сделали бы в нормальное время (около 60000 детей). Этот факт доказывает, во-первых, то, о чем уже говорилось, а именно, что число рождений не зависит исключительно от биологических факторов, а во-вторых, что благодаря войне менее пригодные отцы фактически дают жизнь большему проценту детей, что, следовательно, раса ухудшается. Во всяком случае, не приходится ожидать благотворного влияния войны на качество расы. Этот вывод, получающийся на основании анализа материала, представляемого отцами, подкрепляется рассмотрением детского материала: я не нашел — правда, при не особенно тщательном просмотре — почти ни одного выдающегося человека, зачатого в период войны или отцом, вернувшимся с театра войны. Число таких незаурядных людей, как бы то ни было, менее значительно, чем оно в сущности должно было бы быть, если сопоставить число войн с числом выдающихся людей.
Трудно предсказать, во что выльются последствия войны 1914—1918 гг., базирующейся на всеобщей воинской повинности и столь продолжительной. Главным образом следует принять здесь во внимание то обстоятельство, что в данном случае все сколько-нибудь пригодные мужчины в течение ряда лет находятся вне пределов своей страны, и что поэтому (не взирая на все отпуска, дававшиеся фронтовикам на предмет размножения населения) количество рожденных от оставшихся в тылу неквалифицированных производителей повысится как никогда раньше. Этого ухудшения нельзя определить даже приблизительно. О понижении рождаемости, однако, можно составить себе, по {162} крайней мере, поверхностное представление, если иметь в виду, что в 1870 г. относительное число рождений понизилось только с 40 до 36 на тысячу (т. е. примерно на 12%), а теперь оно уменьшилось почти вдвое. На основании грубого подсчета можно утверждать, что в течение первых двух лет настоящей войны число рождений отстало от средней нормы примерно на 2 млн. душ, причем, кроме того, родилось от 1 до 2 млн детей более слабых, не отвечающих нормальным требованиям. Эти 4 млн детей, с присоединением к ним 2 млн чел, погибших непосредственно от войны, уменьшили численность населения Германии уже на 1/10. В настоящее время, после четырех лет войны, эти цифры придется, пожалуй, удвоить.
Не может быть, следовательно, и речи о сколько-нибудь благотворном влиянии войны на плодовитость народа; напротив: кривая, отмечающая относительные числа рождений в Германии за время с 1830 г. по 1910 г, ясно показывает, что если можно вообще говорить о каком-либо влиянии войны, то лишь о вредном.
Число рождений медленно возрастало в течение периода 1830—1870 гг.; затем последовало незначительное понижение в связи с войной 1866 г. и сильное падение вследствие войны 1870 г. Указанное падение сменяется едва заметным и весьма кратковременным компенсационным ростом, который, однако (как это легко высчитать), даже приблизительно не покрывает убыли; затем наступает постепенное неуклонное понижение, достигающее в 1914 г, накануне войны, таких размеров, которые не могли не испугать и действительно испугали людей, придающих рождаемости большое значение. Во избежание дальнейших осложнений, у нас, как это уже раньше имело место во Франции, была сделана попытка поправить дело законодательными и административными мероприятиями1. Я лично не считаю этот вопрос очень серьезным. Но статистика, во всяком случае, явно доказывает отсутствие сколько-нибудь благотворного влияния войны в этой области. {163}
Зато почти всюду увеличиваются численность и силы побежденных наций1. Это уже a priori вполне вероятно потому, что, как было сказано еще в предыдущем параграфе, в каждом покоренном народе усиливаются проявления внешней культуры — благосостояние, порядок и здоровье,— а эти улучшившиеся условия жизни допускают значительное увеличение населения, хотя бы стремление к размножению и находилось в скрытом состоянии. Так, по крайней мере, до сих пор наблюдалось всегда Уже во II кн. Моисея (гл. I, 12) сказано: «Но чем больше египтяне угнетали еврейский народ тем усиленнее он размножался и распространялся». Что это приложимо к современным полякам, общеизвестно; это может быть без труда доказано и цифрами, хотя, к сожалению, наша официальная статистика прямо не отмечает этого важного факта.
В тех 11 округах (Бромберг, Мариенвердер, Оппельн, Арнсберг, Данциг, Познань, Гумбиннен, Кенигсберг, Бреславль, Кеслин и Мюнстер), в которых, по крайней мере, одну десятую часть населения составляют поляки, число рождений в среднем сводится к 42 душам на тысячу В остальных же округах, где процент польского населения меньше, рождаемость, согласно тому же подсчету, определяется лишь в 36 душ на тысячу. Итак, в польских провинциях рождается на 1/6 больше детей, чем в немецких При этом, однако, «польские» провинции отнюдь не заселены сплошь поляками. Если же доля поляков, составляющая только одну треть населения, обусловливает прирост на 1/6, то, следовательно, у поляков рождается почти вдвое больше детей, чем у немцев, т. е. на 1000 немцев рождается 36 детей, на 1000 поляков 54. Если мы теперь будем исходить хотя бы из того соотношения польского населения с немецким, какое отмечается для Пруссии германской статистикой 1910 г. (на одного поляка тогда приходилось 102 немца), то (по формуле lg 10,2 + n lg 1036 = n lg 1054, где {164} n обозначает число лет) нетрудно вычислить, что через 135 лет, т. е. в 2045 г. в Пруссии будет проживать столько же поляков, сколько немцев.
К этому чисто биологическому моменту присоединяется еще момент психологический: у каждого порабощенного народа чрезвычайно повышается национальное самосознание. Конечно, это приложимо, главным образом, к новому времени: кроме евреев, древность не знала примера национального самосознания; последнее заменялось сознанием общности культуры. Повышение национального самосознания вполне понятно: ведь народ которому только что было доказано, что сильнейшему дозволено притеснять слабейшего, которому о всех неприятных последствиях такого притеснения ежедневно напоминают тысячи мелких придирок, в конце концов поневоле убеждается в том, что полезно стать сильным.
Такой народ старается поэтому напряжением своего национального самосознания добиться того национального престижа, которым пользовался победитель.
Мы видим это на примере всех угнетаемых народов нового времени. Национальное самосознание поляков укрепилось только благодаря разделу Польши, или, по крайней мере, этот раздел довел их самосознание до крайних пределов. Национальное сознание итальянцев, как доказано, было вызвано ирредентой; национальное самосознание французов поддерживалось, главным образом, мыслью об «утраченных областях». И у нас, в Германии, дело обстоит не иначе. Германское национальное самосознание пробудилось под гнетом наполеоновского режима Правильно сказал однажды Бисмарк: «Без гнета иноземного владычества пробуждение национального чувства в Пруссии было бы невозможно». И теперь еще германский патриотизм сильнее (по крайней мере, громче) всего сказывается в Австрии, где немцы, хотя номинально и являются господствующим элементом, как бы вынуждены бороться с чужеземными племенами за свое существование. В Пруссии патриотизм выражен наиболее резко: тут ему приходится бороться со склоняющимися на сторону Франции датчанами и поляками.
Из всего этого вытекает практический вывод, к которому можно было бы прийти и более простым путем, а именно: следует как можно меньше придираться к чужим национальностям. Кто упускает из виду эту бесспорную истину, тот вредит самому себе. {165} Какую пользу — скажем мы, чтобы привести здесь только один пример, очень близкий каждому немцу, — принесет идее германизма угнетение Польши? Пруссия и немецкая Австрия посадили тут сами себя на кол. В Австрии поляки частично уже достигли господства, а в Германии они усиливаются с каждым днем. Вестфалия, тот клочок земли, где, быть может, преобладают настоящие немцы, подвергается опасности стать частью Польши1. Те, кто верит в жизненность идеи единой Германии, должны с печалью глядеть на то, как в Австрии (стране, опирающейся исключительно на династические принципы и случайности, вроде знаменитых габсбургских браков) миллионы немцев медленно погибают именно потому, что завоеватели захватили слишком много и теперь очутились в меньшинстве, окруженные чужеземными народными массами.
Внутренняя мощь народа и никогда не утрачиваемое право на национальное развитие (два адекватных понятия) одерживают победу наперекор всяким военным успехам. Мертвое оружие тщетно торжествует: в конечном счете решает дело живое оружие.
§ 35. Истинная ценность войны. «Укрепляющее влияние» поражения и «изнеживающий» результат победы никогда не приводят в состояние равновесия ту справедливость, при помощи которой войне приходится регулировать взаимоотношения народов. Сызнова угнетаемый опять возвращается к мысли о мести, и всякий раз его усилия в этом направлении завершаются успехом. Этим обуславливается утомительная скука истории, представляющей вечную смену никогда не прекращающихся войн. Лишь свободная воля человека, сознающего, что так продолжаться не может, в состоянии изменить подобное положение вещей. Кажется, что почти никто не хочет извлечь из всего этого никаких уроков. Прав Гегель, сказавший: «История учит только тому, что она никогда ничему людей не научила». Именно в данном случае каждый народ очевидно, стремится доказать, что он еще молод и жизнерадостен, что он чисто по-детски не обращает внимания на наставления стариков и живет собственным опытом. Эти опыты будут производиться и впредь, но тогда {166} будет слишком поздно. Государства бывали прочны лишь в тех случаях, когда заступ следовал за мечом, как это было в Риме, или цивилизация следует за пушками, как это наблюдается в английских колониях Но этим вопрос еще не исчерпывается до конца: основная причина успеха двух упомянутых мировых держав, Рима и Англии, заключается, быть может, в том отнюдь не случайном факте, что как римляне, так и англичане называли побежденные народы не «подвластными», а «союзными». Только на принципах свободы может базироваться мировая держава
В тех случаях, когда с этой свободой не считались, не было никакой пользы даже от, по-видимому, прочного завоевания мечом. При помощи штыков можно сделать многое, но нельзя завоевать страну Каждый народ вправе основывать колонии и распространяться по мере своих сил. Но, чтобы быть в состоянии сделать это, ему надо стремиться к наиважнейшему — к напряжению своих жизненных сил, к усилению своего живого оружия. Кто рассчитывает создать колонии при содействии меча, тот беспомощный безумец. Сильному и умному меч не нужен: он необходим лишь слабому и глупому. Еще свыше 2000 лет тому назад сказал Лао-цзе: «Кто ищет в себе силу победить врага, тот не борется с ним».
Впрочем, раньше чем браться за меч, и слабому не мешало бы подумать о том, чего он может достичь таким образом в лучшем случае. Сама по себе идея войны как сулящего успехи фактора отбора в деле развития человечества крайне проста: войне приходится изображать собой неумолимую или, вернее, беспристрастную справедливость, под давлением которой пригодные элементы выживают, а непригодные погибают. Кто считает это правильным, тот должен действовать соответствующим образом и установить отвечающие этой цели правила. Тут будут уместны те приемы войны, которые применялись в древности (например, умерщвление стариков, женщин и детей), но отнюдь не современные, с виду гуманные (!) правила, превращающие войну в естественно-исторический фарс, в орудие отрицательного отбора, другими словами, в средство угнетения. Тот конфликт, который здесь как будто возникает между эгоистически настроенным современным человеком и гуманным носителем культуры, конфликт лишь кажущийся. Достаточно вспомнить о том, что было выше сказано о борьбе животных и борьбе людей. {167} И та, и другая сами по себе обоснованны, и обе могут протекать вполне последовательно. Затруднения начинаются лишь тогда, когда возникает мысль о возможности ведения животной борьбы также в применении к человеку и при помощи человеческих средств. Это безрассудно, а потому и преступно: на войну можно смотреть как на правомерную форму борьбы за существование лишь в том случае, когда тех, с кем воюют, считают не за людей, по крайней мере не за равноправных людей, т. е. тогда, когда ведут войну с целью уничтожения чудовищ, дабы настоящее человечество нашло себе на Земле место для своего дальнейшего распространения. Такая оценка европейцами друг друга недопустима; это поймет каждый европеец. В крайнем случае может возникнуть вопрос, не имеют ли права европейцы противопоставлять себя некоторым стоящим на низкой культурной ступени расам, например андаманцам или жителям Огненной Земли, в качестве более привилегированной расы. В действительности подобные племена, несомненно, постепенно истребляются представителями белой расы, но именно по отношению к ним уже давно признано, что весьма неразумно воевать с ними. Эти племена исчезают сами собой, приходя в соприкосновение с белокожими; бескровная война всегда целесообразнее войны кровавой. Рассматриваемая нами проблема могла быть актуальной лишь в отношении одной расы, а именно монголов. Не знаю, ценнее ли нас монголы. Но мне совершенно понятно, что в представителях монгольской расы мы видим врагов и что, например, как раз наиболее культурный европеец не желал бы иметь ребенка от монголки. Точно так же рассуждают, вероятно, и монголы. Поэтому я признал бы вполне естественным, если бы мы или монголы сказали: «Только одна из обеих рас может господствовать на Земле, и мы желаем, чтобы это была именно наша». В этом случае биологически более слабая раса, т. е. та, которая убеждена, что при нормальных условиях она подверглась бы влиянию естественного отбора, быть может (!), была бы вправе сказать: «Так как мы лишены возможности обосноваться естественным и правовым путем, то попробуем силой добиться того, в чем нам отказала природа».
Этот пример ясно показывает, что война совершенно не нужна действительно сильному; а так как она, безусловно, еще более бесполезна для слабого, то из этого с необходимостью вытекает, что война бывает целесообразна лишь в самых исключительных {168} случаях. Возможно, что такое исключение составляют монголы. В противоположность всем прочим цветным расам они, по-видимому, крепче европейцев, хотя мы в точности и не можем знать, как разовьется эта раса, когда она будет вовлечена в поток современной жизни. Как бы то ни было, у китайцев то преимущество, что они умеют трудиться в любом климате — в покрытых снегами тундрах и под палящим солнцем Суматры. Такая выносливость — свойство желтой расы: все другие народы погибают в чуждых им климатических условиях. Белокожие едва ли переносят зной лучше, чем его переносили некогда первобытные германцы, а чернокожие, попавшие в более холодные пояса, заболевают чахоткой. Между тем большинство обитателей той части Земного шара, где не могут работать белокожие, составляют монголы; там они и господствуют. Однако сомнительно, чтобы при беспрерывно усиливающейся интенсивности международных сообщений две расы смогли жить раздельно, бок о бок Раньше или позже они смешаются, одна из них восторжествует, и получатся одна раса и одна культура.
Но этого, быть может, не пожелал бы даже самый гуманный человек Я знаю, что, не без основания гордясь своей культурой, многие из нас готовы защищать ее с оружием в руках «Вы, монголы,— рассуждают они,— быть может, лучше нас, но вы иные люди. Нам вовсе не хочется знакомиться с вашей, хотя бы и более высокой, культурой; мы намерены сохранить лишь свою собственную». С этой точки зрения и я мог бы представить себе войну. Но эта война была бы беспощадной. На всем Земном шаре европейцев и происходящих из Европы белокожих существует теперь 500000000 человек Представителей же других рас имеется вдвое больше. Мне думается, что в настоящее время мы еще располагаем технической возможностью истребить в течение ближайших 20 лет эти 1000 миллионов цветнокожих. Через 20 лет это будет уже невозможно: когда Китай введет у себя всеобщее вооружение, когда он, как это ныне делает Япония, сам станет сооружать для себя дредноуты, изготовлять для себя пушки и гранаты, тогда уже будет слишком поздно. В течение этих 20 лет решится, быть может, судьба человечества, решится навсегда, и на 500 миллионов европейцев падет ответственность за этот шаг. Монголам нечего предпринимать; им остается только ждать: за них действуют пространство {169} и время. В столь тревожный момент может и должен быть предложен европейцам вопрос — желают ли они, спокойно взвесив все обстоятельства, признать всех цветнокожих чудовищами, и желают ли они затем повести против всех неевропейцев борьбу, борьбу за существование, т. е. борьбу истребительную, а не смехотворную войну из-за власти.
Если страшный план подобной войны укрепится в сознании всех белокожих, то необходимо (чтобы в результате не получилась бессмысленная жестокость) продумать его до конца: эта война должна стать войной «всех против всех», как говорилось в древности. Нам не пришлось бы тогда пощадить ни одного младенца в утробе матери, не потерпеть ни одного человека смешанной расы. Подобная война была бы жестока, но она была бы, по крайней мере, целесообразна. Говорить о «справедливости» какой бы то ни было войны в сущности излишне; но в переносном смысле эта жесточайшая война была бы все-таки самой справедливой, потому что она была бы «в своем роде» разумна. Я, во всяком случае, считал бы возможным признать такую войну осмысленной и успешной; однако я не верю в нее. Ведь история неизменно показывает, что отчаяние народов, существование которых подвергается опасности, наделяет их такой силой, которая дает им возможность преодолевать все технические преграды. И попытка остановить неумолимый ход истории столь грубым способом только ускорила бы гибель Европы.
Мне кажется, что народам Европы было бы полезнее напрячь все свои хозяйственные, технические и научные силы и усилить свою собственную жизненную энергию, т. е. заняться расовой гигиеной в самом широком смысле этого слова и тем самым попытаться сравняться с монголами и даже превзойти их Тут нас манят победы, не купленные ценой крови. Возможность их — мое глубочайшее убеждение. Эта непреклонная надежда определяется моим гордым европейским расовым инстинктом: не хочу сознаться монголам в том, что они в конечном счете более приспособлены к жизни, чем я. Думаю, что большинство европейцев мыслит точно так же и что мы никогда трусливо не обнажим меча против азиатов. Но если бы даже народы Европы проявили малодушие, если бы они утратили веру в конечную мирную победу и если бы путь насильственного истребления представился вполне надежным, даже тогда я лично не пожелал {170} бы идти таким насильственным путем, и я знаю, что большинство людей согласится со мной.
Впрочем, моральную сторону дела каждому приходится решать самому. Я твердо сознаю расовую солидарность европейцев и горжусь этим сознанием. Я не в силах даже понять, как иные люди, исповедующие более узкий патриотизм, в состоянии связать с ним сколько-нибудь ясные и реальные представления. Однако другие сознают эту расовую солидарность менее отчетливо, чем я, и расточают свой здоровый расовый инстинкт, увлекаясь разными бесполезными фантазиями, например обоснованием мнимого существования особой германской расы. И все-таки есть люди, которые убеждены в том, что германцы, немцы или пруссаки призваны господствовать над миром. Не стану спорить о том, насколько основательно подобное воззрение. Но те, кто верит в победу столь незначительных коллективов, должны были бы, по крайней мере, задать себе вопрос — в состоянии ли они, и если да, то желают ли они довести до конца эту борьбу в той единственной форме, в какой она может считаться целесообразной. Для германцев, в частности, этот вопрос должен быть сформулирован так: считают ли себя в силах те 100 миллионов немцев, или, вернее, те 20 миллионов более или менее чистокровных германцев, которые рассеяны по Европе (и из которых большая часть даже и слышать не желает о пангерманизме), вступить — с расчетом на успех — в борьбу с противником, превышающим его во много-много раз, и желают ли они действительно уничтожить его? Если они решатся на это, тогда пусть они попытают счастья; в этом случае они будут бороться за идею и, по крайней мере, будут преследовать известную цель.
Альтернатива, следовательно, такова: или нам придется жить в мире с французами, русскими, англичанами и всеми другими народами, кто бы они ни были, или мы вступим с ними в такую отчаянную борьбу, конечной целью которой будет не оставить ни одного из них в живых. Кто при таких условиях рискнет воевать, тот, по крайней мере, не прослывет глупцом, и логика будет на его стороне. Но я думаю и надеюсь, что даже наиболее воинственные среди нас, уяснив себе все значение этой неизбежной альтернативы, проявят миролюбие. Та бессмысленная игра, которая ныне опустошает Европу, должна стать последней.
| {171} |
Часть вторая (главы V и VI, § 36—50) книги профессора Николаи посвящена вопросу о происхождении милитаризма. Некоторый общий интерес представляет глава V, озаглавленная «Преобразование войны», тогда как глава VI («Реорганизация войска»), затрагивающая специальные вопросы об особенностях милиции, постоянной армии, ополчения и кадровых войск и завершающаяся обзором развития общей воинской повинности в Европе, может быть не без пользы прочтена исключительно военными специалистами, поэтому мы не будем на ней останавливаться. Что касается главы V, то она распадается на три отдела: «Божественные сумерки войны» (§ 36. 37), «Гуманизация войны» (§ 38, 39) и «Реакционность войны» (§ 40—42). В первом из них автор доказывает, что все культурные народы, опасаясь войны и в принципе отвергая ее, стараются оправдать и объяснить свое в ней участие какой-нибудь «высокой идеей» и состоянием необходимой обороны. Так, например, при возникновении мировой войны 1914 г. «Сербия восстала против «хищнических поползновений» Австрии, Россия и Черногория протянули руку «обиженной братской нации», Авария решила поддержать свой «престиж» на Балканах, Германия пожелала доказать свою «нибелунгову {172} верность», Франция объявила «освободительную» войну, имея в виду избавить «аннексированные области» от ига завоевателей, Англия выступила на защиту прав «нейтральных стран», а Япония на защиту «монгольской идеи» в Восточной Азии, и, в конце концов, одна лишь Бельгия фактически обороняла свою территорию (I, стр. 174).
«Попытка народов оправдать в собственных глазах свою воинственность все же служит признаком некоторой культурной стыдливости и доказывает изменчивость наших взглядов на войну вообще, равно как и то, что какое-то бессознательное внутреннее чувство заставляет нас отвергать войну ради нее самой» (стр. 175—176).— Затем Николаи рисует постепенный рост и умирание войны. Ссылаясь на исторические данные, он доказывает, что подобно тому, как в природе все крупное и громоздкое обречено на вымирание, так и в области военного дела, благодаря росту техники, мы быстро движемся по пути преодоления войны войной же. Сам способ ведения современных войн, когда неприятели часто неделями не видят друг друга, не прекращая, однако, своей разрушительной работы, радикально видоизменился по сравнению с прошлым, и можно сказать, что от войны в настоящем смысле этого слова теперь почти ничего уже более не осталось: война сама изжила себя.
В отделе «Гуманизация войны» автор останавливается, во-первых, на теории и практике так называемой гуманной войны, которая является, быть может, наиболее характерным признаком теперешнего милитаризма Эта «гуманизация» вполне естественна с натуралистической точки зрения: ведь человек принадлежит к genus humanum. B настоящее время гуманность, однако, понимается далеко не так, как следовало бы, и нередко «гуманность» служит просто для того, чтобы прикрыть голый ужас (ср., например, гильотину и казнь при помощи электрического тока). Таким образом, здесь мы не выходим за пределы жонглирования понятиями и словами (стр. 182). Признанием законности массового истребления ближнего нельзя мотивировать законность гуманной войны. Уже сама дозволенность применения различных военных хитростей и обманов — гнусный факт. Военная техника в корне убивает всякую гуманность, лежащую в основе всякой другой техники. Ужас войны заключается главным образом, в том нравственном безразличии, которым с течением времени насквозь проникаются все участники {173} войны. Одичание есть прямой результат войны. Достаточно вспомнить поведение Германии в последнее время: нарушение бельгийского нейтралитета, применение подводных лодок, употребление удушливых и ядовитых газов (стр. 193).
В разделе «Реакционность войны» автор уделяет немало внимания модному вопросу о «машинной войне». Хотя и нельзя еще говорить о «настоящей войне машин», так как даже теперь, несмотря на ошеломляющие успехи техники на войне далеко не все делают машины, однако машина понемногу начинает все-таки вытеснять и на войне человеческую личность как таковую. Вопрос о технике и ее успехах приводит Николаи к довольно неожиданному и на первый взгляд парадоксальному выводу, что военное дело чрезвычайно упорно (до сих пор) придерживается старых традиций, что технический прогресс сравнительно мало сказался на военном деле, что изобретения относились и относятся главным образом к мирной сфере интересов человечества, что лишь постепенно и с большим трудом достижения культурной техники находят применение в области милитаризма, что в общем война в этом отношении почти совершенно непродуктивна, что она почти совсем не влияет на развитие изобретательности и изобретений. С этим связана и варварская «этика» войны. На ряде примеров автор доказывает, что пресловутая «верность знамени», «благородство офицерства», «воинская честь» — сплошной миф, и что милитаризм не только убивает чувство собственного достоинства, но, совершенно обезличивая отдельных участников военного дела, приводит к диаметрально противоположному результату — воспитывает трусов (стр. 200). Это подтверждается историей изобретения орудий войны (меч возник из плуга), а также консервативностью и отсталостью военной техники. Еще в очень недавнем прошлом методы ведения и технические средства войны были крайне примитивны. Заметное улучшение в этой области наблюдается лишь с тех пор, как в создании военной техники приняла активное участие гражданская интеллигенция. С другой стороны, война сильно тормозит всякий технический прогресс. Вообще не только широкие массы, но и передовая интеллигенция обычно переоценивают роль войны в области развития техники. Война никогда не служила поводом к самостоятельным и серьезным изобретениям, а лишь применяла и приспосабливала в своих интересах культурные изобретения, {174} преследовавшие исключительно мирные цели. Указанием на исчезновение чувства солидарности, товарищеского духа, объединявшего и воодушевлявшего некогда воинов, автор заканчивает V главу своей книги. Как уже было сказано, VI глава (§ 43—50), имеющая специальный военный характер, здесь может быть обойдена молчанием.
Часть третья,— распадающаяся тоже на две главы: VII — «Возникновение патриотизма» (§51—62) и VIII — «Вырождение патриотизма» (§ 63—67), — посвящена вопросу о любви к отечеству Установив, что «источником патриотизма» является, между прочим, соответствующий инстинкт, автор довольно подробно анализирует чувство любви к отечеству и семье и чувство социальной тоски. Вопросу о значении государства как отчизны отводится особый подотдел (стр. 260—264). Расовый и культурный патриотизм служит далее предметом специального исследования. Охарактеризовав различные этапы развития патриотического чувства, Николаи посвящает заключительные страницы своей книги (стр. 301—317) вырождению патриотизма в шовинизм. Считая основой последнего честолюбие и эгоизм, автор противопоставляет этому чувство коллективизма и останавливается затем на условиях развития шовинизма как чувства болезненного и, разумеется, крайне зловредного, особенно по своим последствиям: одичанию народов и полному уничтожению всякой культуры (стр. 315—317).
| {175} |
ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОЙНЫ
| {176} |
§ 68. Различные периоды воинственности. Уже в начале этой книги было объяснено, как люди, жившие первоначально в мире и согласии, превратились в воинов, как затем воинское сословие было отодвинуто на задний план и как оно в XIX веке снова подняло голову и выдвинулось вперед.
Так как никто в точности не знает, как смотрели на войну наши, надо полагать, миролюбивые предки — первобытные люди, то приходится ограничиться более поздней эпохой, которая распадается на три периода, а именно:
1. Архаический (непосредственно воинственный) период, когда состояние войны являлось чем-то само собой разумеющимся (он начался в доисторическое время и окончился, вероятно, повсюду раньше, чем тот или другой народ появился на исторической сцене).
2. Культурный (относительно мирный) период в течение которого только определенная каста профессиональных воинов занималась военным ремеслом, в то время как все прочие люди интересовались культурой.
3. Архаистический (сентиментально-воинственный) период когда вновь организованные «народные {177} войска» снова превратили всех людей в воинов (он начинается с эпохи войн Великой революции, т. е. с конца XVIII столетия).
Хотя полудикие первобытные люди были в общем, надо думать, миролюбивы, тем не менее едва ли подлежит сомнению, что с того момента, как произошло первое братоубийство, человечество находится в состоянии беспрерывной войны, в том смысле, что сперва все люди, а затем одни только мужчины жили и живут в постоянной готовности взяться за оружие для защиты и нападения: подобно тому, как в настоящее время некому защищать права отдельных государств, кроме них самих, так и в былые времена отдельная личность жила «своим правом», и ей самой приходилось защищать это право от посягательства со стороны другого лица; эта защита при отсутствии каких-либо правовых гарантий по необходимости базировалась на применении силы. Поэтому взгляд на войну как на естественное состояние представляется совершенно понятным, а так как первобытному человеку все его привычки и поступки казались правильными и справедливыми, то неудивительно, что на известной ступени развития люди считали войну или состояние войны чем-то законным и хорошим.
Взгляд этот неправилен (см. § 13), но понятен. Еще Гераклит называл войну отцом всего сущего (polemon patron pantwn) и видел в ней движущее начало всего мира. Но подобно тому как первобытный человек, вероятно, брался за оружие в силу необходимости, так и для Гераклита война была только средством; цель же социальной жизни он тоже усматривал в мире.
Однако не только закон и право, но и слова передаются как болезнь, из поколения в поколение (Гёте); и плохо понятое и вырванное из общей связи изречение Гераклита довольно часто повторялось теми, кто искал философского обоснования для своей воинственности.
Сами философы почти никогда не высказывали подобного взгляда Хотя Платон в своих «Законах» и говорит устами Клиния, что фактически все государства постоянно воюют между собой, но он тут же указывает, что это явление ненормальное. Нечто такое, что можно было бы истолковать в смысле признания законности войны, мы встречаем впервые у Гоббса, который в своем трактате «De cive» («О гражданине», 1642) говорит, что люди не только фактически воюют между собой, но и что война вполне естественное состояние. Однако еще в 1851 г. {178} Форлендер разъяснил, что эта мысль только гипотетическая научная абстракция, а отнюдь не философско-исторический взгляд К тому же Гоббс полагает; что подобное состояние должно быть изжито. Вообще до XIX столетия в мировой литературе война восхвалялась очень редко, и, хотя в древних сказаниях и легендах мы повсюду встречаем указания на борьбу между богами и людьми, нигде не говорится о том, что эта борьба достойна похвалы и моральна Полководцы, описавшие свои походы, как, например, Ксенофонт и Юлий Цезарь, никогда не восторгались войной. Чтобы представить себе отношение первобытных людей к войне, приходится брать примеры из новейших эпох Аналогия бросается здесь резко в глаза, и наши военные организации удивительно напоминают нам варварские времена.
§ 69. Мольтке и его школа. Апологеты войны встречались изредка уже давно. Так, например, Макиавелли в своей книге «О государе», восхваляя и оправдывая убийство, измену, предательство и насилие, словом, все, что может открыть путь к власти, восхваляет и оправдывает также войну Если он и не заходит так далеко, как наши современники, которые не стесняются говорить даже о пользе войны, то все-таки о вреде войны он высказывается с довольно предосудительным легкомыслием как истый ученик Цезаря Борджиа.
Но если Макиавелли и восхвалял войну, то в свое время он все же стоял особняком, и даже те, кто на практике следовали его принципам, были настолько совестливы, что, по крайней мере, в теории оспаривали его взгляды. Так продолжалось довольно долго, и лишь во второй половине XIX столетия некоторые лица рискнули открыто стать на сторону Макиавелли. К сожалению, это произошло, главным образом, в той самой Пруссии, король которой когда-то написал сочинение «Анти-Макиавелли». Этот странный возврат к взглядам первобытного человека станет нам более понятен, если мы примем во внимание, что он обусловлен троякого рода обстоятельствами.
Прежде всего следует отметить, что в течение прошлого столетия была восстановлена казавшаяся навеки исчезнувшей подготовка всего народа к войнам. С тех пор в войне было непосредственно заинтересовано уже не только ограниченное число солдат, как то наблюдалось прежде, а весь народ С человеческой точки зрения вполне понятно, что отцы научились любить тех солдат, к числу которых принадлежали их сыновья; от солдат любовь {179} перешла на армии вообще, а от них и на войну, хотя идея народных армий, которые возникли в эпоху Великой революции, служила первоначально именно противовесом идее войны, так как тогда имелось в виду создать войска для выступления против войны, организовать народные массы в знак протеста против опиравшейся на солдатчину тирании. Французская революция создала по образцу Америки свои народные армии. Вначале их существование вызывалось необходимостью бороться за свободу, впоследствии же они были использованы преимущественно для таких войн, которые носили более или менее династический, или, по крайней мере, чисто личный характер. Но во время этих войн они не оправдали своего назначения, между тем как воевавшие с Францией государства, перенявшие у нее же систему конскрипций (наборов), одержали ряд блестящих побед. Но у них, как и во Франции, созданная первоначально только на время войны и для борьбы за свободу военная организация превратилась затем в постоянный институт, проникшийся духом меттерниховской эпохи.
Таким образом, современные исполинские армии, возникшие благодаря революции, стали орудием в руках реакции. Происхождение их было вскоре забыто; существование же их способствовало росту воинственности народов, так как все существующее стремится, как известно, к тому, чтобы проявить деятельность, соответствующую его назначению.
Затем тот часто оспариваемый, но в общей своей форме бесспорный биологический принцип, который был установлен Ч.Дарвином, а именно, что борьба за существование заключает в себе все предпосылки к успешному развитию расы, послужил с теоретической точки зрения также источником возрождения воинственности людей. С тех пор многие, впрочем, главным образом профессионалы-военные, стали усматривать в борьбе, как и в войне вообще, не только нечто красивое, но и целесообразное и даже этически ценное.
Наконец, принято думать, что объединение Германии явилось прямым результатом трех последовавших одна за другой войн, главным образом франко-прусской, и что, таким образом, здесь впервые во всемирной истории бесспорно ценное достижение было добыто кровью и железом. Насколько это объединение Германии оказалось в действительности ценным и насколько оно было в материальном отношении полезно для Германии и ее исторических задач, об этом уже было сказано в другом месте; во {180} всяком случае, все так рассуждали. Поэтому не удивительно, что именно в этой стране раздался — впервые за время существования человечества — голос, который восхвалял войну ради самой войны.
Герой этих трех войн Гельмут фон Мольтке в своем знаменитом письме (от 11 декабря 1880 г.) на имя профессора Блунчли заявил следующее: «Вечный мир — это сон, и притом даже вовсе не из прекрасных, война же — самим Богом созданный мировой порядок В ней получают развитие высшие добродетели человека: мужество и самоотверженность, чувство долга и самопожертвование. Не будь войны, человечество погрязло бы в тине материализма».
Трудно поверить, чтобы на языке поборников немецкого идеализма, Гердера, Шиллера и Фихте, можно было выразить подобную мысль. Но это в действительности так: приведенное письмо — подлинное и дало свои плоды, хотя лапидарность слов Мольтке никем из его последователей еще не была превзойдена. К сожалению, Мольтке будет жить в нашей памяти, вероятно, в неразрывной связи с этими словами. Между тем, справедливость требует сказать, что они все-таки не вполне соответствуют характеру этого крайне задушевного человека и были им произнесены, по-видимому, под влиянием пережитых им во время войны потрясений. Ибо в то время, когда он еще не достиг наивысших почестей, какие только возможны в Германии, когда он был еще простым штабс-капитаном, он сказал однажды, что увеличение благосостояния мирным путем лучше всяких завоеваний, и что он надеется на то, «что удастся, по всей вероятности, уменьшить количество постоянных армий в Европе и тем самым не только сберечь миллиарды марок и миллионы цветущих людей, которых отвлекают от работы для того, чтобы подготовить их к возможной войне, но и использовать эти громадные силы более продуктивным образом». Он же сказал в другой раз: «Мы открыто исповедуем идею всеобщего мира, так часто высмеиваемую среди европейских народов. Но разве ход всемирной истории не представляется приближением к этому всеобщему миру?» Правда, он относился довольно скептически к этому «приближению к идеалу», так как полагал, что войны только потому происходят теперь реже прежнего, что они стоят слишком дорого. Но все же на войну, даже победоносную, он смотрел как на народное бедствие. «К сожалению, — говорил он, — такой {181} взгляд еще не является общепризнанным и может сделаться таковым только в будущем, как следствие углубления религиозного и нравственного воспитания народов».
Громадное влияние войны 1870 г. на умы Европы доказывает, быть может, еще лучше, чем слова фельдмаршала Мольтке, мысли французского теолога и философа Эрнеста Ренана. В 1870 г. он писал: «Значение современной истории заключается в том, что патриотизм, с одной стороны, и демократическое движение, с другой, уравновешивают друг друга. Последнее явится, быть может, великим умиротворителем будущего. Не подлежит сомнению, что демократическая партия занимается вопросами, стоящими выше отечества; приверженцы этой партии протягивают друг другу руки через средостения национальностей и проявляют полное безразличие к вопросам самолюбия и чести, которыми интересуются преимущественно дворяне и военные». Свои рассуждения он закончил словами: «То, что открывает доступ в Валгаллу, закрывает врата царства Божьего».
Однако всего лишь год спустя Ренан писал: «Если бы, вследствие безрассудства, небрежности и близорукости правительства, время от времени не происходили столкновения народов, то трудно себе представить, до какой степени упадка дошло бы человечество. Война является одним из условий прогресса, бичом, который не позволяет стране впасть в сонное состояние, заставляет самодовольную посредственность очнуться от своей апатии. Человек живет только напряжением и борьбой. В тот день, когда люди создадут новую мирную Римскую империю, империю без достойных врагов, в этот самый день они подвергнут себя наибольшей нравственной и умственной опасности».
Если подумать только о том, что стало с миролюбивым Ренаном, подарившим человечеству преисполненные истинной любви мысли о Христе, после того как он пережил несколько месяцев войны, то нас уже не сможет удивить всеобщее помрачение умов в 1914 г.
Другие — менее значительные — писатели часто шли по стопам Мольтке, что объясняется вышеприведенными обстоятельствами: существованием народных армий (в связи со всеобщей воинской повинностью), плохо понятным дарвинизмом и последствиями войны 1870/71 г. Но так как «менее значительных» авторов гораздо больше, чем великих, то пароксизм {182} воинственности проник и в народные массы. Люди уже не задавались вопросом о смысле и цели определенной, конкретной войны, а желали войны как таковой, войны ради самой войны. Голоса, взывавшие к войне, раздавались преимущественно в Германии.
Впрочем, всякий здоровый человек проявляет некоторое естественное пристрастие к военным и героическим подвигам. Но люди с развитой нравственностью умеют обуздывать подобного рода наклонности; поэтому они обычно не обнаруживают их, и только тогда, когда какие-либо новые утопии опять выдвигают идею вечного мира, они решаются открыто выступить против этой идеи. Помимо большого числа малоизвестных писателей, следует отметить Ансельма Фейербаха и Гегеля как противников Канта; но и они считали войну только необходимой, а вовсе не полезной и заслуживающей одобрения.
Оптимистический взгляд на войну мы встречаем лишь в последнее время Правда, не все те, которых мы имеем здесь в виду, определенно высказывались в защиту войны, но в их литературных выступлениях красной нитью проходит попытка найти для войны этическое оправдание. Так, например, В. Штейнметц («Философия войны», 1907 г.) называет войну «существенной формой выявления государственности и единственной функцией, благодаря которой народы могут направить все свои силы на единую цель». Он считает ее божественным установлением и говорит о ней как о великом судном дне, когда кладутся на чаши весов те и другие народы со всеми их добродетелями, пороками и слабостями, от которых и зависит успех или поражение в каждом отдельном случае. Все это, как и то, что пишется многими другими, например, Лассоном, Раценгофером, Штенгелем, адмиралом Маганом и другими, вызовет у читателей будущих времен одно только недоумение.
Наиболее смело и резко такое понимание войны выражено в появившейся в 1912 г. книге германского генерала Бернгарди, озаглавленной «Deutschland und der nachste Krieg» («Германия и будущая война»). Эта книга произвела огромное впечатление, главным образом, благодаря личности ее автора, который считается общепризнанным авторитетом в области стратегии. Бернгарди находит, что Германия должна бороться за гегемонию, не считаясь с правами и интересами других народов. Он говорит об «обязанности воевать», называет германское движение в пользу всеобщего мира «ядом» и считает, что историческая {183} задача германского народа может быть разрешена только мечом. Он проповедует, следовательно, наступательную войну и доходит до утверждения, что военные захваты ценнее и желательнее мирных завоеваний. Попытка уничтожить войны представляется ему не только делом «безнравственным» и «недостойным человечества», но и лишающим людей высшего блага — права жертвовать своей жизнью во имя идеальных целей.
Столь же откровенно высказался только американский президент Рузвельт. Он заявил, что презирает народы и людей, которые спокойно переносят обиды, и вовсе не восторгается миролюбием трусов. Америка, если она желает играть мировую роль, должна решиться на кровавые подвиги, обеспечивающие народу славу, ибо только на войне нация может приобрести ту энергию, которая необходима в борьбе за существование; если же народ будет жить в мире и покое, то ему придется подчиниться другим народам, которые еще не утратили мужественного стремления к авантюрам.
В общем до начала мировой войны воинственность проявлялась в литературе не особенно часто, но она существовала в скрытом состоянии, о чем неопровержимо свидетельствует вспышка, происшедшая после объявления последней войны. Бернгарди имел только смелость открыто провозгласить то, что тысячи других думали, но не решались высказать.
§ 70. Мудрецы и поэты. Эпоха, лежащая между почти неизвестной нам доисторической и, к сожалению, слишком хорошо известной современно-архаической воинственностью, была периодом возникновения культуры. После того как разделение труда создало различные профессии, стали понимать, что «крестьянин» сможет лучше обработать свою землю, если он будет только земледельцем, предоставляя другим «заниматься войной». Но постепенно в равноправности этих профессий произошел сдвиг. Носившие оружие захватили власть, сделались господами. Своей властью они часто злоупотребляли; поэтому воины и хлеборобы стали вскоре врагами. Противоположность интересов обоих сословий и определила отношение мирного гражданина к войне. {184}
Эту эпоху, обнимающую весь известный нам исторический период, можно разделить на время до и после нашей эры. Правда, до возникновения христианства война не пользовалась глубокими симпатиями, но на нее все же смотрели как на естественную необходимость, и только со времени провозглашения принципа всеобщей любви к ближнему началась сознательная война против войны.
Старейший эпос древнего мира, Илиада, воспевает, правда, войну и наивно восхищается подвигами героев, но мы не найдем ни одного места, где Гомер помянул бы добрым словом войну как таковую; во вступлении к эпосу он говорит о том, что война причинила эллинам много горя и, погубив множество героев, отдала их на съедение псам. Вообще Гомер связывает войну только с такими эпитетами, которые выражают его глубокое отвращение к ней; он называет ее кровавым палачом, которому совершенно безразлично, кого рубить. В пятой песне он говорит о том, что сам царь богов Зевс низверг бы войну в еще более глубокую пропасть, чем восставших против него титанов, если бы бог войны Арей не был его сыном. Это напоминает нам наше время, когда властители народов не могут отказаться от войны по династическим соображениям.
Но и взятая в целом, эта эпопея войны не представляется воинственной в современном значении этого слова. Правда, она воспевает успешное окончание войны; но меж строк она твердит о том, что война будет постепенно изжита. Уже цель Троянской войны выявляет перспективы будущего; эта война разгорелась из-за того, что было нарушено древнее человеческое право, право гостеприимства (соответствующее понятию всемирного гражданства), что и требовало возмездия (ср. Кант «О вечном мире»). И кто же вел эту войну? Раздираемая постоянными распрями Эллада, объединившаяся ради этой цели. Это — идея, которая Гомеру казалась едва ли не мечтой далекого будущего. Эллины собрались против Трои со всех концов на тысячах кораблей; все маленькие области Лаконии, Аргоса и Мессении соединились для общей цели; воины стекались со всех островов, с Родоса и Крита и из греческих колоний. Для Гомера это был весь мир, и он описывает такую войну, которую мы до сего дня еще не видывали и которую мы себе представляем в отдаленном будущем как единственно возможную форму ее: войну федерации народов, {185} осуществляющую карательную власть над мятежником, нарушившим международное право.
Затем, хотя Гомер в начале своего эпоса воспевает гнев Ахилла, гнев постепенно уступает место миролюбивому настроению, последние песни Одиссеи призывают к забвению братоубийственной войны, к возрождению взаимной любви и через нее к благополучию и вечному миру. Однако еще нечто большее сделал он, этот «вечный Гомер»: он не только воспел далекое будущее, но и набросал программу осуществления этого будущего.
От Гомера до сего дня человечество прошло ряд ступеней, члены первобытной семьи считали себя братьями; затем объединились граждане одного и того же города, а города образовали отдельные государства; ныне мы видим уже союзы государств, а завтра объединенное в один международный союз человечество будет считать всякую войну «гражданской» и зачинщика ее, как этого желал Гомер, объявит вне закона, откажет ему навсегда в помощи и защите.
Вот в чем смысл старейшего эпоса, посвященного войне. Отец истории Геродот описывал тоже, собственно говоря, только войны; но он их ненавидел, «ибо никто, — полагал он, — не лишен рассудка настолько, чтобы предпочесть войну миру, так как во время мира дети хоронят отцов, а во время войны — отцы своих детей». Он не мог постичь смысла такого порядка вещей и потому поясняет: «Вероятно, каким-то демонам угодно, чтобы возникали войны». Подобно отцам поэзии и истории размышлял и отец философии Сократ, который однажды сказал, как передает Диоген Лаэртский, следующее: «Надо философствовать до тех пор, пока полководцы не превратятся в погонщиков ослов». Тот, кто хочет узнать, как смотрел на войну отец комедии Аристофан, пусть прочтет его прекрасное произведение «Ахарняне»; он будет им восторгаться, даже не будучи пацифистом.
Итак, мы видим, что все те, кто считается провозвестниками нашей культуры, высказывали одинаковые суждения о войне, и эти суждения сделались общим достоянием народов. Никому не приходила в голову мысль считать войну чем-то хорошим. Всем она представлялась бичом человечества. Даже у воинственных римлян мы не находим ни одного гимна войне, а Гораций, который жалуется в своей оде, посвященной Меценату, {186} на ничтожные радости жизни, упоминая в их числе войну, называет ее «ненавистной».
Такое же отношение к войне наблюдалось и в течение следующих столетий. О воинственности Средних веков большинство имеет совершенно ложное представление. Ничего хорошего не могли говорить о войне в те времена, когда Европа стонала, раздираемая религиозными войнами. С другой стороны, постепенно увеличивавшееся общение народов создавало и поддерживало убеждение, что война между правовыми государствами не только ужасна, но и нелепа и бесцельна. Так, например, средневековый мыслитель Эразм Роттердамский считал войну «безумной», а его современник Мартин Лютер называл пушки «проклятыми машинами и творением дьявола». В XVII веке Гуго Гроций написал свое знаменитое сочинение «О праве войны и мира», в котором впервые была высказана мысль об ограничении войны и которое долгое время служило как бы кодексом международного права. Монтескье утверждал, что войны его времени оказывают на торговлю и на культуру более пагубное влияние, чем войны древности. Гольбах говорил, что война не щадит победителя и что даже самая счастливая война все-таки является несчастьем. Великие скептики XVII—XVIII столетий расчистили путь будущим исследователям, доказав, что по этому вопросу не существует твердо установленных положений, и что о войнах следует судить сообразно условиям времени.
С какой резкостью клеймили тогда безнравственность и варварство войны показывают следующие примеры. Надо при этом заметить, что большинству писателей того времени и в голову не приходила мысль, что осуждение войны требует серьезного обоснования. Так, например, Лейбниц писал по поводу войны за испанское наследство: «Философия совершенно не заинтересована в войне». Спиноза говорил, что до военных столкновений ему нет никакого дела; пусть солдат умирает за свое воображаемое счастие; он же, Спиноза, может жить только ради истинного. Все эти мыслители держались в стороне от войн и думали, что в связи с развитием культуры войны исчезнут сами собой; если же в своих сочинениях они упоминали о войне, то ограничивались несколькими осуждающими ее словами. Так, например, Юм сравнивает воюющие нации с двумя пьяницами, затеявшими драку в посудной лавке. «Помимо необходимости {187} залечить полученные ими синяки, — говорит он, — им придется еще оплатить счет за разбитую посуду». Паскаль указывал на то, что «воровство, кровосмешение, детоубийство и отцеубийство — все это когда-то считалось доблестью, но только не война... потому что не может быть ничего смешнее того, чтобы человеку было дозволено убить меня только потому, что он живет по ту сторону реки, и что его князь имеет претензии к моему, хотя я не имею никакой претензии к его князю». Вольтер замечает по этому поводу, что «смешно» — здесь неподходящее выражение; надо было бы сказать «отвратительное безумие». Этот друг Фридриха Великого утверждал, что «все войны предпринимались с целью грабежа», а в другом месте говорит, что «первый король был ловким вором». Ту же самую мысль высказывает Шопенгауэр: «Первоисточником всех войн является воровской инстинкт». Даже «смеющийся философ» К.М. Вебер (1840) впадает в серьезный тон, когда заводит речь о войне; он считает ее бичом человечества, безумным антихристом; от него произошли и деспотизм, и феодальное право, и через него свободные люди стали рабами. Клопшток писал: «Война — это адский смех человечества; у охраняющего ад пса Цербера три пасти, а у войны тысячи». Высшим принципом Французской революции он считал «отказ от завоеваний» и уговаривал герцога Брауншвейгского, когда Европа готовилась напасть на Французскую республику, не брать на себя командования армией.
Можно было бы заполнить тысячи страниц подобными изречениями, и они все-таки не были бы исчерпаны. Однако нельзя обойти молчанием блестящих представителей германского гуманизма — Гердера, Канта и Гете. Последний часто цитируется в настоящей книге. Поэтому я не стану здесь останавливаться на нем. Гердер говорит в своих «Письмах о гуманизме»: «Благие стремления человечества едва ли могут преуспевать в государстве до тех пор, пока над ним развевается знамя завоевательных поползновений и носители их одеты в мундиры высших сановников страны».— «Все благородные люди должны были бы распространять эту идею, а отцы и матери внушать ее своим детям, дабы ужасное слово “война”, которое повторяется столь легкомысленно, стало людям не только ненавистно, но и произносилось с таким же трепетом, как пляска св. Витта, чума, голод, мор и землетрясение». Кант пишет: «Мы цивилизованы до {188} крайности в отношении общественного этикета и всяких правил приличия. Но для того, чтобы мы могли считаться морализованными, нам недостает еще многого. Ибо... пока государства все свои силы тратят на эгоистические стремления к насильственному расширению своих границ и таким образом беспрерывно задерживают внутреннее развитие мысли, до тех пор ничего хорошего от них ждать не приходится».
§ 71. Военные и дипломаты. Войну ненавидели не одни только миролюбивые писатели и ученые, но и военные и, что всего замечательнее, даже всемогущие полководцы. Многие из тех, «подвиги» которых запечатлены на страницах истории как деяния кровавых злодеев и опустошителей стран, на старости лет раскаялись в своем прошлом.
В этом отношении можно сослаться как на пример «образованного солдата» новейшего времени на Сирано де Бержерака, самого задорного из писателей всех времен, убившего на дуэли более дюжины соперников. Этот воинственный «рыцарь Гаскони», столь ярко изображенный в поэме Ростана, несмотря на весь свой задор и пыл, презирал войну, утверждая, что «все живое создано для общения, и только человек нарушает его». «Если каждая из воюющих сторон считает себя правой, то почему же они не обращаются к третейскому суду?» — восклицает он. В другом месте он говорит, что «поражение на войне столь же мало позорно, как проигрыш в кости», а победу на научном поприще он считал более существенной, чем победу на поле сражения. Сирано был проникнут мыслью, что война — недостойная человеческого рода форма борьбы; будучи безусловно храбрым человеком, он отрицал войну, усматривая в ней признак человеческой трусости.
Начиная с Сирано и кончая полковником Морицем фон Эгиди, который имел мужество сказать в 1890 г, что «с христианством война несовместима», мы можем перечислить целый ряд таких лиц, которые пришли к такому же выводу на полях битвы.
Не следует забывать, что самый рьяный и самый гениальный враг войны, Лев Толстой, был в молодости гвардейским офицером, равно как и другой русский миролюбец князь Петр Кропоткин. Гарибальди, который всегда был готов сражаться, сказал, однако, что задача Европы — сделать войну невозможной.
Поскольку нам могут возразить, что так рассуждают только незначительные военные авторитеты, проверим это на крупных {189} и обратимся к героям сражений при Лейтене и Аустерлице. Фридрих Великий мыслил отнюдь не иначе, называя войну «чудовищем, медным лбом, алчущим разорения и крови», а в другом месте «грустно-дикой любовницей хаоса (L'ode de la guerre)». В одном из своих писем к Вольтеру он иронизирует над самим собой: «Неужели вы думаете, что удовольствие — вести такую жизнь, видеть вокруг себя умирающих людей и самому посылать людей на смерть? Может ли вообще государь, который одевает своих солдат в синие мундиры и шляпы с белыми шнурами и заставляет их затем по команде поворачиваться направо и налево, отправить их в поход и не получить за это клички предводителя негодяев, которые только из-за нужды становятся палачами и занимаются почтенным ремеслом разбойников с большой дороги? Философам следовало бы послать миссионеров, чтобы последние своей проповедью незаметно избавили страны от больших армий, толкающих их в пропасть, и чтобы, таким образом, со временем некому было воевать. Ни один государь, ни один народ не будут тогда одержимы страстью к завоеваниям, влекущей за собой пагубные последствия. Я очень сожалею, что мой возраст лишает меня надежды увидеть хотя бы проблески этого Чудесного дня. Меня и моих современников будут жалеть за то, что мы жили в мрачную эпоху, лишь на исходе которой стало заметно прояснение разума». — Можно ли быть более рьяным пацифистом в теории, чем этот вояка?
Даже Наполеон, которого называли солдатским императором, даже этот профессиональный воин, который обязан был войне всем, чего он достиг, не усматривал в ней ничего безусловно великого. Еще будучи молодым офицером, он жаловался на то, что взялся не за свое дело, и эта мысль никогда не покидала его вполне. Впоследствии он утверждал, что он «и любит, и ненавидит это ремесло». Хотя он и вел столько войн и одержал столько блестящих побед, как никто другой, война — это «варварское ремесло», как он ее называл,— была для него в лучшем случае средством, а не целью, так как он считал своей задачей «установить прочный гражданский порядок». Когда он учредил орден Почетного легиона, первый военный орден, который мог быть пожалован лицам всех сословий, он сказал: «Скоро и великий полководец будет иметь право носить тот самый орден, который носит известный ученый и писатель». Он серьезно {190} задумывался над уничтожением армии и введением милиции и говорил: «В мирное время я заставлю суверенов не держать никаких войск, кроме личной охраны».
Его противник, австрийский фельдмаршал эрцгерцог Карл, единственное лицо, которое в те времена всеобщего разгрома сумело победить революционные войска (и однажды самого Наполеона — при Асперне и Эслинге), этот единственный в то время выдающийся немецкий полководец утверждал, что «слишком большие армии — несчастье для человечества и ведут государства к погибели».
Бисмарк, современник и отчасти друг Мольтке, был слишком умен для того, чтобы искать какое-либо этическое оправдание войны; напротив, прежде чем начать свою третью войну (1870 г.), он писал дипломатическим представителям Северо-Германского союза, что «считает даже победоносную войну большим злом, от которого должно предохранять народы искусство государственных мужей», и полагал, что предыдущие две войны были лишь исторически неизбежным последствием событий прежних веков. Отличившийся в тех войнах кронпринц Фридрих питал отвращение к войне, считая, что «мы, к стыду своему, в этом отношении все еще являемся варварами».
Я привел здесь изречения таких людей, от которых едва ли можно было ожидать особого миролюбия. Пожалуй, на это мне возразят, что история тех народов, судьбы которых находились в руках названных лиц, доказывает, что все сказанное ими — сплошное лицемерие, что на деле все они поощряли войну Но не следует забывать, что сущность современного милитаризма заключается не в том факте, что ведутся войны, а в том идейном направлении, которое усматривает в войне нечто великое. С этим направлением мыслей и надлежит бороться, а новые мысли сами собой создадут и новые факты.
Однако достаточно этих примеров! Всякий, кто хотя бы поверхностно знаком с соответствующей литературой, согласится, что до последнего времени не было ни одного выдающегося человека, который любил бы войну ради войны, как это часто наблюдается в наши дни. Правда, современные апологеты войны утверждают, что выдающиеся люди — это именно они. Но в сущности среди всех тех лиц, идеи которых восторжествовали в августе 1914 г, один только Мольтке может быть причислен к выдающимся людям. Между тем как {191} раз он должен был признать, что уже по одним практическим соображениям «желательно добиться прекращения войн».
§ 72. Пацифисты и их «противники». Тот факт, что пацифистам пришлось образовать особую группу, — плохое знамение времени. То, что прежде казалось совершенно очевидным и потому не имело особого наименования, теперь называется в виде похвалы или укора — пацифизмом. Если я, несмотря на все свое сочувствие этому направлению, не останавливаюсь на громадной литературе пацифизма и на его поборниках (например, А. Фрид Берта Сутнер, В.Ферстер — в Германии; барон д'Эстурнель и Жорес — во Франции; Альфред Нобель — в Швеции; А. Карнеджи — в Америке; апостол мира в России Лев Толстой и др.), то я этого не делаю не потому, что я не ценю чрезвычайно полезную работу их, а потому, что их мысли могли бы показаться предвзятыми, а мне важно было доказать, что не одни пацифисты рассуждают так, что в конце концов с ними согласны все мыслящие люди.
Что касается противников пацифизма, то их не следует смешивать с поклонниками войны; многие из них, не симпатизируя идеям пацифизма, в то же самое время мало интересовались вопросами войны. На деле они были искренними друзьями мира; между тем их отдельные, вырванные из общей связи, суждения были использованы сторонниками войны в интересах последней. К таким лицам следует отнести В.Гумбольта, заявившего в одном из своих ранних сочинений, что «война кажется ему одним из полезнейших явлений в развитии человечества»; он сожалеет о том, что она постепенно сходит со сцены, так как, хотя она и представляется мерой крайней и притом по существу ужасной, но зато она закаляет человека, приучает его ко всяким опасностям и трудностям. Однако красоту он усматривает лишь в войнах древности; современные же войны он осуждает, а постоянные армии, превращающие в ожидании возможной войны значительную часть населения в подобие машин, он считает явлением пагубным.
Излишен был бы здесь перечень других примеров, и я остановлюсь только на мыслях двух наиболее выдающихся сторонников подобного неправильного толкования, философа Ф. Т. Фишера и Фридриха Ницше, которого многие считают даже духовным отцом последней войны. {192}
В главе «Война и искусство» своей «Эстетики», появившейся после 1870 г, Ф. Т. Фишер говорит, между прочим, что «в войне находит свое выражение идея германского духа». За эти слова его рьяно ухватились германофобы. Однако мы имеем здесь дело лишь с проявлением того настроения, которое охватило всю Германию после войны 1870 г. Никогда не следует судить об ученом на основании того, что было им написано в период войны. С этим когда-нибудь должны будут считаться именно в Германии. Но когда Фишер находился еще в расцвете лет, он смотрел на эти вещи иначе. В своих «Критических очерках» (изд. 1840 г.) он утверждал, что трата громадных сумм на постоянные армии является величайшим злом; с насмешкой говорил он о патриотических песнях Беккера («Wacht am Rhein») и вообще придерживался мнения, что в XIX столетии «узко германский интерес уступил место всемирно-историческому». Но в 1870 г. он уже отрицал подобный ход развития германского духа и полагал, что идеал последнего — война Тут, по-видимому, сказалось мощное влияние воинственной эпохи на почтенного старца.
Обратимся теперь к Ницше. Этот подлинный философ войны вовсе не был воинственно настроен. Его мысль не затмили победы 1870 г., и он, быть может, первым понял, какое влияние окажут успехи этой войны на самосознание германского народа. Он пророчески предвидел, что увлечение «героизмом» уступит место увлечению «милитаризмом», и глубоко сожалел об этом еще во время самой войны. Он всегда и везде осуждал войну и в своем «Ессе homo» решительно протестовал против того, что под его выражением «необходимая борьба» подразумевают войну. Да, он проповедует войну, но войну без дыма и пороха, без воинственных поз и без искалеченных тел. Его война та, которую вел Вольтер, война свободной мысли против ложного идеализма, к каковому он причисляет также ходячую «любовь к отечеству», или патриотизм.
В появившемся в 1886 г. сочинении «Der Wanderer und sein Schatten» («Странник и его тень»), в главах «Война как целебное средство» и «Средство для достижения настоящего мира», Ницше высказывает мысль, что война необходима только больным народам, а здоровым она не нужна, и что всеобщее вооружение (следовательно, всеобщая воинская повинность) противоречит идее гуманности и хуже самой войны. Он {193} надеется, что появится народ, который воскликнет: «Мы сломаем меч!» и уничтожит до основания все свои военные силы, готовый дважды погибнуть, лишь бы не быть предметом ненависти и страха. Прекрасные мысли его нелишне привести здесь целиком. Ницше говорит: «Ни одно правительство не хочет в настоящее время сознаться, что оно содержит армию для того, чтобы при случае иметь возможность осуществить свои стремления к завоеваниям. Армия должна, говорят, служить целям самозащиты, и тот нравственный принцип, который оправдывает необходимую оборону, постоянно приводится в обоснование ее существования. Но ведь это значит приписывать нравственный принцип только себе, а противнику приписывать безнравственный, ибо если наше государство должно думать о защите, то на стороне другого предполагается намерение напасть; кроме того, этого противника, который, как и мы, отрицает свои завоевательные помыслы и тоже содержит армию в целях обороны, мы ввиду подобной мотивировки объявляем лицемером и хитрым преступником, который собирается врасплох на невинную жертву наброситься Так относятся друг к другу все государства: другим они приписывают дурной образ мыслей, а себе благородный. Но подобная точка зрения противоречит понятию гуманности и столь же пагубна и еще пагубнее, чем война. Собственно говора она заключает в себе даже некоторый вызов и является причиной войны, потому что она, как уже сказано, приписывает соседу безнравственные побуждения и тем самым провоцирует его враждебные чувства и действия. От взгляда на армию как на средство необходимой обороны следует отречься навсегда, равно как и от завоевательных стремлений. И может быть, когда-нибудь настанет великий день, когда народ отличившийся своими войнами и победами, мощным развитием своей военной организации и своей интеллигентностью и привыкший приносить во имя этих целей тягчайшие жертвы,— по своей доброй воле воскликнет: “Мы ломаем меч!” и уничтожит до основания все свои военные силы. Обезоружить себя в тот момент, когда ты лучше всех вооружен, сделать это из чувства благородства — вот средство для достижения настоящего мира. Последний должен покоиться на миролюбии. Между тем так называемый вооруженный мир, который распространен теперь во всем мире, свидетельствует о раздоре, об отсутствии {194} доверия и к себе, и к соседу и отчасти из ненависти, отчасти из страха заставляет держать оружие наготове. Но лучше погибнуть, нежели ненавидеть, и лучше дважды погибнуть, нежели служить предметом ненависти и страха Это должно когда-нибудь стать высшим принципом каждого государственного объединения! Нашим либеральным народным представителям не остается, как известно, времени для размышления о человеческой природе; иначе они бы поняли, что они напрасно так ратуют за “постепенное уменьшение военных тягот”. Напротив: чем хуже в этом отношении, тем лучше и тем скорее придет на помощь то единственное, что может помочь в этом деле. Древо военных лавров может быть уничтожено только молниеносным ударом; молния же низвергается из тучи, т. е. сверху».
И после этого люди осмеливаются ссылаться на Ницше в оправдание своих кровавых побоищ! Дух лжи стал мощною силою в германском государстве и охватил, по-видимому, всех; в противном случае, подобные факты не были бы возможны
§ 73—74. Война в поэзии.— Немецкие певцы войны и патриоты. В этих параграфах (73 и начало 74) автор высказывает мысль, что война сама по себе не могла воодушевить поэтов, и хотя древнейшие эпосы, например Илиада и Нибелунги, посвящены описанию войн, но ни в них, ни в позднейших поэмах и драмах не замечается восхваления самой войны. Правда, довольно часто встречаются описания сражений, но только в виде отдельных эпизодов, и ни у одного из известных драматургов они не составляют необходимого элемента развития драматического действия Что же касается специально военной лирики, то она производит в общем впечатление искусственности и работы по заказу. Свои мысли автор иллюстрирует ссылками на произведения таких писателей, как Шиллер и Шекспир, и цитатами из произведений лирических поэтов, преимущественно немецких, малознакомых русскому читателю, почему мы и сочли возможным опустить значительную часть этого раздела и приводим только заслуживающие внимания заключительные рассуждения автора о {195} причинах убогости поэтической мысли, поскольку темой ее является война.
Во всех песнях о войне, когда-либо сочиненных истинными поэтами, всегда идет речь только о тех войнах, «которые не хотят знать венценосцы»: о восстаниях угнетенного человечества против узурпаторов и тиранов. Поэтому тот, кто ссылается на военную лирику, пусть сделает и соответствующие выводы, пусть воодушевится сперва свободой, ею воспеваемой, а потом уже войной. Поэты шли именно таким путем; это доказывает сравнение прежней немецкой военной лирикой с современной.
Участвуя в войнах начала XIX века, германский народ сражался за свободу — гражданскую, политическую, военную, общественную и социальную, а во время франко-прусской войны 1870/71 гг. он боролся за известное национальное единство. Это частичное единство едва ли могло считаться прогрессом по сравнению с существовавшим положением; поэтому его сторонились такие убежденные приверженцы идеи единства Германии, как Гервег, и такие представители нового мировоззрения, как Бебель и Либкнехт. А за что сражался наш народ в 1914 г.? Наше правительство говорило, что это оборонительная война. Но ведь отрицательное начало никогда не воодушевляло человечества. Другие подчеркивали экономические интересы, но таковые не могут воодушевить поэтов. А что касается пресловутого «места на солнце», то солнце поэта не то, о котором здесь идет речь.
Если уже поэзия 1870 г. уступала поэзии освободительных войн, то, по единогласному мнению всех сведущих лиц, немецкие поэты никогда еще не писали таких плохих стихов, как в настоящее время Это служит некоторым утешением, доказывая, что немецкий народ обладает здоровым чутьем и на такие моменты, которые лишены всяких идеальных возможностей развития, реагирует весьма посредственно.
У других народов это едва ли обстоит иначе. Во время Великой революции Руже де Лиль сочинил свою бессмертную «Марсельезу», а в 1870 г. Франция обрела выдающегося поэта, певца войны в лице Виктора Гюго. В настоящее время сочинено множество военных песен, но общепризнанных певцов войны Франция все еще ждет. Они явятся, когда с войной будет покончено и опять зажелтеют нивы там, где ныне развертывается {196} фронт. Но тогда — в этом я уверен — они будут петь о любви, а не о ненависти, ибо мир жаждет любви, а поэт только тогда в состоянии создать великое, когда он стремится облечь в поэтические образы мечты своего времени.
§ 75. Миролюбие религии. Пропасть, отделяющая войну как мировой фактор от мира как мировой мечты, становится еще очевиднее, если обратить внимание на то, как относилась религия к войне.
Древнейшим религиям не стоило труда примирить эти противоположности. Так как для каждого переживаемого чувства эти религии создавали особое божество, то при таком многобожии легко было, наряду с богом мира и справедливости, выдумать и бога войны или же, как поступили практичные римляне, сотворить двуликое божество, которое при объявлении войны или заключении мира просто-напросто поворачивалось в ту или другую сторону (бог Янус).
Когда же люди обратились к единому богу, который должен был объединить в себе все качества, то получилось известное затруднение, и только в редких случаях монистическая религия, например ислам, открыто подчеркивала свои хищнические вожделения. Но ведь ислам создан был Магометом и воинственными жителями Медины именно для целей войны; они сочинили новые законы, чтобы иметь возможность напасть на враждебную им Мекку в дни святого месяца. Этого своего разбойничьего происхождения магометанская религия не могла изжить никогда. Подобно тому как у Магомета всегда имелись наготове изречения Корана, которые будто бы разрешали свободное пользование чужими женами, так он всегда находил подходящие слова и для того, чтобы согласовать рабство и войну с велениями Бога. Характерно, что в Коране главы о рабстве и о праве войны непосредственно следуют одна за другой, что доказывает, насколько родственны эти два института. На этих трех искусственно возбужденных фанатическим духовенством инстинктах — чувственном разврате, священной войне и грубом порабощении чужих народностей (своих крайних пределов они достигли в гаремах, хозяйничании янычаров и работорговле в Алеппо) — и базировалась сила Оттоманской империи. {197}
Было время, когда османское оружие сильно беспокоило Европу. Ныне же турок почти совершенно оттеснили в Азию, зато духовно они завоевали Европу, и зеленое знамя пророка незримо развевается над каждым домом в Европе, где говорится о нынешней «священной войне», которую раньше знал только ислам. В прежние времена все другие религии отличались миролюбием, по крайней мере в теории, хотя в действительности войны и велись в соответствии с принципами учения персов о борьбе добра со злом (злой дух Ариман некогда будет окончательно побежден, и тогда настанет царство мира). Буддизм и христианство в основе своей тяготеют к всеобщей гармонии мира, и для них война должна была бы быть чем-то ненормальным, как бы нарушением этой гармонии. Но ввиду того, что каждый, по выражению Гёте, создает себе Бога по образу своему, и все последователи религий очень мало божественно миролюбивы, а гораздо более варварски непримиримы, то в конце концов все религии пришли окольными путями к мысли об оправдании войны; это и будет в дальнейшем подробнее разъяснено в отношении христианства.
В Ветхом завете категорически сказано: «Не убий!». Эта заповедь старее и священнее остальных девяти, ибо уже после потопа Бог сказал Ною: «Кто прольет кровь человеческую, кровь того будет пролита от руки человека», и это повторяется в книгах Моисея десятки раз. Разве не убедительно, когда Бог говорит: «Если кто-нибудь ударит кого-либо железом, бросит в него камень или побьет его палкой так, что он умрет, тот убийца и должен быть сам убит, ибо он оскверняет страну, в которой живет, и страна не может очиститься иначе, как через кровь того, кто ее пролил»?
Если исключить странное повествование о братоубийстве Каина, которого Бог спас от кровавого возмездия, в Библии убийство запрещено повсюду под страхом строгого наказания, но только убийство еврея. Так как Библия носит по своему происхождению чисто национальный характер, то один только еврей и считался человеком; чужеземца же можно было убивать: для этого существовала вира, или откуп. В соответствии с этим разрешапась, конечно, и война, и еврей так же последователен, убивая гоя, как и мусульманин, убивая гяура. Еще во времена Христа существовало старое пророчество: «Взявший меч от меча да погибнет!» Христос выразился еще резче: «Кто возьмется за {198} меч, тот от него и погибнет; кто ненавидит брата своего, тот убийца, кто на него гневается, тот подлежит суду». Уже в силу этого древнего закона, который распространился среди всего человечества, война должна была бы стать невозможной, тем более что новая религия обязывала своих последователей к всеобщей любви. Это учение было провозглашено Иисусом Христом (хотя и не им впервые) в Нагорной проповеди.
Главное, чем христианство вправе гордиться, — это впервые проникшая в сознание широких масс идея всеобщего братства человечества, которая раньше высказывалась только немногими философами. Со времени Нагорной проповеди не должно было бы существовать войны вообще. «Война — насмешка над Новым заветом», — говорит в своем дневнике Фридрих III.
Все это настолько понятно, что всякое лишнее слово по этому поводу может казаться надругательством над истинным духом христианства. Хотя для нас теперь Нагорная проповедь является не единственным источником нравственного закона, но все-таки она была таковым в течение почти двух тысячелетий, и христианство должно ответить за то, как оно распорядилось этим вверенным ему заветом братской любви.
Что первобытное христианство не только в принципе, но и на практике отрицало войну, в этом никто не может сомневаться. Древние христиане относились к своей религии искренно. Мужественно отказывались они от военной службы, и в Риме их за это жестоко преследовали, но безуспешно. Как мирные борцы за идею, они смело вступали на арену, где неистовствовали львы, и безоружные, геройски шли навстречу верной смерти. У христианских писателей мы тоже встречаем ряд «антигосударственных» изречений. Так, например, Тертуллиан называет всякую государственную, а в особенности военную, службу «служением дьяволу», а Ориген говорит, что ни один служитель Бога не должен браться за оружие и что исполнение хотя бы законного смертного приговора непозволительно для христианина.
§ 76. Компромисс христианства. Но в таком положении дело оставалось недолго; последователи Христа очень скоро перешли в лагерь милитаристов. Даже при жизни своей Учитель не мог отучить своих учеников действовать оружием. По преданию, Петр отрубил воину Малху правое ухо. Между тем Петра христианская церковь избрала своим апостолом и именно {199} престол св. Петра так рьяно обратил родившееся под знаком «мира на Земле» христианство в ecclesia militans (воинствующую церковь), так что в конце концов папа Юлий II открыто сменил рясу на кольчугу. Тогда же христианство было «втиснуто» в рамки государства и, по выражению Германа Ховэна, Иисус Христос стал государственным узником Последствия этого не замедлили обнаружиться: всем известно и не требует доказательств, что (если не считать зверств Чингисхана) никогда еще не наблюдалось такого злоупотребления ядом, мечом и огнем, как в христианскую эру; отчасти это исходило от самой церкви (инквизиция и суды над еретиками), отчасти делалось от ее имени (крестовые походы против турок, альбигойцев и гуситов и международные религиозные войны XVI и XVII столетий).
Но, не говоря уже об этом прямом вмешательстве церкви в светские дела, гордые носители духовной культуры более всех других поощряли войну. Это происходило главным образом оттого, что в те времена, когда народу еще нужна была религия, европейская церковь, т. е. христианство, не оказывала достаточного сопротивления отнюдь не христианским стремлениям к убийствам со стороны сильных мира сего. Христианству никогда не удастся освободиться от этого упрека «Tua culpa, tua maxima culpa!» («Твоя вина, твоя тягчайшая вина!»)
Оправдать этот трусливый компромисс нельзя, но его можно понять. Почти всегда покоящаяся на пафосе новой идеи энергия умирает вместе с теми, кто вдохновился ею в час ее рождения. Все последующие поколения в лучшем случае сентиментальничают, и подобное сентиментальничание никому еще не мешало быть в жизни практичным Точно так же и христиане, утомленные постоянными преследованиями, сделались трусливыми и перестали противиться приказу убивать во имя государства. Римские легионы явились главным рассадником нового вероучения Правда, вначале в свое оправдание они ссылались на слова Христа «воздайте кесарю кесарево, а Божье Богу» и думали найти в этом выход из коллизии своих нравственных обязанностей. Но тут уже все покатилось по наклонной плоскости: Константин первым начал молить Бога о даровании победы его оружию, а когда при Сильвестре христианская церковь стала государственной (в 324 г.), миролюбию христианства пришел конец. Старый бог войны Марс под именем Мартина был причислен к лику святых, и мирная деятельность миссионеров {200} первых веков христианства сменилась обращением в новую веру при помощи меча.
Это началось со времени войн Карла Великого с саксами. Среди последних он, по выражению одного из его современников, «проповедовал христианство железным языком». Под влиянием воинственного ислама и массового психоза, этот метод во время крестовых походов и инквизиции достиг своего апогея; затем постепенно он вылился в форму насильственной пропаганды среди язычников в колониях; пройдя через костры и драгонады, эта пропаганда додумалась в настоящее время до такого тонкого приема, как экономический гнет. Не говоря уже о дореволюционной России и Германии, даже в Англии акты, устранявшие иноверцев от участия в государственной жизни, были отменены лишь в 1829 г. Тот, кто сравнит принципы нового учения с практическим осуществлением их церковью, не удивится тому факту, что соборы запрещали чтение даже Библии.
Среди еретиков еще соблюдались некоторое время первоначальные заветы христианства: неоманихеи, альбигойцы, моравские братья и квакеры отказывались от несения военной службы. Но Петр победил в конце концов Христа, и менониты в Германии, духоборы в России и другие сектанты, вместе с социалистическими вольнодумцами, сидят ныне в окопах и стреляют друг в друга. Таким образом, религия любви на деле угасла, и если прежде при этом некоторых мучила совесть или они вынуждены были подчиняться силе, то в настоящее время об этом не может быть речи; признаком отсутствия всякого влияния христианства на массы может служит факт, что никто уже не интересуется тем, было ли христианство гуманно и миролюбиво или нет. Какое нам дело — говорят — до христианской любви? Мы за войну и за национальность! — Столь безразличное отношение к принципам нравственности хуже былых религиозных войн.
Христианская философия первоначально, по крайней мере в принципе, была миролюбива. Схоластик Альберик Генилис указывал, что в природе войн не существует; войны, которые тогда велись, он считал происками дьявола и «бичом Господним», и его точку зрения разделяли в то время почти все. Но войны продолжались, и по отношению к ним стал проявляться какой-то эклектизм; на них начали смотреть как на нечто такое, над чем не следует особенно задумываться. Только в эпоху Реформации {201} возобновились, отчасти под влиянием Лютера, попытки оправдать войну с теоретическо-христианской точки зрения. Но, хотя с тех пор войну систематически прикрывали христианскими символами, посылая на фронт полевых священников, освещая знамена и пушки и производя обряд крещения над военными судами, все-таки и тогда большинству война вовсе не казалась христианским установлением. Еще в эпоху Крымской кампании попытка основателя христианского социализма в Англии Чарльза Кингслея оправдать эту войну как предпринятую против тиранов и самодержцев, — причем он писал, что «Иисус Христос — властитель не только мира, но и войны», — хотя и нашла сочувствие среди политических друзей самого Кингслея, но, с другой стороны, встретила в обществе резкий протест. Тем не менее колесо истории катилось дальше, и уже полвека спустя основная идея христианства, которая в течение 2000 лет тщетно старалась овладеть миром, настолько была забыта и абсурдное понятие «христианской войны» настолько вошло в плоть и кровь народов, что ныне уже ничему не приходится удивляться. Когда после войн 1861—1871 гг. Константин Франц противопоставил прусско-милитаристической идее государства идею христианства и полагал при этом, что безнравственным велениям государства не следует подчиняться, его взгляд вызвал только улыбку. И в настоящее время некоторые христианские богословы пытаются бороться с «военной религией», например, марбургский профессор Раде, протестовавший против вторжения в Бельгию. Но иначе рассуждают другие пасторы и богословы. Так, например, профессор Баумгартен, признавая несоответствие национальной этики Нагорной проповеди, рекомендовал «придерживаться текста Ветхого завета», любекский пастор Леман советовал «на некоторое время проститься с Христом», а теолог Браузевейер писал: «Только 1914 г. показал нам, что такое святой дух».
В таком же роде высказываются и другие интеллигенты, отличающиеся наклонностью к религиозным размышлениям. Но, видимо, так именно и должны мыслить в Пруссии, где председатель Палаты депутатов призвал в 1912 г. к порядку оратора, заявившего, что война есть издевательство над христианством. Незадолго до этого некто из власть имущих провозгласил, что только истый христианин может быть хорошим солдатом, а недавно известный германский философ Коген доказывал на одной из своих лекций о войне, что лишь истый кантианец может {202} быть хорошим солдатом. Между тем при рождении Христа, как повествует легенда хор ангелов пел «Мир да будет на Земле», а Кант сочинил прекрасный «Манифест о вечном мире».
§ 77. Компромисс философии. Злоупотребление именем Канта, пожалуй, еще более симптоматично, чем злоупотребление религией. Так как оно типично для жалкого компромисса философии, то отметим его характерные черты. Философия в этом отношении идет по стопам религии. Кровожадные ученики Канта отрекаются от вытекающей из философии их наставника веры в достоинство и свободу человечества, игнорируя совершенно определенные указания своего учителя.
Как известно, говоря о «вечном мире», Кант отвергает:
1) заключение половинчатых мирных договоров, являющихся зародышами будущих войн;
2) аннексии (даже в виде добровольных уступок);
3) постоянные армии;
4) займы с целью вооружения;
5) интервенции (вмешательство во внутренние дела других государств).
Он предлагает затем:
6) введение республиканского строя во всех странах;
7) образование федерации свободных государств;
8) учреждение всемирного гражданства/
Последователи Канта, следовательно, знают, что в то время, когда Прусское королевство вело борьбу с Французской республикой, Кант имел смелость открыто высказаться в пользу республиканских учреждений вражеской страны. Они знают также, что Германия в настоящее время более чем когда-либо, далека от кантовских идеалов, и тем не менее они находят возможным ссылаться на Канта в оправдание войны 1914 г.
Чтобы понять это, надо иметь в виду, что современные кантианцы при первом же грохоте пушек склонились в сторону новой ориентации, по-видимому считая это явлением вполне нормальным. Они утверждают, что прусская армия всецело проникнута духом Канта, ибо она усвоила себе кантовское сознание долга. Но как бы высоко ни ценилось формальное сознание долга, духу Канта оно будет соответствовать лишь тогда, если, помимо формы, оно выявится и по существу. Однако может ли подготовка людей для войны считаться с этой точки зрения желательной и соответствующей духу Канта? Отрицательный {203} ответ на этот вопрос дают все творения долгой жизни Канта, а не только его «Манифест о вечном мире», который, впрочем, является не случайной декларацией, а последовательным выводом из всего учения Канта о нравственности.
Указывают на то, что в одном из своих сочинений («Kritik der Urteilskraft», § 28) сам Кант называет войну «чем-то величественным» («Selbst der Krieg ist etwas erhabenes»), но дело в том, что это выражение он употребляет в связи с рассуждением о величии природы и что величественным, т. е. возвышающим душу, он считает то. что вызывает в человеке возвышенные мысли; природа же, по его мнению, никогда не бывает сама по себе величественной: мы только называем ее таковой, потому что она наводит нас на возвышенные мысли (это он формулирует как «отрицательный восторг»). Бесформенное и бесцельное явление, — говорит он,— которое действует на грубого человека устрашающим образом, мыслящему человеку кажется возвышенным и величественным, если (что Кант особенно подчеркивает) он сам находится в безопасности и не считает это явление «такой силой, перед которой следует преклоняться».
Теперь понятно, в каком смысле Кант называет войну величественной: он считает ее бесцельным явлением, которое мыслящий человек фактически не может устранить, но перед которым он в душе своей не преклоняется. Когда Кант писал это (в 1790 г.), он не постиг еще смысла Французской революции, показавшей, что народы свободны в своих поступках и отвечают за таковые; поэтому столь бессмысленное явление, как война, казалось ему непредотвратимым, но уже в то время он понимал, что оно не властвует над человеком. Здесь Кант вовсе не расходится со своей идеей вечного мира, а, напротив, ощупью приближается к ней. В приведенных мыслях чувствуется, что великий философ уже отказался от старого взгляда на войну, но еще не превозмог идеи войны как таковой.
Основные положения буддизма о всеобщем братстве сильно сближают его с христианством, хотя надо сознаться что миролюбие и терпимость буддизма несколько преувеличивались. Когда Япония вела войну с Россией, один из буддийских первосвященников, Соэн-Шаку, написал апологию этой войны, где доказывал, ссылаясь на изречения Будды, что учение последнего должно утвердиться повсюду, причем он находил возможным распространять это учение не только путем пропаганды, но и при помощи меча. {204}
Что люди вроде Соэн-Шаку или Когена извращают слова Христа, Будды или Канта, в этом нет еще такой беды, как в том факте, что никто этим не возмущается и за них не краснеет. По-видимому, человечество свыклось с убеждением, что нельзя согласовать теорию с практикой. Хороша ли война или дурна, с ней считаются как с непреложным фактом, о котором можно судить так или иначе, но устранить который люди чувствуют себя не в силах Как будто война не дело человеческих рук, а непреодолимое явление природы! Есть люди, которые сознают всю несуразность своего образа мыслей; но они уже не ждут Александра Великого, который рассек бы Гордиев узел этих противоречий, а заставляют свой разум склоняться перед реальной традицией.
Быть идеалистом в настоящее время просто смешно.
§ 78. Понятие личности. Никогда еще друзья Европы и враги войны между братскими народами не чувствовали себя столь одинокими, как именно теперь. Девять десятых всех европейцев живут в странах, участвующих в этой разросшейся до невероятных размеров войне; до 40 миллионов людей стоят под ружьем, добрых 20% их уже выбыли из строя. Лишь незначительная часть живет в странах, которые пока еще нейтральны, но и тут грандиозное зрелище побоища действует настолько гипнотизирующе, что везде люди горят желанием, правда на возможно выгодных для себя условиях, принять участие в нем. Это напоминает эпоху крестовых походов, когда Петр Амьенский своим «deus hoc vult» («Бог этого желает») сводил с ума весь мир в течение двух столетий до такой степени, что в конце концов даже дети собрались в поход. Опять послышались звуки свистульки гамельнского крысолова, {205} и если теперь уже не идут сражаться «pro Deo» («за Бога»), то новый лозунг «pro patria» («за отечество») действует на человечество не слабее прежнего. Однако, чтобы 40 миллионов крыс сбежалось на призыв свистульки — это вещь небывалая.
Понятно, что в такое время, когда все страны объяты пламенем войны, наше понятие о праве и чести высмеивается, нашу иначе понимаемую любовь к отечеству называют изменой, нашу веру в человечество считают идиотизмом. Мы же испытываем удручающее чувство одиночества, как своего рода стадное чувство наизнанку. Уже по одному этому наша точка зрения дискредитирована. Мало пользы от того, что мы с гордостью утешаем себя мыслью, что мы правы и что будущее докажет это; пока мы одиноки, всеми покинуты и, не находя сочувствия среди современников, едва дерзаем отстаивать свои взгляды. В минуты сомнений, которые могут возникнуть у каждого из нас, мы спрашиваем себя: вправе ли мы, одинокие, идти против целого народа, не играет ли тут известную роль количественное соотношение и не будет ли то чувство, которым охвачены сорок миллионов, иметь большее значение, чем то, которое разум подсказывает немногим? Может быть, народу в целом позволительно творить нелепости? Может быть, его законное право — руководствоваться чувством там, где в сущности должен решать рассудок? К чему же тогда эта безнадежная борьба?
И все-таки встречаются люди, имеющие гражданское мужество говорить и поступать так, как им подсказывает совесть, не считаясь ни с теми последствиями, которые это может повлечь за собой для них, ни с тем, получится ли от этого какая-либо практическая польза. Они признают за собой не только право, но и обязанность высказаться и отстаивать свое особое мнение.
Но если на это имеет право каждая отдельная личность, то не существует ли на стороне всего народа такого права и даже обязанности отстаивать особенности своего духа против каких бы то ни было посягательств? Бесспорно, это так, и вопрос может заключаться только в том, имеют ли эти особенности — у отдельного лица или у целого народа — какое-либо законное основание. Казалось бы, что самое понятие «особенность» указывает на то, что за каждым человеком признается право {206} проявлять ее так, как ему это нравится, и это было бы вполне справедливо, если бы в этом отношении ни над личностью, ни над народом не господствовало никакое верховное начало. Но принято думать, что такую роль играет рассудок; иначе на всякое отступление от общей нормы смотрели бы не как на особенность, а как на безрассудство.
Существует массовое безрассудство или массовый психоз; это мы знаем из прошлого и настоящего. Наука ссылается при этом на крестовые походы детей, на эпидемии самоубийств, сжигание ведьм в Средние века, садистские оргии в римских цирках и самобичевания в средневековых монастырях Люди всегда склонны усматривать в распространении неугодных им мнений и взглядов проявление психоза, не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова. Язычество считало христианство безумием, а последнее, достигнув власти, приписывало безумие еретикам. Еще в XIX столетии (правда, в дни сильнейшей реакции) какому-то кандидату медицинских наук захотелось представить диссертацию на тему «De morbo democratico, nova forma insaniae» («О демократической болезни, новой форме безумия»), и только благодаря вмешательству Рудольфа Вирхова удалось избавить германский университет от рассмотрения подобной работы.
Ныне очень многие также готовы были считать безумием воинственный пыл — однако лишь в отношении врагов, в особенности итальянцев. Но после десятимесячного опыта войны вся наша печать признала, что страх перед шпионажем, преследование иностранцев, строгости цензуры, поэтические излияния по поводу войны, крикливый национализм —, словом, все внешние проявления нашего воинственного духа также напоминают собой дом умалишенных
В Германии, как известно, принято делать различие между чистым разумом и практическим разумом, и это различие в сущности — самая характерная черта германского духа, так что по справедливости нас можно назвать народом самопроизвольной раздвоенности, причем я имею в виду не столько политическую, сколько интеллектуальную и моральную раздвоенность. Но об этом речь впереди (см. § 83). Пока же обсудим эту двойственную форму разума, для того чтобы выяснить, какие, собственно говоря, особенности следует считать естественными и законными и какие нет. Все затруднение в этом вопросе {207} возникает оттого, что проявление известной особенности один из этих разумов находит недопустимым, а другой, напротив, допустимым, и несчастный человек с двумя разумами не знает, которому 413 них следует подчиниться.
Это затруднение не выдумано Кантом, а только иначе, по-новому, им сформулировано. Во все времена полагали, что существует двоякая возможность миропонимания, но только не через двоякого рода «разум»: можно было постичь мир разумом или объять его любовью. Логической стороной этой проблемы занялась наука, а чувственной — религия причем каждая из них пыталась при помощи внутреннего созерцания установить свое особое мировоззрение.
Кант доказал, что примирить эти два мировоззрения невозможно, и изложил эту точку зрения в своей великолепной системе антиномистической философии. Так как оба разума друг другу противоположны, то ему пришлось прибегнуть к некоторой метафизике и создать мистическое понятие личности, в которой и происходит этот непостижимый синтез. Это объяснение ныне почти всеми признано неудачным. Если даже допустить, что понятия свободы, божества и бессмертия вытекают из примата практического разума, а математические понятия из примата чистого разума, то между ними, например между божеством и Пифагором, лежит весь видимый мир. Куда же девать его? Этот вопрос приходится разрешать в каждом случае отдельно.
Такой неудовлетворительный результат можно было предвидеть заранее, если считать доказанным существование двух самостоятельных видов разума. В этом случае не может быть речи о примате какого-либо из них. Решение вопроса о том, какому разуму принадлежит преимущество, было бы возможно только тогда, если бы судьей в этом деле явился принцип, стоящий выше обоих указанных начал Кант не знал такого судьи и не мог его знать, так как по его теории человеческий дух есть нечто недосягаемое и непостижимое. В нем он обнаружил эти два несоединимых начала, которые он по необходимости должен был причислить к прирожденным идеям человека, не поддающимся объяснению.
Между тем для нас в этом смысле необъяснимых вещей не существует, так как мы не признаем ничего прирожденного. Все же прирожденные идеи, которые выдвигала старая наука, в {208} настоящее время подвергнуты анализу с точки зрения их эволюционного развития. Мы знаем, что два существа, как бы различны они ни были, всегда могут быть сведены к одному — стоит только достаточно углубиться в их эволюционное прошлое; всегда в этом случае найдется точка, где они сходятся и начинают расходиться. Это применимо как в отношении организмов и органических образований, так и в отношении их жизненных функций.
Наша психика тоже не появилась на свет внезапно, как Афина из головы Зевса, а развивалась медленно и постепенно на почве тех сил и законов, взаимодействию которых она вообще обязана своим возникновением. Эти законы и силы существовали раньше человеческого разума и потому стоят выше его. Во всяком случае, к ним надо обратиться за разрешением вопроса — какому из двух разумов, чистому или практическому, следует в данном случае отдать предпочтение.
Канту эволюционная идея еще не была известна, хотя смутно он ее уже сознавал. Поэтому для него многие явления были непонятны. Подобно тому, как иногда стоишь в недоумении перед созревшим плодом, не зная некоторых свойств его цветка, так и некоторые свойства человеческого духа представляются нам неясными и загадочными. Во времена Канта знали только один созревший плод — законченного человека вместе с законченной душой его. Ныне же установлены общие черты его развития на протяжении ряда тысячелетий и имеется полная возможность объяснить высшие идеи человечества доступным нашему разуму образом. Этим же разрешается и вышеуказанный нами вопрос В принципе существует только один способ познания, один вид разума Если нам иногда кажется, что дело обстоит иначе, то это объясняется тем, что некоторые области нами еще недостаточно исследованы, а потому, разбираясь в них, мы вынуждены руководствоваться инстинктами. Но это только временное затруднение, которое рано или поздно будет устранено.
§ 79. Понятие добродетели. Издревле люди опирались на примат разума. Еще первобытный человек напрягал свои мыслительные способности, насколько это было в его силах, выдумывая демонов и дриад чтобы как-нибудь объяснить причинную связь между явлениями природы. В прекрасной {209} Элладе вера в этот примат разума обнаруживалась во всем, и лучший выразитель эллинской души Сократ провозгласил его раньше, чем возник сам термин; ставя разум выше всякой метафизики и в особенности метафизической этики, он утверждал, что добродетели можно научиться. При этом он указал и путь, по которому мы можем дойти до понимания ее, ссылаясь на старинное дельфийское изречение «Познай самого себя!». Таким образом, добродетель постигается через самопознание. Этим подчеркивается субъективный момент, ибо нет добродетели, которая была бы одинакова для всех; она, как и все вообще, заложена в индивидуальности каждого отдельного человека. Но этот субъективизм имеет свои границы, так как в отношении добродетели действует общий объективный принцип, в силу которого добродетель (как и всякое другое качество) недоступна тому, кто не обладает необходимой для этого способностью. Отсюда следует, что человек должен учесть свои силы и способности и развить их до возможного совершенства Это относится не только к практической деятельности человека, но и к духовной стороне его личности; последняя также подвержена законам эволюции, причем это касается как отдельной личности, так и целого народа и всего человечества.
Но усовершенствование возможно в одном только определенном направлении. В § 17, трактующем о естественном подборе, нами было указано, что во всем происходящем в этом мире можно усмотреть известное непреложное направление, которое и является единственным объективным масштабом при оценке всех событий и стремлений. По отношению ко всему прочему миру — одушевленному и неодушевленному— зависимость от природы охотно признается всеми, по отношению же к человеку ее отрицают. И действительно, человек имеет возможность преодолеть такую зависимость от природы, поскольку он в состоянии использовать свои силы в любом направлении; создавать же новые силы он не может. Каждый имеет возможность путем напряжения воли развивать свои природные способности до наивысшего достижимого для него предела, но только в одном каком-нибудь направлении: математик не может сделаться вдруг поэтом и, наоборот, самый талантливый поэт не может внезапно стать выдающимся математиком. Мысль Гете, что только односторонность создает гения, теперь уже ходячая {210} истина. Это самоограничение человеческой деятельности и разделение труда среди людей неизбежно создает своего рода спайку между субъективным и объективным началом; допуская неограниченное развитие индивидуальности, эта спайка приведет к полезнейшему виду социализма.
Общность отечества и одинаковый уровень культуры вырабатывают в людях, принадлежащих к одной и той же нации, известное однообразие характеров и способностей, в чем и выражается индивидуальность того или другого народа. Самоограничение деятельности, о котором речь была выше, имеет для человеческого коллектива, для нации, для народа еще большее значение, чем для отдельного человека. Подобно тому, как было бы крайне безрассудно, если бы человек, обладающий талантом к определенному ремеслу, стал заниматься недоступной его умственному развитию наукой, столь же неразумно было бы, если бы народ выказывающий особые способности в известной области, стал бы домогаться развития в совершенно ином направлении. Это свидетельствовало бы об отсутствии у него сократовой «добродетели». Так как народ вообще консервативнее, чем отдельная личность, то его труднее направить на новый путь: для этого потребовалось бы вполне тождественное изменение во взглядах и наклонностях большинства его представителей, а это случается очень редко. Поэтому, какими бы разносторонними способностями ни отличался данный народ что-либо полезное он в состоянии создать только в одном ему свойственном направлении; народ же, который хочет все испробовать, проявляет не добродетель, а дилетантизм. Если говорят о гармоническом развитии народов, то подразумевают, что каждый народ дает от себя человечеству все то лучшее, чем он располагает. Есть масса вещей, которые несвойственны тому или другому народу и которые он осилить не может, но почти у каждого народа имеется дар, которым он может осчастливить все другие народы Многосторонность никогда еще не достигала совершенства ни в каком отношении.
Из сказанного ясно, в чем дело.— Если какой-либо народ довольствуется тем, что он занимает скромное место среди других народов, ничем особенным от них не отличаясь, то он может позволить себе раз в столетие испытать свои силы на чем-либо новом. Подобные попытки послужат наукой для {211} потомств. Если же он пожелает сказать миру свое собственное слово, то ему необходимо заранее выяснить, откуда проистекает его сила и в чем коренится его особенность; этой последней он и должен придерживаться.
§ 80. Особенности каждого народа. Если об единичном человеке можно сказать, что вследствие своих природных способностей, своей судьбы и условий воспитания он всегда в состоянии создать что-либо такое, чего не может другой, то к народам это относится в еще большей степени. Среди миллионов людей, составляющих народ разница в способностях отдельных лиц не столь значительна и резка, чтобы для осуществления общественных целей нельзя было одного человека заменить другим. Но иное наблюдаем мы в отношении отдельных культурных народов, которых существует не более десятка: среди них нет ни одного, без которого можно было бы обойтись. Нет такого народа, который решительно во всем — в искусстве, науке, политике, технике, торговле — словом, во всех областях проявления человеческого духа занимал бы первое место и превосходил бы все остальные народы, вместе взятые. Поэтому в интересах каждого народа заимствовать у другого то лучшее, что он может ему дать. В своей «Истории цивилизации Франции» Гизо говорит, что основные черты развития цивилизации в различных странах Европы почти одинаковы, но формы ее проявления бесконечно разнообразны и ни в одной стране не достигли совершенства; поэтому элементы цивилизации приходится искать то во Франции, то в Германии, то в Испании. Это разнообразие бросается теперь еще больше в глаза, чем во времена Гизо. Поэтому на вопросе, желательна ли, да и возможна ли вообще совершенно замкнутая жизнь отдельного народа, останавливаться не приходится Каждый народ имеет свои преимущества и свои недостатки, и часто первые обусловлены вторыми, и наоборот. Противоречило бы всеобщему в природе принципу экономии сил, если бы все преимущества были только на стороне одного народа, и хотя каждому из нас свойственно стремление к тому, чтобы сделаться «венцом творения», но одного нашего желания для этого недостаточно. Тот, кто познал эту невозможность, не станет приписывать своему народу все преимущества и не будет хулить другой народ за какие-либо его недостатки.
| {212} |
§ 81. Немецкая мысль. Дух народа трудно уловить. Чтобы познать его, недостаточно судить об единичной личности и руководствоваться ее характерными чертами, а приходится считаться с незнакомой еще величиной, с той совокупностью, которую составляет народ.
Что толку в том, если философ Коген говорит, что «особенность германского духа заключается в сочетании рационализма с идеализмом и что ему чужда всякая мистика», если его коллега Лассон (оба читали одновременно в 1915 г. лекции о войне) считает, наоборот, мистический уклон самым сокровенным его проявлением или если англичанин Галден находит, что немец действует исходя из определенных понятий, англичанин же — из представлений, в то время как Шопенгауэр утверждал как раз обратное, полагая, что англичанин руководствуется абстрактным понятием материальной справедливости, а немец — свойственным ему представлением о внутренней правде. Вернер Зомбарт называет англичан торгашами, немцев же — героями, а Шиллер, который был мало компетентен в коммерческих делах, но кое-что понимал в героизме, считал сынов Альбиона первыми и последними героями в Европе. Большую роль играет здесь время, когда высказываются подобные взгляды, и трудность правильного суждения о характере той или иной народности усугубляется еще тем, что каждому народу можно приписать целый ряд диаметрально противоположных качеств. Так, например, немцам с одинаковым основанием приписывают лакейство и в то же время любовь к свободе; германская верность и пресловутое коварство Габсбургов — ходячие фразы; вера в нравственную чистоту немецкой женщины не помешала признать идеалом последней соблазненную героиню гетевского «Фауста» Гретхен, и это противоречие замечают лишь немногие (Келликер усматривал в «Фаусте» пощечину, нанесенную немецкой морали).
Как нельзя описать физиономию, а остается только нарисовать ее, так и физиономия немецкой культуры выявляется только в образе отдельных представителей ее, вроде Гёте и Канта, Кеплера и Гельмгольца, Бетховена и Моцарта, или — если считать их исключениями — в образе немецкой философии, искусства, химии, оптики, техники и т.д. Немец вправе гордиться этим цветом своей культуры, но вместе с тем он {213} должен отдавать себе отчет в том, откуда взялась эта культура. Ведь она не свалилась с Луны, а возникла и развивалась в совершенно определенной среде и в определенных условиях. Особенность этого развития, которая не повторяется ни у одного другого народа, обусловлена тем, что расположенная в центре Европы Германия была окружена государствами более старой культуры, откуда она и позаимствовала те стимулы, которые сделали ее культурным народом раньше, чем она стала нацией в политическом смысле этого слова. Именно оттого, что для нее не существовало тех препятствий, на которые обычно наталкиваются народы, играющие в истории значительную политическую роль, Германия могла создать ту универсальную культуру, которая бесспорно свойственна ее духу. С благодарностью великие германцы всех времен всесторонне усваивали культуру своей эпохи и старались переработать ее для себя. Культура Германии так прекрасна и глубока и вместе с тем оригинальна главным образом потому, что она не самобытна, а универсальна.
Это имело место еще в доисторические времена. Начиная с бронзового века, особенно же с IV столетия до нашей эры, культура устремлялась к германцам с юга. Когда же они увлеклись завоеваниями, они, будучи победителями, тем не менее перенимали культуру побежденных; лучшее в этом отношении они позаимствовали из Италии и Франции. Лишь с тех пор, как Карл Великий создал, собрав ученых почти всех стран, первую академию, возникла специфически германская культура. Никакая другая культура не создалась подобным образом. Этого не следует забывать, и великие люди Германии никогда этого не упускали из виду.
Одним из первых, кто познал это в отношении «обнаженной души» немца, в отношении его музыки, был Рихард Вагнер. По его словам, «немецкий гений существует для того, чтобы то, что не дано его родине от природы, отыскать у других народов, вывести его из узких рамок национализма и создать из него нечто универсальное, пригодное для всего мира». Яснее всего это видно на примере И. С. Баха, отца немецкой музыки. Как истый немец, он собрал лучшее со всего мира и положил тем самым основание подлинному немецкому музыкальному искусству. Материалом для него послужили наряду с итальянской вокальной и скрипичной литературой французские оркестровые сочинения, оперы и сюиты, {214} а также все, что было замечательного в этой области в Голландии и Англии. Его творения отчасти сохранили старые внешние формы, и отдельные его композиции сильно напоминают итальянскую музыку, но тем не менее они представляются глубоко немецкими. Притом он создал и новые формы — например, кантату, немецкую ораторию и самую характерную форму для него — фугу Нечто подобное можно сказать и о Моцарте, о котором Вагнер отзывается так: «Это был немец, который придал идеальнейшую форму итальянской музыке, облагородил ее и тем самым сделал ее универсальной».
О германской философии в таком же духе высказался в своей «Истории философии» Виндельбанд1. По его мнению, «Кант усвоил различные направления философской мысли и, сопоставив их, пришел к совершенно новому, созревшему в нем взгляду». В частности, Виндельбанд полагает, что на Канта оказали влияние: из немцев — Вольф, из англичан — Юм, Ньютон, Толанд Шефтсбери, из французов — Руссо и Вольтер.
Относительно прочих искусав и наук можно сказать то же самое: немецкая готика и немецкие песни миннезингеров родились во Франции, расцвет же их наблюдался в Германии. Только о живописи нельзя сказать этого: здесь немцы остались подражателями итальянцев, не создав ничего нового.
Выдающийся германский историк Иоганнес Мюллер утверждает, что «немцы вводили у себя все новое, что появлялось за границей в литературе и т. д., и доводили его до недосягаемой степени совершенства». Гегель сравнивает немцев с пчелами, собирающими мед от всех наций. Гумбольдт усматривает особенность германского характера в том, что он обладает способностью сочетать особенности старого и нового. Т. Фонтан полагает, что величие Германии заключается в доходящем до раболепства преклонении перед всем чужим. Можно было бы привести еще сотни подобных изречений. Поэтому та резкая обособленность, которую ныне называют громким именем патриотизма, особенно не к лицу немцам, свидетельствуя о непонимании ими своего собственного величия и об отсутствии у них чувства собственного достоинства
Зависимость немцев от всего чужого в самом деле зашла очень далеко. Германия, уже свыше полутора тысяч лет {215} представляющая силу, с которой приходится считаться, не сказала еще миру, как выражается Достоевский, своего «нового слова». Немец, по его словам, либо усваивал чужое, либо с негодованием отвергал его. Он разрушил Древний Рим, а впоследствии и римско-католическую мировую идею, не дав взамен их ничего нового. — Можно не соглашаться с таким взглядом, сводящим на нет всю деятельность Лютера, но я упомянул о нем только потому, что Достоевского он приводит к следующему заключению: в будущем («Три идеи», «Гражданин» за 1877 г.) может случиться нечто весьма странное: Германия разрушит все, против чего она в течение девятнадцати веков протестовала, и тогда она должна будет умереть духовно, сейчас же вслед за своим последним противником, по той простой причине, что ей уже незачем будет жить, раз нет ничего, против чего можно было бы протестовать! — Перед демоническим ужасом этого пророчества должен содрогнуться всякий, кто еще не ослеп окончательно, ибо в этих словах, несомненно, заключается частица правды.
Что же могла бы дать миру Германия? — Евреи дали ему религию, Греция — искусство и науку, римляне — государство, Франция — свободу и права человека и гражданину Англия — социализм. Германия приняла эти дары и добросовестно потрудилась над их развитием и углублением; казалось бы, теперь она в состоянии с благодарностью вернуть миру, в виде синтеза всех этих даров, наивысшее из того, что человечество могло бы от нее ожидать,— идею гуманизма. — Но тут нагрянула война!
В сущности Достоевский ошибался, полагая, что какой-либо народ может или даже обязан дать миру новую идею (он надеялся, что это будут русские): мир ныне слишком велик и разнообразен для этого, и если какой-либо народ желает сделать что-либо существенное для будущего, он должен помочь человечеству разобраться в этом многообразии и использовать его наилучшим образом. Это могла выполнить Германия. Тот самый инстинкт, который в разъединенной семье народов заставлял последние относиться несколько свысока к немцу, как к вечному протестанту, в грядущей объединенной семье народов побудит увидеть в нем желанного посредника. В это верили, на это надеялись все порядочные немцы. Но вспыхнувшая в 1914 г. война сокрушила эту веру и эти надежды. {216}
Одним из первых, кто познал историческую миссию Германии, был, как всегда. Гете, с досадой говоривший о распространившемся (после Освободительных войн) среди немцев духе узкого патриотизма и об упадке величия немецкого духа, которое он усматривал в его универсальности. Но Гёте стоял выше национальных предрассудков, считая себя европейцем; он был настолько далек от патриотизма, что ради спасения германской универсальности духа предлагал расселить немцев по всему свету, как евреев, находя, что «только на чужбине они (немцы) терпимы».
Творец «Вильгельма Телля» и «Орлеанской девы» также усматривал особенность германского духа в том, что ему чужда национальная замкнутость. «Германская империя и германская нация — две разные вещи», — говорит Шиллер. «Немцы приобрели значение, — продолжает он, — помимо своего государства, и если последнее даже погибнет, они все-таки сохранят свое значение, свой престиж. Это их чисто моральное величие основано на их культуре и коренится в характере нации, который не зависит от ее политической судьбы. В то время как политическое господство их клонится к упадку, моральное все более развивается».
В этих словах ясно выражена мысль, что оригинальность немецкой культуры объясняется политическим бессилием Германской империи. И вот Шиллер, ликуя, восклицает: «Германия победит, если суждено победить нравственной силе и разуму, грубой же силе внешних форм придется сдаться». Никто не станет отрицать, что подобной победой мы могли бы гордиться не менее, чем французы Аустерлицем и англичане Трафальгаром.
На подобную победу уповали все культурные патриоты той эпохи, в особенности Фихте. Вообще в то время на отечество смотрели с чисто моральной точки зрения, и все тогдашние стремления к объединению Германии шли параллельно со стремлением всех народов к свободе и прогрессу; немецкий идеал был аналогичен идеалу всего человечества. Но затем все это изменилось, и ныне мы уже не столь наивны. Однако древнее изречение «bia bia biazetai» («силой сипа осиливается») ныне уже не имеет прежнего безусловного значения, и только тот народ может одержать действительную победу, который все свои силы устремляет на мирное соревнование с другими и {217} старается обеспечить всему миру покой и согласие. Настало время, когда решающее значение имеет уже не грубая сила, а способность к культурной деятельности. Бесспорно, что на этом пути Германия опередила все народы, и, если бы она еще только немного подождала, она пожала бы богатые плоды.
§ 82. Приспособляемость немцев. Легко доказать, что вышеописанная приспособляемость и двинула Германию вперед Именно этой склонностью немцев интересоваться всеми другими странами, этим осуществляемым ими на практике космополитизмом объясняется то, что Германия стала родиной сравнительного языкознания, истории искусства и научной географии. Еще сто лет тому назад у нас выходили самые солидные периодические издания по научной географии, да и ныне наши географические карты и атласы считаются наилучшими. Благодаря своей восприимчивости, немцы любят и понимают Шекспира, Ибсена, Толстого и Брандеса лучше, чем любой другой народ; у нас есть Шекспировское и Дантовское общества; у нас выходят десятки переводов английских книг раньше, чем в Англии переведут одну немецкую книгу. Благодаря тому что немцы усвоили и углубили интеллектуальные течения и научные системы всего мира, вслед за Гусом мог появиться Лютер, за Галилеем — Кеплер, за Фарадеем — Гельмгольц, за Беркли — Кант. Сколько ценных трудов появилось у нас в связи с гениальными концепциями Дарвина, Дженнера, Листера и Пастера! Ныне на всех этих поприщах мы догнали те страны, где впервые возникли основные идеи перечисленных учений.— Эти неотъемлемые достоинства, сослужившие службу идейной Германии, ее науке и искусству, оказались полезными и для реальной политики страны, для ее инженеров и коммерсанта Наша техника в состоянии разработать любую идею, полученную извне. На смену беспроволочному телеграфу Маркони явился радиотелеграф, а в области автомобильного дела и авиационной техники наша промышленность догнала Францию.
Такую же приспособляемость выказали и наши коммерсанты они не навязывали чужим народам своего языка, как англичане, а изучали языки тех народов, с которыми они вступали в торговые сношения; они не подсовывали им свои отечественные произведения а изготовляли для каждого из них то, что им требовалось. И так немцы приспособлялись ко всему. {218}
Небезынтересно вспомнить, что гениальный Достоевский подобное свойство приписывал русским, как народу сравнительно молодому и потому способному легко усваивать чужие культуры. Русские также перерабатывают и развивают заимствованное ими у чужих народов, но пока еще из этого ничего такого, что имело бы мировое значение, не получилось. Я не ставлю им это в упрек, а лишь констатирую факт. Может быть, Лев Толстой окажет влияние на грядущее поколение; но это будет результатом влияния не чужеземных, переработанных им идей, а единственно — его обаятельной личности и переживаний его собственной души, в известном смысле именно специфически русских. Русские же, воспринявшие чужие культуры, ничего великого не создали Выросли на чужих культурах одни только немцы, которые вовсе не «крадут чужое», как, к сожалению, о них выразился Рамзей; они лишь приспособляются к нему и, преобразовав его, возвращают миру нечто новое и более значительное. В этом смысле, вероятно, и следует понимать слова Рамзея; по крайней мере, так он сам их истолкует, когда минует кошмар войны. Эта способность к синтетической переработке и к дальнейшему развитию усвоенного в наш век, когда техника сообщений открывает возможность реального сплочения народов, могла бы сделать Центральную Европу действительно центром Европы.
Будущность Европы, а может быть, и всего мира, находилась в наших руках! Мы этим пренебрегли, потому что и мы обладаем недостатками наших достоинств. То, в чем упрекают немцев и в чем они сами должны себя упрекать, есть недостаток настойчивости, столь свойственной англичанам, проталкивающим всюду себя и свою культуру. Немцы слишком легко ассимилируются с чужими народностями, любят все иностранное и особенно иностранные слова Все это — мелочи, и все это не так важно. Гораздо хуже, что ныне мы перенимаем от чужеземцев не только их преимущества, но и их недостатки. Мы стараемся походить на них настолько, что в конце концов отказываемся от основного свойства своей народности и от ее характера.
Если другие играли роль в политике, то и мы желаем этого; у других есть колонии, и у нас они должны быть; они были шовинистами и националистами, и мы сделаемся таковыми. Словом, другие отстали, а поэтому и мы должны отстать. И вот, из патриотического самодовольства французов, замкнутости англичан, национальной гордости испанцев и беззастенчивой {219} откровенности русских мы стараемся выковать себе панцирь, в который можно было бы заключить наши стремления к гуманизму, т. е. к общечеловеческим началам. И, по-видимому, мы в этом отношении преуспеваем. Об этом приходится сожалеть, так как ни один человек и ни один народ не может изменить своей психики, и если ныне истые патриоты взирают с некоторым страхом на будущее Германии, то это происходит оттого, что опасаются, как бы Германия не оказалась слишком слабой, чтобы отстоять свою особенность. Особенность же эту они усматривают не в грубом проявлении силы, а в торжестве регулирующего жизнь разума
§ 83. Милитаризм и свобода культуры. Термин милитаризм происходит от латинского «miles» (солдат), а последнее от «mille» (тысяча). В слове «miles» нет той презрительной нотки, которая слышится в слове «Soldat» (солдат — наемный воин, получающий плату — solidum); оно указывает просто на человека, одного из тысячи других, из массы, из народа. Так это слово понимали в Древнем Риме, и тот же смысл оно сохранило в слове «милиция», под которой подразумевают народное войско. Ныне же милитаризмом называют то ненормальное явление, когда вооруженный человек властвует над невооруженным. При этом имеют в виду прерогативы офицерства, воинскую повинность, субординацию, мундиры и пр. Одновременно воображению рисуется огромная организация, безукоризненно функционирующая, удивительным образом объединяющая силы целого народа, рисуется военная слава, пренебрежение жизнью. Таким образом, этот термин имеет и хороший и дурной смысл. Для нас значение этого слова вытекает из его первоначальной тенденции: служить выражением веры в то, будто при помощи множества таких тысяч, т. е. физической силы, можно чего-либо достичь на этом свете. Это — миросозерцание, провозглашающее, что животная борьба зубами или снарядами действительнее борьбы словами и убеждением. Большинство современных немцев понимает милитаризм именно в таком смысле; этот факт представляется тем более странным, что он противоречит культурным стремлениям Германии, которые она так часто проявляла на деле, {220} и что все великие люди ее прошлого верили в победу разума и осуждали войну. Подобное противоречие отчасти объясняется вышеуказанным умиранием немецкой приспособляемости. Но отказ от наших лучших традиций не мог бы последовать столь быстро и единогласно, если бы он не был обусловлен чем-то коренящимся в характере народа. Вероятно, в душе нашего народа таились задатки, благоприятные как для гуманизма, так и для милитаризма, и если мы хотим уразуметь эти кажущиеся противоречия, нам придется отыскать общую причину для них, что мы и постараемся сделать ниже.
Немцы говорят, что они прекрасные солдаты, потому что они все вообще делают лучше других Иностранцы тоже находят, что из немцев получаются прекрасные солдаты, но только они объясняют это тем, что Германия слишком увлекается тем, что едва ли хорошо.
Следовательно, все признают существование факта и расходятся лишь в оценке его. Не все согласны даже с тем, что воинские качества германцев являются их отличительной чертой; правда, говорят, немцы умеют драться, но и мирные занятия им не чужды, и они преуспевают в них, не прибегая для этого к оружию. Словом, милитаризм — одно из проявлений того присущего германскому народу свойства, которое может быть названо деловитостью и которое обнаруживается во всем, а следовательно, и в военном деле, вовсе не составляющем, как это утверждают рьяные германофобы, отличительную черту немцев.
Все особенности, которыми германский народ выделяется среди других, к выгоде ли своей или к невыгоде, проистекают из его необычайно сильно выраженной индивидуальности. В древние времена это сказывалось, по словам Тацита, в его любви к свободе, а также в той склонности его к вечным раздорам, о которой рассказывает римский историк Веллей Патеркуд главным же образом в его неумеренности, проявлявшейся решительно во всем, что подтверждают оба писателя. Германцы были диким, своевольным племенем, а географические условия той местности, где они обитали, способствовали их обособленности. Местность эта была покрыта лесами, и каждый, кто хотел там поселиться, должен был выкорчевать участок леса под пашню; на этом участке он и хозяйничал в полном одиночестве. Пережитки такой системы хозяйства и такого рода расселенности, существовавших {221} в отдаленной древности, мы наблюдаем еще в современной немецкой деревне, где каждый двор окружен своими полями и угодиями и представляет собой обособленную хозяйственную единицу. Самостоятельность, отличавшая первобытного землепашца, сохранилась и на следующих ступенях социального развития. Правда, свободные крестьяне попали в крепостную зависимость, но землевладельцы-рыцари были не только свободны, но и пользовались даже правом суда и правом войны и мира. Затем возникли свободные города, графства, герцогства, курфюрства и епископства Все эти миниатюрные государства имели свои законы, свою монету, и до последнего времени Германии не удалось расстаться с этой едкой карикатурой на свое былое свободолюбие. Эта мелкопоместная государственность столь же свойственна характеру немцев, как и те бесчисленные ферейны, которые они повсюду образуют.
И вот перед таким народом новое время выступило со своими социальными требованиями — сперва в виде евангельского учения о братской любви, а затем в форме выгодных торговых сношений. Возникновение социальных взаимоотношений должно было уничтожить узкую обособленность и на германской территории, но тут оно встретилось с совершенно особыми условиями развития мысли.
1. В Пруссии, игравшей первенствующую роль в истории Германии, немногочисленные высшие слои германского племени господствовали над отсталой и потому легко управляемой смесью разных народностей: оботритов, сорбов, варнов, вендов, Мазуров, поляков, чехов, литовцев, латышей и т. д. Так как при этих условиях нетрудно было поработить покоренные народы и подчинить их себе в политическом отношении, то и составилось убеждение, что это вообще весьма пригодный способ устройства государственной жизни.
2. Эпоха Возрождения, которая во всей Европе способствовала оживлению культурной жизни и в связи с этим облегчению тяготевшего над последней церковного гнета, в Германии, вследствие присущей ей религиозности, выразилась лишь в церковных распрях, и подлинный гуманизм не оказал на эту страну большого влияния. Поэтому все либеральные веяния нового времени с самого начала приняли там другое направление: в погоне за церковной свободой забыли о свободе гражданской, интерес к делам церковным затмил интерес к {222} делам духовным и, главное, в Германии привыкли искать жизни на том свете, а на земную жизнь стали смотреть, как на нечто несущественное.
3. На почве такого относительного равнодушия ко всему земному немцы не надеялись найти на земле ничего цельного и ценного и разменивали свой индивидуализм на мелкую монету; в результате этого Германия стала страной сословных различий. Правда, дворянство и в других странах относилось довольно строго к вопросам этикета, но в то время как в остальной Европе рыцарство уже с XV столетия потеряло свое значение как самостоятельное сословие, оно не только сохранилось в Германии до XIX века, но нашло еще подражателей среди свободных граждан; гильдии и цехи процветали в Германии, и каждый старался закрепить за собой какую-либо привилегию, будь то звание или чин, титул или орден. Таким образом, филистер удовлетворялся в своем стремлении к индивидуализму звездой или титулом, а интеллектуально развитые люди находили утешение в философии, которая, идя навстречу этой потребности, развивалась в крайне своеобразном направлении.
Эта специфически немецкая философия позволяет легче всего разобраться в вытекавшем из трех вышеприведенных условий направлении мысли. Не без основания немцев называли философами: они остались таковыми и по сию пору, невзирая на кажущуюся перемену. Но в то время как во Франции и Англии философия, начиная с Декарта, стала все усиленнее заниматься практическими вопросами, в Германии она все больше увлекалась абстракциями. Впрочем, это было на руку немецкому гению: в области свободной мысли всякий мог идти своей собственной дорогой, тогда как в реальной жизни приходилось слушаться начальства. Пример тому Кант, столь свободный в области отвлеченной мысли и столь зависимый в житейской сфере. Он, который, по выражению Карла Перса1, написал философию Марсельезы, в богословских вопросах подчинялся начальству и отрекся от учения Фихте, чтобы не быть заподозренным в атеизме. Мы простим это почтенному старцу, но не тем, кто довел его до этого.
Философское учение Канта оказало на будущность Германии решающее влияние. Кант выдвинул трансцендентальный идеализм {223} свободы и эмпирический реализм зависимости как два равноправных и одинаково необходимых начала Можно быть какого угодно мнения об этой двойственности, можно считать ошибкой самую постановку вопроса, но нельзя не признать удачной попытку Канта и его последователей примирить оба начала при помощи диалектики. Во всяком случае, приходится пожалеть лишь о том, что на практике эту «антиномию» разрешили совсем не в духе Канта: научились довольствоваться в стремлении к свободе отвлеченной идеей, а в остальном занялись реальной политикой.
Подобный дуализм — плод троякого насилия, которому подвергся германский либерализм вследствие порабощения народных масс в Германии, отвлеченности лютеранской веры и трансцендентальности немецкой философии. В реальной жизни стремления к примитивной гражданской свободе, которая уже пострадала из-за «истинно христианской свободы», совершенно затерялись в лабиринте «интеллектуальной свободы философа». В практической сфере немец стал несвободным и грубым, в идейном же мире Германия стала самой свободной и — мы можем сказать это с гордостью — наиболее гуманной страной.
§ 84. Опомнитесь! Так как это свободолюбие было лишь свободомыслием и потому не знало никаких границ, оно вскоре выродилось. Германия стала, выражаясь кратко, страной абсолюта. Уверовали в абсолютную свободу, абсолютное счастье и абсолютную науку. Решили, что найдена формула, на основании которой человека — даже против его воли — можно сделать свободным, счастливым и умным. Подобно тому, как Кант рассчитывал провозглашением по существу своему чисто субъективного, категорического императива утвердить абсолютную и для всего человечества обязательную мораль, так и все немцы в душе убеждены, что этот мир можно осчастливить, преобразовав его принудительным образом на немецкий лад Мы ушли далеко вперед— рассуждают они,— и весь мир останется доволен, если он будет сорганизован по-нашему. Таким путем немцы думают спасти человечество. Быть может, это ошибочно, но это так и поскольку это их убеждение, они, будучи отнюдь не менее образованы и культурны, чем англичане или французы, палят из пушек выпускают удушливые газы и готовятся к подобным вещам как к важнейшей задаче своей жизни. {224}
Француз этого никогда не поймет: он слишком легковерен и материалистичен. С его точки зрения убитый человек — убитый, удушливый газ таким же и остается и т.д.; немец же уверен, что за всем этим скрывается «идея». Для него пушки и снаряды по своей идее — средство для выполнения культурной миссии, а потому он забавляется ими, как невинный ребенок хлопушками. Эта скрытая идея объясняет все, и каждый немец ищет и находит в бомбах то, что ему требуется: верующий — своего Бога, философ — своего Канта, филантроп — человеколюбие, а обыватель усматривает в этом способ наведения порядка; квинтэссенция же всех подобных «моральных идей» воплощена в замечательных словах: «Мы их вздуем!»
Руководствуясь издавна одной лишь грубой силой, немец сделался покорным и добрым гражданином, разбогател и теперь доволен; а так как он верит в абсолют, то и думает, что все то, что для него хорошо, хорошо и само по себе, а в крайнем случае должно быть утверждено силой. Кроме того, так как немец собрал со всего мира все, что в нем было лучшего, он считает, что исполняет только свой долг, если возвращает ему лучшее, что у него самого имеется: свой порядок, свою организацию; при этом он, однако, упускает из виду, что одаряемый только в том случае может ценить дар, если последний ему не навязывается насильно.
Приходится только сожалеть о том, что наиболее сильное и надежное оружие немецкого духа — его общечеловечность — могло до такой степени притупиться, что выраженную в нем идею стали распространять при помощи силы, -а не пропаганды. Правда, немаловажную роль играют здесь погоня за успехом и стремление к власти, о чем, в частности, и свидетельствует прусский милитаризм. Но суть дела все-таки в этой всеобъемлющей идее человечества, в этом гуманизме, избравшем, к сожалению, ложный путь воздействия на других — не разумом, а силой. Однако в настоящее время твердо установлено, что только свободная и высококультурная нация становится непобедимой, и Германия восторжествует, если она будет действовать, прибегая к этому привычному ей испокон веков оружию.
В Нюрнбергской галерее висит прекрасная картина Фейербаха «Битва амазонок». Она не имела успеха у публики, которой казалась слишком безжизненной, а между тем жизнь брызжет из каждой фигуры. Мужчины и женщины изображены на этой {225} картине в каком-то странном сплетении, и трудно разобрать, любовь или ненависть столкнули их друг с другом. Сбоку юноша стоит на коленях перед амазонкой. Что повергло его наземь: ее красота или ее конь? Оба они опустили свое оружие и пристально смотрят друг другу в глаза, и если кто-либо из них вновь подымет оружие, то его толкнет на это, несомненно, не ненависть, а только любовь. В центре двое схватились, как бы объятые страстью: между тем в руках у них копье и секира. На переднем плане лежит смертельно раненная дева, заключившая в свои объятия юношу, подобно жене, прижимающейся к покидающему ее после первой брачной ночи супругу. Везде молящие взоры, везде страстные движения, везде любовь, которая кажется ненавистью и борьбой.
Эта картина вспомнилась мне при виде отправлявшейся на фронт молодежи. Юноши не чувствовали ненависти к врагу; они смеялись, весь мир был им мил, и с этой любовью и радостью в сердце они отправлялись сражаться.
Вспомнилась мне еще амазонка Пентезилея из поэмы Клейста. Опьяненная любовью к Ахиллу, она хочет овладеть им и идет на него войной, между тем как он готов сдаться ей добровольно. Так и германская армия, со своими гигантскими орудиями, удушливыми газами и подводными лодками, идет войной на молодое поколение, в то время как оно охотно готово принять веру в идею общечеловечности, проповедуемую с давних пор теми же германцами. Пентезилея, убив молодого полубога, сама умирает от горя и отчаяния. Мы же не желаем, чтобы умерла великая идея объединения человечества, но мы не хотим также и гибели Германии. Поэтому, пока еще не поздно, опомнись, германский народ! Познай самого себя!
| {226} |
§ 85. Преодоление пессимизма. Никто не станет отрицать, что между людьми существуют естественная связь и реальные отношения; весь вопрос только в том, что больше соответствует этим отношениям — взаимная ли борьба или взаимная поддержка, и должны ли господствовать в мире любовь или ненависть, альтруизм или эгоизм, право или сила
Нет человека, который был бы настолько лишен всякого человеческого чувства, чтобы он, хотя бы только в дни великих торжеств, не считал возможным верить в такие вещи, как право, альтруизм, любовь, солидарность; но, к сожалению, впоследствии он все-таки поступает по-будничному! И все это происходит оттого, что он верит в эти вещи не как в нечто реальное, а как в нечто самим им созданное, «идеальное», которое можно отбросить, если оно почему-либо не отвечает реальной политике. Между тем нет ничего более гнусного, чем так называемая реальная политика, когда она становится противоположностью идеализма Особенно затруднительно в этом отношении положение Германии: она витает в мире нравственных понятий и ссылается на идеализм такого человека, как Кант, в то время {227} как фактически она опирается на действительность и проводит реальную политику по рецепту Бисмарка. Разделяющую этих людей пропасть можно было бы еще заполнить. Но Кант выродился в Когена, а Бисмарк — в Бернгарди, и с тех пор исчезла всякая связь между этими двумя мирами; именно потому, что немец вознес нравственность в теории на небывалую высоту, он мог или, быть может, должен был на практике стать совершенно иным. Кто стремится найти квадратуру круга, тот легко может забыть даже тройное правило.
Несмотря на это, столь бесплодные попытки почти никогда не проходят бесследно: из невозможности найти для числа рационапьное выражение возникла новая наука об иррациональных числах Точно так же идеализм не остался без последствий: из невозможности осуществить требования морали на идеалистической основе возникла необходимость отыскать для этого другую основу. Ибо если кантовская Германия, не отрицая самое себя, без остатка растворилась в реальной политике, то это доказывает только, что мы не должны ограничиться формулировкой добрых пожеланий, что самый величественный воздушный замок не в силах устоять против натиска земных вожделений и что идеалистическая основа морали вовсе не представляет собой солидного фундамента.
Найти последний должно нас заставить то крушение идеализма, которое имело место в 1914 г. Оно показало яснее, чем когда-либо, что обычная идеалистическая мораль, будь она кантовская или христианская сравнима ли она, как это утверждает Кант, только со звездным небом или же, как учит церковь, пребывает в мире надзвездном, совершенно непригодна, так как никого из своих последователей она не побудила действовать морально. Из числа всех народов ни один не имеет более веских оснований искать этот новый фундамент морали, чем немцы, философия которых выдвинула столь высоконравственные проблемы. Может быть, прежде чем возвыситься, необходимо было опуститься может быть, необходима была Иена для того, чтобы дойти до Лейпцига, и, может быть, точно так же необходимо было объявить право клочком бумаги, чтобы побудить человечество отыскать более прочные гарантии, чем бумажные. Если бы это действительно случилось и если бы новое не-идеалистическое, но зато выросшее на реальной почве учение о добродетели улучшило бы людей, то и эта последняя {228} война была бы таким явлением, о котором будущие поколения могли бы вспоминать с радостью как о родившейся в муках новой общности сознания, которая, в свою очередь, будет способствовать общности деятельности человечества
Ни одна страна, быть может, не имеет столь благоприятные для этого возможности, как именно Германия. Две противоположные стороны своего существа она развивала по преимуществу, эти два течения, связанные с именами двух исполинов, суть: идеализм Канта и реальная политика Бисмарка. То и другое были настоящей войной уничтожены, потому что они не были связаны друг с другом. Надо думать, что ближайшая задача Германии будет состоять в том, чтобы эти, кажущиеся противоречивыми, стороны ее существа воссоединить по возможности в новом синтезе, высвободив почти раздавленную гармонию народного характера из тисков навязанных и чуждых ей вожделений. Полная возможность и осуществимость такого «реального» идеализма будет доказана в дальнейшем. И когда будет создана эта естественная мораль, Германия выполнит свою миссию, которая заключается не в том, чтобы продавать коленкор в Багдаде, а в том, чтобы обеспечить народам мир. Я знаю, что для этого ей нужно пройти суровую школу, без чего недостижимо познание своего собственного «я». Но случится же когда-нибудь, что немец снова станет немцем, и пятьдесят лет спустя возродится самодовлеющая Германия, гордая своим духом, а не своим оружием.
Какой-то высшей справедливостью веет от всего этого убийственного кошмара. Надо только ее осознать, и современное человечество сможет взирать на это столь же оптимистически, как воспетый две тысячи лет тому назад Эсхилом Прометей, который говорит:
|
От моей матери Фемиды, богини вечной правды, Когда-то слышал я такое изреченье, Что силе предстоит крушенье, мудрости — победа. |
Но пока еще Прометей прикован к скале и «противится всякому примирению».
Для нас может служить утешением, по крайней мере, то, что уже древнейший трагик отличался таким оптимизмом и был проникнут подобной верой в будущее. Тайна Прометея, которую {229} старался выпытать у него Зевс, обещая освободить его от оков, на что тот не соглашался, будучи уверен, что он и без того освободится,— эта тайна представляла собой не какую-либо кабалистическую формулу, как это думали схоластики, а заключалась в том, что Прометей был осведомлен о предстоящем крушении созданного волей Зевса царства богов, олицетворявшего собой воинственно-эгоистическую эпоху, в которую жил Эсхил. Прометей, подаривший человечеству в виде огня основы науки, искусства, цивилизации и техники, знал, что все эти культурные силы низвергнут царство эгоистической воли и что при их содействии восторжествует идея общечеловеческой солидарности. Как бы символом этой победы любви над эгоизмом представляется пророчество Эсхила, предсказывающего освобождение Прометея, если кто-либо другой из любви к человеку спустится в ад вместо Прометея и пожертвует собой ради него, т. е. ради всего человечества
В то время не было еще Христа, который исполнил бы это пророчество: тогда еще царила война, но люди уже мечтали о мире.
Вот в чем заключалась тайна Прометея. Самое удивительное в этой воспетой Эсхилом легенде — инстинктивная вера в эволюцию человечества Эта вера и является источником провидящего оптимизма
§ 86. Право и всемирное гражданство. Пессимизм усматривает в истории одно лишь бесцельное шатание из стороны в сторону. Она представляется ему, как это предполагает Шопенгауэр, чем-то преходящим, как бы смутным сном человечества, сном, лишенным цели или плана Я думаю, что Шопенгауэр ошибался: существует целесообразное развитие. Но хотя подтверждающие это положение факты добыты лишь естествознанием новейшего времени, все-таки во все времена существовало немало оптимистов и, следовательно, бессознательных приверженцев эволюционной теории; за исключением Шопенгауэра и древних софистов, все серьезные мыслители надеялись* что им удастся проследить «красную нить» всемирной истории и направление ее развития. Они верили в существование закона, приближающего нас к идеалу, и, как бы разнообразны ни были их взгляды, все они искали этот идеал в праве, все они шли по стопам древнего мудреца Гераклита, который провозгласил борьбу за право задачей жизни всех народов. {230}
К сожалению, эта борьба велась неодинаково даже теми, кто в сущности домогался одного и того же. Одна группа — идеалисты в обыденном смысле этого слова — пыталась привить идею права душе человека (совершенно метафизически) и улучшить таким образом человеческие отношения; материалистическое же мировоззрение стремилось, наоборот, прежде всего к внешней социальной эволюции и надеялось добиться этим путем усовершенствования души человека. Вместо того чтобы содействовать друг другу, оба течения боролись между собой. Объединение их и есть в сущности тот синтез, о котором мы уже говорили выше. Невзирая на все затруднения, человечество с тех пор, как Гераклит благословил его на борьбу, а Эсхил предсказал ему победу, значительно продвинулось вперед Во взаимоотношениях между отдельными личностями одержала верх Фемида, так как, по крайней мере в принципе, «право сильнейшего» тут не действует, но как говорит Дёйссен1, «принцип права сильнейшего, вытесненный из области внутренних отношений государства, продолжает господствовать в сфере международных отношений». Этих внутригосударственных начал и следует твердо придерживаться, чтобы не прийти в отчаяние. Ведь тот, кто изучает историю, может думать, что искать правду на Земле вообще утопично. Всюду слышен возглас «vae victis!» («горе побежденным!»), всегда какой-нибудь Бренн бросает свой меч на весы справедливости, и все еще властвует ветхозаветный закон: «сила выше права».
Откуда же берется, невзирая ни на что, эта вера человечества, что существуют вечное право, любовь к ближнему, альтруизм, человеческое достоинство и тому подобные способы обозначения того принципа, что каждый человек должен уважать в другом самого себя? Об этом спорили с тех пор, как существует мир, но всегда при этом ставили вопрос, вложен ли этот правовой принцип в нашу душу самой природой или он возник искусственно, в результате ряда компромиссов нашей умственной деятельности. Психическую природу альтруизма считали, таким образом, чем-то самодовлеющим, и вовсе не допускали мысли о том, что «общение между людьми» может быть функцией их организма и тем самым реально осязаемым явлением. Если бы это было так, то уже нельзя было бы утверждать, что право сотворено людьми. Таким образом, вечный вопрос о происхождении {231} нравственности разрешался в том смысле, что она вложена в душу человека самой природой (или божеством) или, выражаясь по-современному, что она составляет природное, имманентное свойство человека, причем первое, более метафизическое выражение соответствует инстинктивному чувству, что веления права не зависят от нашей личной воли и стоят выше человеческого разума. Так рассуждали все в силу здравого и бессознательно правильного инстинкта; за исключением того краткого периода времени, когда софисты учили, что право не дано от природы (jnsei), а установлено людьми (jnsei), всегда признавалось божественное (или естественное) право, т. е. такое право, которое существует вне воли человека, как нечто безлично реальное. Ибо, как говорил Сократ, если нет абсолютного права, то права вообще не существует. При ближайшем рассмотрении это положение становится настолько очевидным, что оно почти никем не оспаривалось.
В одном только отношении ученики Сократа расходились со своим учителем, к своей невыгоде. Игнорируя то обстоятельство, что «физика» к тому времени сменилась метафизикой, они усматривали основу абсолютного уже не в естественной реальности, как Сократ, а в метафизическом (сверхъестественном) происхождении абсолютного, как полагал Аристотель. Таким образом, то, что стали называть «естественным правом», было вовсе не естественным, а скорее правом метафизическим и притом человеческим.
Когда выяснилось это недоразумение, само собой возник вопрос, не исчезнет ли противоречие между взглядами Сократа и его противников, если удастся обосновать абсолютное право на абсолютных естественных законах. Я думаю, что это возможно, так как существует абсолютное право, которое зиждется на натуралистически доказанном понимании человечества как организма. Такая абсолютность должна нас удовлетворить, потому что выше своего собственного «я» и его естественных условий никто подняться не может. Но как только человечество постигнет это абсолютное для него право, оно узнает тайну Прометея, пессимизм будет изжит и осуществится мечта первых христиан. Тогда и все попытки метафизического обоснования права станут излишними. Но двухтысячелетние усилия в этом направлении не прошли бесследно, так как для развития идеи права важнее всего было доказать безусловность права, а в те времена, когда {232} еще не существовало настоящего естествознания, это не было возможно без метафизики.
Знаменательно и то, что все великие представители метафизической этики древности были космополитами. Очень часто забывали, что это вполне естественно, так как абсолютное право должно быть обязательно для всего человечества. Иисус был не первым космополитом: еще Сократ проповедовал всеобщее братство народов, за что афиняне поднесли ему чашу с ядом, подобно тому как ныне те, кто не мыслит в духе национализма, подвергаются оскорблениям со стороны невежественной массы.
Но так как смерть Сократа произвела сильное впечатление на его учеников, от которых мы только и имеем сведения об их учителе, то они мало распространялись на эту тему. Тем не менее она, вероятно, была многим известна, ибо даже Эпиктет, малознакомый с литературой, пятьсот лет спустя ссылается на афинского мудреца, указывая на свою веру в существование общего отечества всех людей. Если правда — говорит он,— что, как утверждают философы, между божеством и людьми существует родство, то им не остается ничего другого, как на вопрос об их отечестве ответить подобно Сократу «Я не афинянин и не коринфянин, а гражданин мира».
Подобные взгляды встречались на Западе сплошь и рядом, особенно среди циников и стоиков. Но и на Востоке можно найти аналогичные примеры в древнеиндийской и китайской литературе. Вообще это были только проблески мысли в умах немногих выдающихся людей, и только с начала нашей эры, на что впервые указал Толстой, идея всемирного гражданства, как «вариант идеи человечества», ожила во всем мире. В то самое время, когда Сенека проповедовал в Риме всеобщую любовь, еврейский ученый Гиллель излагал подобные же мысли в Вавилоне, а Конфуций вещал о братстве на Дальнем Востоке. Тогда же возникло христианство. О всеобщем братстве говорят уже апостол Павел, а также отцы церкви и первые схоластики, причем, однако, революционный характер этой идеи умертвил ее саму, так что космополитическое «царство Божие» пришлось постепенно переместить с Земли на небеса.
Так же мыслили и философы-миряне, независимо от своей принадлежности к той или иной школе; все они были космополитами. Но затем настало время, когда пробудившееся национальное чувство отодвинуло на задний план идею всемирного {233} гражданства. Это произошло впервые во Франции и Англии, потом в Германии, а в настоящее время это наблюдается у малых народностей, например чехов и украинцев, между тем как в Англии и во Франции вновь усилились космополитические тенденции. Принято думать, что одна только мощь народа способна наделить его правами; всякий избегает называть себя гражданином мира, в лучшем случае причисляя себя к интернационалистам.
§ 87. Право и сила. Если, следовательно, сама идея права заключает в себе как бы молчаливое признание всемирного гражданства, то отсюда с необходимостью вытекает, что право и война не могут существовать рядом. Тем не менее каждый твердит о справедливости своей войны, так как каждому человеку присуща уверенность в справедливости именно своего дела Кастилианский или сицилийский разбойник грабящий одних только богачей, думает, что он осуществляет какую-то справедливость. Едва ли найдется вообще какой-либо настоящий преступник, действующий под влиянием страсти, который не был бы в состоянии отыскать в своем подсознательном «я» какого-либо нравственного оправдания для своего поступка; даже тот, кто идет на преступление с корыстной целью и холодным расчетом и добывает себе богатство и славу, рискуя попасть в исправительный дом, убежден, что он не переходит границ закона.
Если это справедливо по отношению к единичным личностям, то тем более верно по отношению к массе. Если 100 человек делают одно и то же, то каждому в отдельности инстинкт подсказывает, что данное деяние справедливо. На войне это стадное чувство проявляется сильнее всего. Не приходится поэтому надеяться на то, что какой-либо народ начнет сомневаться в справедливости своей войны.
Существует ли какая-либо объективная точка зрения, позволяющая судить о справедливости той или другой войны? «Inter arma silent leges» («во время войны законы безмолвствуют») — говорили отнюдь не сентиментальные римляне, которые и в данном случае рассуждали последовательно: война, как таковая, означает устранение правовых понятий; обращаясь к оружию, люди выражают тем самым свое нежелание признавать право высшей инстанции; они противопоставляют праву силу. Можно смотреть на войну как на естественную необходимость, как на непредотвратимую болезнь, как на целебное средство, {234} как на расовый инстинкт и тому подобное, но справедливой ее нельзя назвать никоим образом, не разрушая тем самым представления о праве и справедливости. Еще Платон говорил: «Нет худшей несправедливости, чем та, которая прикрывается правом», и почти то же самое сказал в 186 г. нашей эры один из римских консулов, мотивируя перед римлянами необходимость уничтожения вакханалий, в которых «впервые выявилось безграничное распутство, укрывшееся за завесой богами установленного права». В Риме казнили в то время несколько тысяч распутников; мы же, из ложной сентиментальности, боимся хотя бы сказать правду садистам, апологетам войны, потому что они руководствуются якобы идеальными соображениями.
«Сопротивление несправедливости обязательно», — говорит Иеринг в своей книге «Борьба за право». Требует ли доказательства положение, что война против войны — сопротивление несправедливости и как таковое является обязанностью каждого? Разве не непреложная истина, что, как говорит Вебер, «в идее права уже заключается идея мира»? Что послужило поводом к войне, это совершенно безразлично; как бы справедлив ни был факт сам по себе, но раз взялись за оружие во имя какого-либо дела, это дело становится уже несправедливым: оно перестает быть объектом права и превращается в объект силы.
Для того чтобы возникло правовое отношение между двумя лицами, необходимо, чтобы они заключили друг с другом соглашение, а это они могут сделать лишь в том случае, если они, как выражаются юристы, способны к правотворчеству, если они инстинктивно считают себя, как сказал бы натуралист, членами правовой общины. Тут и выступает на сцену государство как представитель единой общей воли, как живой сознательный организм. И подобно тому как единичное лицо — не только индивидуум, но и одновременно часть государства, следовательно, гражданин, точно так же каждое государство является частью всего человечества и, следовательно, как бы коллективным гражданином мира. Отсюда вытекает юридическая возможность объединения отдельных народов в единую общечеловеческую правовую общину.
Из этих бесспорных предпосылок получается следующий вывод: правовой порядок среди людей немыслим без признания всеми ими государственной общины; правовой порядок среди {235} государств точно так же невозможен, если ими не признан какой-либо стоящий над государствами коллектив. Всякая тяжба об имуществе (как и разбор уголовного дела) доказывает, что обе стороны — пусть не добровольно, а, может быть, даже вынужденно — подчиняются государству как высшей инстанции. Всякий самосуд есть отрицание государства То же самое наблюдается и по отношению к государствам: всякая самопомощь, всякая война отрицает сверхгосударственную организацию и разрушает тем самым единственно возможный источник права «Справедливая война» поэтому, с юридической точки зрения — внутреннее противоречие.
Исключительно при тех условиях, при которых вообще допустима самопомощь, в виде необходимой обороны, народ вправе сопротивляться силой. Лишь в том случае, когда кто-либо посягает на прирожденные, неотъемлемые права отдельной личности или целого народа, позволительно прибегнуть к самообороне против кого бы то ни было. Такой революционный метод допустим и для меньшинства в его борьбе с большинством. Войны прекратятся когда окрепнет мировая организация, революции же не исчезнут никогда.
Теперь остается еще упомянуть о созданном людьми международном праве, постановления которого не должны терять силы даже во время войны Тут как будто открывается возможность согласования права с войной; но это только так кажется. То обстоятельство, что до сих пор не было еще войны, во время которой международное право не было бы нарушаемо, не имеет значения и не имело бы его и в том случае, если бы подобные нарушения не были исключениями, а обратились бы в правило; идея международного права пострадала бы от этого так же мало, как мало пострадала бы идея гражданского права, если бы внутри государства правонарушители составляли большинство. С другой стороны, самое добросовестное соблюдение военных обычаев не могло бы установить связи между войной и правом, ибо там, где существует международное право, не может быть войны, а где есть война, там не может быть международного права. Принцип международного права, предписывающий щадить раненых, означает лишь, что с ранеными не воюют; точно так же и другие международные постановления доказывают только, что известные части государственного механизма не {236} участвуют в войне. Ибо что же означают в сущности те или иные нормы международного права как не то, что известные объекты и во время войны остаются как бы неприкосновенными? Тут, подобно экстерриториальности посольств в чужой стране, тоже создается своего рода «экстерриториальность».
Международное право может существовать во время войны и наряду с ней, и где оно существует, там оно суживает границы войны; быть может, настанет время, когда оно сведет ее на нет. Поэтому следует с радостью приветствовать все попытки создать международные нормы войны, но только не следует предаваться иллюзии, будто этим путем удастся примирить войну с правом; напротив, приходится сознательно считаться с тем, что именно здесь право борется со злейшим врагом, с войной.
На деле никто не признает действующее ныне международное право правом в настоящем смысле этого слова; это, кроме всего прочего, подтверждается прежде всего постоянно раздающимися угрозами применения «законных» репрессалий и осуществлением таковых Пленным французам в Германии сократили хлебный паек, что было вполне понятно, потому что, вследствие мероприятий противника, хлеба в Германии стало мало. Но в сущности это уже совсем не так естественно: если кто-либо принимает на себя обязательство заботиться о своих военнопленных в известной мере, то он это и должен выполнить даже в том случае, если бы он сам терпел нужду, подобно тому как в обыденной жизни всякий должен уплачивать свои долги, хотя бы в связи с этим ему самому не хватало на пропитание. Но, как бы то ни было, никто не может при данных условиях серьезно упрекать за это Германию. Однако французы не только усматривали в этом варварство, что было бы, пожалуй, понятно, но и решили одновременно установить такую же голодную норму пайка и для германских пленных, для чего у них не было решительно никакого основания, так как Франция совершенно не нуждалась в хлебе. С другой стороны, англичане не рассматривали команды наших подводных лодок как военнопленных, а сажали их попросту в тюрьму за то, что они атаковывали торговые суда. Немцы считают это явной несправедливостью, «так как наши моряки попадали в плен к англичанам при исполнении ими своего воинского долга» (по отношению к отдельным {237} лицам это правильно, как бы ни смотреть на факты потопления торговых судов). Но Германия не удовлетворилась протестом, а посадила три дюжины английских офицеров в военные тюрьмы, сознавая, что они тоже не сделали ничего противного правилам воинского долга
Можно, конечно, согласиться с тем, что репрессалии имеют в виду прекратить какую-либо несправедливость и что, следовательно, в них коренится известная идея, но легко доказать, что подобный прием неуместен и не достигает цели: если рассматривать нарушения Женевской конвенции или других постановлений международного права как действительные правонарушения, то так поступать не следует: никто не станет красть, потому что другой его обокрал, и никто не будет обращаться с преступником иначе, как согласно праву и закону. Репрессалии же ничего общего с правом не имеют. На эту, казалось бы, единственно правильную точку зрения стали только русские интеллигенты, заявившие в своем воззвании, что война влечет за собой всякие эксцессы и что они, русские, считают своим долгом протестовать против тех несправедливостей, которые чинят именно русские войска; остальное же касается других народов. Но большинство других народов протестовало, наоборот, против «позорных деяний» неприятеля, а образ действия своих армий обрисовывало в возможно благоприятном свете. В одной только Англии значительное меньшинство старалось и в этом отношении соблюсти объективность.
Далее: никто, даже в Германии, не станет отрицать того, что, например, вступление нашей армии в Бельгию, потопление торговых судов и применение ядовитых газов противоречат постановлениям международного права. Но, как на это указал имперский канцлер Бетман-Гольвег, если считать вообще войну допустимым явлением, то для народа, борющегося за свое существование, международное право не может служить руководящим началом. Как это ни печально, но нельзя отрицать некоторой основательности подобного взгляда, хотя тем самым в сущности подтверждается, что так называемое международное право — вовсе не право, так как при применении его возможны различные оговорки и исключения; право же не терпит исключений и вообще не является какой-то величиной, которая может быть улучшена или ухудшена количественно путем ее увеличения {238} или уменьшения. Во всяком случае, это неприменимо к тому праву, о котором здесь идет речь.
Слово «право» (Recht) обнимает собой два совершенно различных понятия: моральное право (Right) и действующее право (закон, law); но есть, кроме того, еще и третье понятие: субъективная мораль человека (justice, справедливость). На этой почве могут, конечно, возникнуть разные недоразумения, и французское выражение «la raison du plus fort» точнее немецкого «Das Recht des Starkeren» («право сильнейшего»). Это право — право только по названию, и с тем правом, которое базируется на морали, ничего общего не имеет. Но ведь борьба с предрассудками нередко является борьбой с неправильными выражениями, и созвучие в словах, выражающих понятие, с одной стороны, права, основанного на силе, а с другой — того права, которое покоится на чувстве ответственности или долга, натворило немало бед.
В действительности право часто создается сильным. Это знали и в древности. Так Пиндар говорил: «Закон освящает своей победоносной рукой любое насилие». Уже в те времена пытались обосновать такое право натуралистическими (как бы дарвинистическими) соображениями. Калликл говорит, например, следующее: «В государстве, как и в природе, более сильный должен властвовать над более слабым; в этом и состоит нравственный закон природы». Сократу и Платону известно, что «существующее право основано на случайных проявлениях силы», но эти мыслители высказываются в том смысле, что такой взгляд однако, не соответствует требованиям нравственности.
Со времен Сократа вопрос о том, должен ли человек быть идеалистом или реалистом, служит предметом постоянного спора Но если даже все без исключения люди в теории тяготеют к тому праву, которое они чувствуют в своей душе как неотъемлемый идеал, то все-таки большинство из них следует за трезво рассуждающим Аристотелем, довольствовавшимся констатированием факта, что в сущности справедливости на Земле не существует. Только в краткий период первобытного христианства более значительные массы предавались мечте о справедливости; однако беспощадные факты скоро покончили с этими мечтаниями, и даже такие, проникнутые сознанием права и справедливости, люди, как Спиноза, в конце концов соглашались {239} с тем, что «права каждого простираются только до тех границ, до которых доходит его сила». В лучшем случае подобное откровенное признание пытались смягчить пояснением: «божественное начало, заключающееся в каждом человеке, не допустит слишком большого злоупотребления силой».
Долго господствовала эта пессимистическая нерешительность (Гоббс, Мальбранш и др.), и проведение, для облегчения народного понимания, резкой грани между «юдолью печали» и «небесным раем» делало всякие рассуждения на этот счет совершенно излишними. Только в последнее время широкие массы пожелали вкусить «блаженство рая уже на Земле» и поэтому снова задались вопросом, в чем же заключаются их права Но некоторые революционеры повторили ошибку феодальных угнетателей прошлого, пытаясь свое новое право провести путем насилия. Уже Руссо отстаивал положение, что в этом мире эгоистичного интереса очень часто приходится добро насаждать силой, а люди вроде Робеспьера и Сен-Жюста претворяли эту мысль в дело. Этот, сам по себе весьма понятный, рецидив метода старого режима, конечно, препятствовал последовательному и радикальному водворению желательного порядка. Если вдохновенные поборники нового права сами применяли силу, то неудивительно, что к ней постоянно обращались военные и дипломаты.
Поэтому преклонение перед силой распространено в настоящее время больше, чем когда-либо, и весьма знаменателен факт, что и в Германии человек, который в глазах народных масс представляется первым провозвестником основанного на справедливости государства будущего, в то же самое время проповедовал старый принцип права сильнейшего. Это был Фердинанд Лассаль, столь резко нападавший на учение о приобретенных правах и снова возбудивший спор о силе, предшествующей праву. В своих речах и брошюрах о конституционализме он стоял на той точке зрения, что и вопросы конституционализма (или, вообще говоря, правовые вопросы) являются вопросами силы, потому что существующее право представляется функцией действительного соотношения сил; поэтому писаное право только в том случае имеет значение и шансы на существование, если оно является точным выражением существующего соотношения сия Это смелое положение Лассаля, по-видимому, оправдывает всякое насилие, грабеж, и пр., {240} и реакция, конечно, сейчас же учла это. Прусский военный министр фон Роон заявил 12 сентября 1862 г. в палате депутатов: «Главное содержание истории (как во взаимоотношениях между отдельными государствами, так и внутри их) заключается ни в чем ином, как в борьбе за власть и за ее расширение». Тогдашний министр-президент Бисмарк в некотором смысле согласился со своим социалистическим противником, сказав (1862 г.), что «подобные правовые споры обыкновенно разрешаются не при помощи сопоставления противоречивых теорий, а лишь постепенно, в процессе государственно-правовой деятельности». В устах названного реального политика это, конечно, звучит как признание «существующего соотношения сил». (Сказал ли вдобавок Бисмарк, что «сила предшествует праву», об этом долго спорили; сам он отрицал это.)
§ 88. Революция и эволюция — война и право. Однако была ли произнесена Бисмарком эта фраза или нет, тезис «сила предшествует праву», без сомнения, отвечал действительности с самого начала человеческой истории, и вопрос может заключаться только в том, был ли этот факт возведен в принцип.
Все согласны с тем, что грубая сила не должна пренебрегать установленными правовыми нормами, но при этом говорят, что правовое сознание меняется, а потому время от времени приходится в силу необходимости издавать новое право, что при данном условии невозможно иначе, как путем использования для этой цели силы; поэтому в данном случае сила безусловно является предпосылкой права. Но, в конце концов, подобная аргументация есть только игра словами, как это выясняется при ближайшем рассмотрении каждого конкретного случая.
Можно, например, сказать, что во время Французской революции 1789 г. победили не право, а сила народа. Но то обстоятельство, что сила могла победить, что она не осталась простой революционной вспышкой, а произвела коренной переворот во всех правовых отношениях той эпохи, показывает, что положение, существовавшее до революции, воспринималось всеми как вопиющая несправедливость. Новое право, следовательно, уже давно существовало в скрытом виде в народном сознании, и только незначительное меньшинство противопоставляло ему свое воображаемое, в действительности уже исчезнувшее право, стараясь воскресить его всякими методами насилия. Одержанная, {241} по существу, силой революционной мысли, а внешне силой революционного действия, победа была в сущности победой нового права.
Многим эти рассуждения покажутся, быть может, слишком путаными. В некотором смысле это так и есть; но именно эта возможность жонглировать словами доказывает, что право и сила — понятия едва ли строго различимые. Если, впрочем, допустить, что только настоящее право может проявляться более или менее постоянно, то положение «сила предшествует праву» имеет свое оправдание; но можно сказать и обратное: «право предшествует силе», что означало бы, что подлинное новое право сильнее веками скрепленной власти, на какие бы внешние силы последняя ни опиралась. Эта борьба нового права со старой властью будет происходить всегда; она же является и основанием для революции. Последняя может, однако, восторжествовать только в том случае, если правосознание всего народа настолько ослабнет, что это новое право он и будет считать настоящим правом. Другими словами, революция может осуществиться только в том случае, если предшествовавшая ей эволюция преследовала одинаковую с ней цель.
Так или почти так обстояло дело со всеми революциями, совершались ли они духовным путем или при помощи оружия. Все они имели предшественников, которые погибли потому, что новое право не стало еще силой. Сократ умер, не оказав существенного влияния на общество, великая же революция человечества связана с именем Христа Гус погиб, а Лютер восторжествовал, Галилей должен был отречься от своего учения, а Ньютон положил начало современной науке. Точно так же Французской революции, пожалуй, не было бы, если бы ее не подготовил Вольтер, Мабли, Руссо и многие другие. Право на новую жизнь воплотилось в этих предтечах; старые воззрения в их время уже прогнили, но чего-то еще недоставало: время и люди не созрели, научное, этическое и политическое правосознание еще не изменилось, не эволюционировало в достаточной степени. Но эти «предтечи» постепенно пересоздавали прежнее правосознание. И всегда в таких случаях наступал известный момент, когда старое право переставало существовать. Если в такое время пережившие представители этого отмиравшего права добровольно приспособлялись к новому, то и с внешней стороны царил покой. Однако в большинстве случаев они этого {242} не делали, а пытались сохранить старое положение вещей. Тогда становилось неизбежным проявление известной силы. Впрочем, тот напор, под которым рушится подгнившее строение прежнего права, имеет лишь второстепенное значение. Он, во всяком случае, не причина, а лишь симптом данного явления. Но так как постороннему наблюдателю он кажется тесно связанным с происшедшим обновлением, то многие думают, что он и создал новое право. Это предположение они выражают словами «сила предшествует праву».
Думают, что решающее значение имеет эволюция, а не революция; новое право побеждает и помимо революции, но нетерпеливое человечество иногда стремится ускорить эту победу искусственным образом. Иногда ему это удавалось, но часто оно ее замедляло.
То же самое происходит и с проявлением военной силы: если германский народ таит в себе те психические и физические особенности, которые могут доставить ему мировое господство, то он достигнет последнего и без войны; если же он не обладает соответствующими качествами, то ему не поможет никакая война. При разрешении вопросов силы в истинном смысле этого слова война является лишь мимолетным и маловажным фактором. Победа на поле сражения походит на революционную вспышку, которая может быть быстро ликвидирована, если стоящая за ней действительная перегруппировка общественных сил не превратит ее в настоящую революцию.
Дело, однако, в том, что до сих пор трудно было внушить кому-либо, что роль этих побед ничтожна. Напротив, в истории расцвета или падения какого-либо народа всегда усматривали проявление какой-то справедливости судьбы, а так как до настоящего времени все великие исторические события неизменно сопровождались военными выступлениями, то в каждом отдельном случае их ставили в связь с той или другой войною, им предшествовавшей. Таким образом сложилось убеждение, что война является судом Божьим.
В древние времена наивно верили в подобное вмешательство богов. Боги Олимпа сражались под стенами Трои; древнегерманские валькирии тоже принимали участие в боях, и как Зевс, так и Вотан старались в подобных случаях дать восторжествовать правде. Древний же Иегова вступался главным образом за национальные интересы своих детей. Немыслимо объяснить, каким {243} образом это происходило, да и современные люди не представляют себе, как осуществляется на деле то, о чем они просят в своих молитвах, но, во всяком случае, во все времена люди смотрели на войну не как на разрешение вопроса о силе, а как на средство добиться своего права, и тот мистический порыв, который сделал «суды Божьи» (ордалии) органической частью земного правосудия, освятил также войну. Подобно тому как верили, что в судебном поединке Бог поможет победить тому, кто прав, что невинный не утонет в воде, не обожжется о раскаленное железо и не будет отравлен ядом, точно так же были убеждены, что небесные силы на стороне того войска, которое ведет угодную Богу войну. Это упование на личную помощь Бога на войне уступило затем место убеждению, что «Бог на стороне сильных батальонов», что на войне осуществляется какая-то «высшая справедливость». Но именно оттого, что в человеческих взаимоотношениях решающую роль играет эта «высшая справедливость», взгляд на войну как на суд Божий представляется бессмыслицей, ибо интеллигентный верующий человек едва ли поверит, что эту справедливость можно привлечь на свою сторону силой оружия, и только суеверный ханжа способен рассчитывать на то, что ему удастся использовать Бога в своих личных интересах и упросить его, чтобы он помог ему защитить на войне свое действительное или воображаемое право.
«Только истый христианин может быть хорошим солдатом». В этом звучащем как издевательство над христианским заветом любви к ближнему положении заключена доля истины: среди высоконравственных людей только тот, кто отличается детской наивностью, способен взяться за оружие. Только тот, кто глубоко убежден, что высший судья дарует победу тому, кто прав, может быть одновременно и воином, и нравственной личностью.
Собственно говоря, нет необходимости особенно подчеркивать моральную сторону войны, раз этой стороной так легко пренебрегают в других случаях. Мы могли бы примириться, говорит Вольтер, с тем, что в этом прекраснейшем из миров будет немножко больше или немного меньше несправедливости; если в экономической борьбе гибнут миллионы, то что мешает нам предоставить любителям сильных ощущений удовольствие уничтожать друг друга тысячами в настоящем, честном бою?
Во всяком случае, дело тут не в словах и не в том или другом названии; подобно тому как человек умирает от рака, хотя бы {244} врач назвал эту болезнь доброкачественной опухолью, так и война влечет за собой неизбежные последствия, независимо от того, называем ли мы ее справедливой или нет. Большинство людей придает, однако, большое значение словам, и лишь немногие одаренные разумом существа, как, например, принцесса с Луны1 у Сирано де Бержерака, не понимают этого; она недоумевала, почему люди, ведущие войну, если они полагают, что право на их стороне, не обращаются к третейскому суду.
В наше время в этом ироническом вопросе, по-видимому, совершенно не разбираются и более, чем когда-либо, налегают на слова «справедливая война». Между тем подобное обозначение войны для определения ее сущности никакого значения не имеет, но говорить об этом все-таки приходится, чтобы показать, что те, кто сознательно называют войну справедливой, ссылаются, в сущности, на «право сильнейшего», т. е. на своего рода естественную справедливость, которая, однако, как это будет доказано в последующем, не имеет ничего общего ни с правом, ни с естествознанием. Следовательно, с самого начала отпадает возражение, будто в вопросах войны естествоведение некомпетентно, так как тут играют роль якобы более сокровенные этические причины.
§ 89. Борьба как естественное право. На первый взгляд кажется невозможным обосновать какие-либо обязанности природой, ибо природа сама по себе не знает ни права, ни правонарушения, ни несправедливости, и даже само выражение «закон природы» есть как бы contradictio in adjecto, вводящее лишь в заблуждение. По мнению древних греков, все вещи были либо «от природы» (jnsei), либо «установлены людьми» (nesei); в новейшее же время эти противоположности стараются примирить посредством сочетания двух слов и говорят о «закономерности природы». Ныне такое выражение, как «закон природы», является общепризнанным термином, но все же оно напоминает собой время, когда верили во что-то обусловливающее законы природы. Эти законы считали, каждый со своей точки зрения, то {245} справедливыми, то несправедливыми, почему и полагали, что существует какое-то естественное право.
На самом же деле для натуралиста не существует ни закона, ни права, а имеются одни только факты и необходимая связь между ними, или, другими словами, условия, при наличии которых нечто происходит или не происходит. Если бы факт, что магнит притягивает железо, был законом, то железо всегда и везде должно было бы следовать этому закону. На самом же деле магнетизм является лишь одним из условий, в силу которых железо может быть приведено в движение, и если, например, тяжесть преодолевает силу магнетизма, то железо не подчиняется этому мнимому закону.
В сущности, при тех или иных условиях все возможно. В действительности же эти возможности настолько ограничены «условиями необходимости», что известная возможность повторяется всегда закономерно, как безусловная необходимость. Камень, находящийся в пространстве, может двигаться в любом направлении, в зависимости от полученного им толчка; но поблизости от Земли, где действует сила притяжения, он всегда, если только нет других препятствий, будет стремиться к центру Земли.
Точно так же и каждый человек сам по себе от природы обладает возможностью, которую он может назвать своим данным ему от природы правом делать все то, что лежит в пределах его физических сил. Так, например, каждый человек имеет, без сомнения, неограниченную возможность убивать других, грабить их, насиловать женщин, не работать, заражаться болезнями и умирать. В этом смысле и каждый индивид в отдельности, и весь народ «вправе» вести, например, войну, поскольку природа предоставила ему к тому возможность, но эта фактическая возможность делать все что угодно ничего общего не имеет с тем, что мы подразумеваем, когда говорим о праве.
Вообще, при выборе между различного рода возможностями нужно иметь пред собой для ориентировки известную цель. Но такие «цели» — по крайней мере, в качестве этических требований — находятся по ту сторону естества. Правда, естествоведение имеет право и даже обязано при известных обстоятельствах указать, что то или иное стремление должно сообразоваться с требованиями нравственности, должно существовать в психике некоторых личностей, подобно тому как оно может {246} установить и то, что в известных кусках железа заключается магнитная сила, притягивающая железо. Но что такое магнетизм и что такое нравственное требование, на это естествоведение не дает ответа; в обоих случаях оно может только исследовать, «при каких условиях обнаруживается то и другое».
Так, например, мы стоим перед фактом, что большинство людей (или, скажем осторожнее, некоторые люди) боятся совершить убийство. Будем ли мы эту боязнь рассматривать как известное право или будем просто считаться с этим фактом, совершенно безразлично. Точно так же нельзя отрицать и того факта, что не только среди первобытных народов, но и среди современных европейцев встречаются люди — частью психически больные (или с преступной наклонностью), частью же совершенно нормальные,— которые не испытывают этой боязни; иногда кажется даже, что почти весь народ данной страны утратил подобную боязнь. Все это факт, или, если хотите, природой данное человеку право. Во всяком случае, никто не имеет возможности ограничить это право, а потому оно действительно неотъемлемо. Если мозг какого-либо человека устроен так, что всякое убийство кажется ему грехом, то нельзя отнять у него этого сознания ни предписанием закона, ни убеждением, ни наказанием. Но можно воспрепятствовать ему осуществлять это право, и, в самом деле, государство заставляет тех из своих граждан, которые проявляют нередко встречающееся поползновение обогатиться за счет жизни другого, не следовать этой страсти; временами же, наоборот, оно принуждает стать убийцами таких людей, которые не в состоянии даже видеть кровь. То и другое делается с одинаковым успехом. В Германии ежегодно раскрывается не более 400 убийств (это составляет одно на 200 000 человек населения); между тем едва ли можно предположить, что такое же число граждан отказалось повиноваться приказу совершить убийства, явившемуся результатом возникновения войны. Это число дало бы (если бы имелась статистика по этому вопросу) приблизительно одного на 20 000 военнообязанных. В том и другом случае процент ослушников закона ничтожный. Само собой разумеется, что как влечение, так и отвращение к убийствам составляет не менее прирожденное право людей, чем приказ или запрет убивать людей. Однако и тут было бы более уместно говорить не о правах, а о разнообразных возможностях человеческой природы: веления и {247} запреты не что иное, как такие же ограничения, какие мы наблюдаем при каждом явлении природы. Всякий камень, будучи предоставлен самому себе, падает, т. е. подвержен необходимости — или, если угодно, имеет право — падать, и мы привыкли рассматривать это явление как нечто, происходящее по законам природы. Но стоит только поставить достаточно прочную опору, и камень, который все еще имеет право упасть, уже не падает; можно сказать, что он обладает лишь тенденцией (склонностью) к падению.
Если же мы стесним камень со всех сторон, например, если мы вделаем его в стену какой-нибудь постройки, то мы лишим его целого ряда возможностей перемещения, но не всех; так, например, он будет расширяться от действия теплоты; соединенный с другими камнями, он станет даже более устойчивым, но уже не будет в состоянии упасть и тем самым разбить кому-либо голову. Точно так же и люди, подобно камням в постройке, объединены в огромные организации. Общество, как говорит Сенека, походит на каменный свод, который рухнул бы, если бы камни не поддерживали друг друга. «Склонность» или «прирожденные права» людей продолжают существовать, но вытекающие из этих склонностей действия стали невозможными.
Собственно говоря, совершенно бесцельно рассуждать об этих так называемых прирожденных правах человека. Они слишком разнообразны, а так как они вместе с тем и строго индивидуальны, то их никак нельзя объединить. Все противоположности в этой области имеют одинаковое право на существование. Кто чувствует в себе категорический императив воевать, имеет право на такое чувство и может сообразно с ним поступать, если только общество не противится этому. Тот же, кто чувствует в себе нравственное веление противиться войне, имеет и на это неотъемлемое право и тоже должен иметь возможность как-либо выразить свой протест, если общество не ставит ему в этом отношении преград.
Словом, все существующее имеет возможность и склонность, а следовательно, и право, проявить себя. Но это предполагает борьбу. Прирожденное и неотъемлемое право на борьбу и составляет высшее достижение человечества. Но так как среди всех тех прав, из-за которых происходит борьба, нет таких, которым не следовало бы отдать {248} преимущество, то, по-видимому, невозможно установить в этом отношении чего-либо обязательного для всего человечества Одно только право на борьбу можно считать имеющим силу для всех индивидуальных возможностей души; если хотите, это право единственное, которое можно вообще признать подлинным естественным правом.
§ 90. Закон организма. Здесь мы должны коснуться самой проблемы войны. На первый взгляд казалось бы, что эта неудержимая борьба всех против всех знаменует собой непрекращающуюся анархию и нескончаемую войну; но это не так Если мы хотим пользоваться этим правом на борьбу и на проявление своей личности не так, как камень или снаряд который тоже проявляет себя, когда он сокрушает все встречное или сам разбивается о препятствия, а так, как это подобает мыслящему и стремящемуся к известным целям существу, то мы должны выяснить, для чего и ради кого ведется эта борьба: в личных ли интересах, в защиту ли отечества, культуры и т. п. Затем следует себя спросить, какими средствами ведется эта борьба, ибо борьба не всегда означает войну. Война только одна из возможных форм борьбы, которая может вестись различными способами: убеждением, силой, идейным или физическим воздействием, созидательными или разрушительными методами.
Существует, таким образом, множество целей и средств борьбы, и в каждом отдельном случае вопрос заключается только в том, пригодно ли данное средство для данной цели. Но спрашивается, пригодна ли война вообще для достижения какой-либо цели, национальной или космополитической, идеальной или материальной? Этим, однако, вопрос не исчерпывается, так как все это имело бы значение только для людей, стремящихся к известной цели и ищущих таковой. Существует, однако, масса людей, которые вообще отрицают целесообразность и которые рассуждают так: подобно тому как я ощущаю иногда удовольствие, не спрашиваю себя, преследую ли я при этом какую-либо цель, так же точно я испытываю удовольствие и от войны, даже бесцельной, войны ради ее самой. Надо примириться с тем, что существуют подобные люди, и не осуждать их, несмотря на все презрение к ним. С ними можно спорить только на почве совершенно беспринципной науки естествознания, и именно тут обнаруживается целесообразность такого метода отыскания {249} истины. Естествоведение задается лишь вопросом, при каких условиях камень падает и при каких он не падает, совершенно не интересуясь тем, произойдет ли от этого что-либо хорошее или дурное. Так следует поступать и по отношению к войне; здесь надо прежде всего исследовать индуктивным и эмпирическим путем условия, которые, при наличии многих других возможностей проявления человеческого духа, вызывают необходимость войны, а не чего-либо другого. Иным образом нельзя выяснить этот вопрос. Так, например, Фришейзен-Келер («Проблема вечного мира», 1915), пытаясь дедуктивным путем развить мысль о возможности вечного мира, приходит к заключению, что «войны не могут прекратиться благодаря естественной эволюции», потому что «они не представляют собой естественной необходимости». Но если войны не вызываются естественной необходимостью, то они являются результатом случайных причин; следовательно, и прекращение их будет делом случая. Вывод берлинского философа, таким образом, безрезультатен; из его предпосылки (война есть нечто случайное) не следует ни того, что она должна продолжать существовать, ни того, что она должна когда-либо прекратиться. Чтобы получить надлежащее представление о войне, необходимо попытаться объяснить ее как необходимость в каждом отдельном случае, ибо только тогда, когда мы установим, при каких условиях она необходима, мы сможем решить, когда и при каких условиях она будет не нужна или даже невозможна. Этому вопросу я посвятил первые две главы настоящей книги, в которых идет речь об «инстинкте войны» и о борьбе за существование в связи с войной.
Там мы видели, что война является как бы переходным состоянием стремящегося к своему совершенствованию человечества, что ее время уже миновало и что она продолжает пока еще существовать как освященное обычаем право. Теперь же, когда мы знаем, что война органически не связана с природой человека, мы можем задать вопрос: что же служит нерушимым и вечным принципом для человечества? Существует ли вообще такой принцип и имеется ли, помимо индивидуальных нравственных законов (категорических императивов, обязательных для каждой отдельной личности), еще самодовлеющий высший нравственный закон, веления которого распространялись бы на всех людей и который являлся бы мерилом актуальности отдельных индивидуальных императивов? {250}
Подобный нравственный закон, как мы увидим ниже, несомненно существует, и, как бы это ни казалось странным, он основан на физической природе человека, а так как он заложен в самом организме человека, то он столь же реален, как и самый организм: поэтому он категоричен в совершенно другом смысле, чем нравственные законы Будды, Христа или Канта. По своему же содержанию он одинаков с учениями названных трех лиц.
Этот общий нравственный закон можно было бы вывести из чистого понятия естественного права: право, которое покоится исключительно на самоопределении, остается сомнительным, пока оно переплетается с другими правами. Подобное естественное право или естественное влечение должно базироваться на таком организме, который существует самостоятельно и не затрагивает прав других. На этом свете имеются только два феномена, отвечающие этим требованиям: во-первых, индивидуальная личность и, во-вторых, все человечество как единый организм. Индивидуальная личность занимает весьма выгодное для себя положение благодаря «относительной замкнутости» всех своих функций, которая ничем не может быть нарушена. Человечество как единый организм (если вообще можно признать существование его в таком виде, что мы постараемся доказать в последующем) естественно находится в таком положении, ибо здесь, на земле, оно почти совершенно изолировано от всяких высших космических влияний. Не существует, следовательно, таких высших чужих прав, с которыми ему приходилось бы считаться. Все же промежуточные образования, вроде семьи или государства, представляются только случайными и непостоянными продуктами наших столь изменчивых нравов и потому не могут быть признаны естественными объединениями (это разве только условные и основанные на соглашениях коллективы). Единственными неизменными и, следовательно, стоящими вне всяких соглашений организмами являются человек и человечество. Одни они составляют фундамент всякого права. Поэтому существует только общечеловеческое право и право отдельной личности, сознающей свое право по отношению ко всему человечеству.
Чувство, которое возникает в нас благодаря тому, что мы сознаем себя частью общего организма — человечества, мы называем альтруизмом. Чувство же, возникающее на почве усвоения {251} нами того факта, что мы как личность образуем отдельный, в некотором роде замкнутый в себе организм, мы называем эгоизмом. Альтруизм и эгоизм не составляют, таким образом, безусловной противоположности, а представляют одно и то же чувство, направленное только на разные объекты. Эгоизмом мы заниматься не будем; он проявляется везде в достаточной мере; но альтруизм надо выявить как необходимый эквивалент реальной конфигурации.
§ 91. Английские утилитаристы. Вся нравственность основана на альтруизме. Это слово новое, оно возникло лет сто тому назад и впервые встречается у Огюста Конта, который усматривает в нем необходимую предпосылку всякой культуры и нравственности. Альтруизм понимается всеми в общем одинаково, и, в сущности, совершенно безразлично, называть ли известное чувство или желание альтруистичным тогда, когда оно приносит другим людям пользу (Спенсер), или удовлетворение (Липе), или вообще какое-либо «благо» (Мэйнонг). Разногласие возникает тут только по вопросу о мере целесообразного или дозволенного альтруизма. Можно быть абсолютным альтруистом, как некоторые христиане, но можно также ограничить альтруизм и считать его нравственным лишь в том случае, если он направлен к развитию человечества или если он, как говорит Корнелиус («Введение в философию»), считается не с переживаниями отдельных личностей, а с тем, что представляет неизменную ценность для всего человечества
Только в отношении обоснования альтруизма мнения расходятся, ибо вопрос о том, как возникает альтруистическое чувство и каким образом отдельный индивид может чувствовать за другого индивида, быть как бы эгоистом, с точки зрения последнего,— этот вопрос разрешается, в сущности, двояко.
Проще всего обойти затруднение, объявив альтруизм, как и многое другое, прирожденным свойством человека. Если так поступали древние философы, ничего не знавшие об эволюции, если Аристотель называл человека попросту «политической тварью», или если стоики думали, что человек — социальное {252} животное, созданное на общую пользу, или если Юм говорил, что человек от природы чувствует то, что служит для общего блага, то это понятно. Но если из новейших мыслителей Спенсер заявляет, что альтруизм столь же естественен, как и эгоизм, если Джон Стюарт Милль и Вундт повторяют буквально то же самое, если Зиммель называет альтруизм наследственным инстинктом, а Рибо считает его «унаследованным», то эти ученые должны были бы знать, что подобные слова ничего не говорят, что это — пустые звуки.
Более последовательны те, которые усматривают в альтруизме скрытый эгоизм. И это мнение старо; в конце концов, основатели всех религий высказывали ту же мысль. Хотя они и требовали альтруизма, но единственным стимулом к нравственному образу действий они считали эгоистическое стремление к счастью, суля своим последователям либо блаженство на земле (4-я заповедь Моисея), либо мифическое бессмертие души. Но если в религиях эгоистический мотив обнаруживается только в замаскированном виде, то впоследствии он. высказывается открыто и вполне сознательно почти всеми, в особенности англичанами. Гоббс выводит, например, всякое право и всякую нравственность из эгоистического чувства самосохранения и сознания общей зависимости людей друг от друга; он полагает, что всякому человеку ясно, что ему самому будет лучше, если он будет уважать интересы других, и что именно этот эгоистический мотив заставляет его поступать альтруистично. В сущности, и представители этого воззрения связывают право с полезностью, причем все аналогичные описательные выражения, как, например, «групповой эгоизм» у Иеринга или «безличный эгоизм» у Мэйнонга, также не объясняют ровно ничего. В конце концов, едва ли не безразлично, восхвалять ли эгоизм или отрицать его, и если Кант эгоистичное чувство человека называет «радикальным злом», если Дюринг говорит, что оно не представляет собой чего-либо естественного, будучи результатом вырождения и порчи нравов, то, с другой стороны, Шопенгауэр считает эгоизм («влечение к бытию и счастью») главной психомоторной силой человека и животного, а Ницше ставит эгоистическое мировоззрение, как мораль господ, выше альтруистической морали рабов.
Эта двоякая возможность обоснования морали ныне уже не представляет большого интереса, и если о ней приходится {253} говорить, то только потому, что мы, в Германии, привыкли с гордостью указывать, что, в противоположность меркантильно-утилитарной морали других народов, мы обладаем моралью, основанной на категорическом императиве.
Пренебрежение, с которым у нас относятся к утилитаризму, основано главным образом на мнении, что польза всегда предполагает эгоистический мотив. Но это неверно и несправедливо. Выше было уже сказано и в дальнейшем будет еще доказано, что в конечном результате эгоизм и альтруизм не противоположны друг другу, а скорее тождественны. Этот современный взгляд покоится главным образом на трудах английских философов, сделавших успешную попытку побороть эгоизм тем, что в качестве центрального пункта своих рассуждений они выдвинули понятие рода и тем самым обосновали идею «естественного закона солидарности».
В Германии очень рьяно нападают на английскую философию. Это объясняется влиянием наших консервативно-христианских философов вроде Фихте-младшего и Шталя. взгляды которых, высказанные в начале прошлого столетия, в эпоху лютой реакции, сводятся к утверждению, будто английская философия расчищает путь для революции.
Хотя учение Гоббса о том, что польза создала мораль, и не представляется абсолютно новым, так как оно встречается еще у эпикурейцев (эвдемонизм) и почти одновременно было провозглашено Спинозой, все-таки следует признать, что Гоббс впервые привел это учение в стройную систему. Правда, английские философы Бетлер (1726), Пэли (1785) и др, в особенности же Бентам (который в 1802 г. впервые употребил термин «утилитаризм»), углубили это учение, заменив понятие пользы для единичного лица понятием всеобщей пользы; но не следует упускать из виду, что почин, сделанный Гоббсом, оказал впоследствии влияние на весь культурный мир и что ни один из философов остальных культурных стран не избег этого влияния. Из немцев Томазиус (1692), Христиан Вольф (1749), Фридрих II (1739), Николаи (1760), Гольбах (1796) и даже Ницше развили практические выводы, вытекающие из этого учения, до крайних пределов. Многие германские юристы, например Бенеке (1830), Иеринг (1892) и Гижицкий (1876), стоят также на безусловно утилитарной точке зрения. С другой {254} стороны, некоторые англичане, например Локк (1685), Генри Мур (1679) и др, протестовали против этого учения
Важнее всего то, что Давиду Юму (1738), одному из самых выдающихся мыслителей не только Англии, но и всего мира, удалось доказать, опираясь на учение Гоббса, каким образом можно и без метафизики прийти к признанию абсолютно лишенной эгоистических интересов морали. Все его рассуждения основываются на идее симпатии, встречающейся еще у перипатетиков и стоиков, которые в объединенном симпатией мире усматривали проявление великого общественного организма Таким образом, Юм является основателем современного учения о нравственности, которое, избегая метафизических принципов, тем не менее выдвигает перед человечеством имеющую абсолютное значение мораль. Согласно этому учению, человек нравствен не только потому, что он субъективно чувствует свою близость к другим, а потому, что объективно он является составной частью организма всего человеческого рода. В этом же духе вели свою научную работу Дж. Стюарт Милль, Герберт Спенсер, Адам Смит, Чарлз Дарвин и отчасти германские философы-натуралисты. Итак, учение современных утилитаристов сводится к тому, что целью нашего поведения должно быть наибольшее счастие наибольшего числа людей.
§ 92. Немецкие кантианцы. Вышеуказанному практическому принципу Кант противопоставил, опираясь на взгляды целого ряда философов вплоть до Платона, свой, основанный также на «практическом» разуме, категорический императив, в силу которого «человек должен действовать по принципу, могущему быть в то же самое время всеобщим законом».
Мы не станем высказывать здесь своих суждений о значении и обоснованности того и другого принципа. Верно, что можно действовать этично, не нарушая хотя бы только одного из этих принципов, но не столь уже бесспорно, что мы будем действовать этично при всяких обстоятельствах, если будем руководствоваться только одним из этих принципов. Во всяком случае, из «английского» учения никогда нельзя будет вывести чего-либо вредного для общественности, а из «немецкого» учения часто придется делать выводы, которые субъективно могут показаться справедливыми, но «объективной справедливости» будут противоречить. {255}
Не подлежит сомнению, что английский принцип практичнее кантовского, так как он допускает применение объективной мерки, в то время как категорический императив, несмотря на все усилия, все-таки не утратил известной доли субъективности.
Ясно, что порядочный человек и помимо Канта, Юма или Гоббса будет поступать честно, а непорядочный останется таковым независимо оттого, будет ли он кантианцем или последователем учения Гоббса Но все же отнюдь не случайно, что Гоббс родился в Англии, а Кант в Германии. Немец всегда считал своей особенностью, а часто даже прерогативой, мыслить индивидуалистически и чувствовать себя в этом отношении более свободным, чем представители других наций; с другой стороны, привязанность англичанина к традициям и к передающимся из поколения в поколение законам осмеивалась нами, как стадное и рабское чувство, которому он якобы подвержен, невзирая на всю свою политическую свободу.
Такое различие действительно существует и коренится, быть может, в особенностях воспитания и национального характера германского и английского народов. Оно оказывает огромное влияние на все отрасли жизни, в особенности же на практическое правосознание, выработавшееся у обоих народов в течение веков. По словам Шопенгауэра, «немец любит субъективную справедливость (Billigkeit), а англичанин стоит за объективную справедливость (Gerechtigkeit), причем он прибавляет, что «субъективная справедливость враждебна объективной и нередко грубо посягает на нее».
Здесь не место разбираться в том, какая из этих добродетелей более благородна, объективная ли справедливость или субъективная; я лично согласен с Шопенгауэром и полагаю, что объективная справедливость более ценна для современной жизни людей; во всяком случае, она более пригодна для практической жизни.
Этот пробел кантовской этики сильнее всего ощущался немецким философом Иоганном Готлибом Фихте, пытавшимся доказать, насколько важно и необходимо установить обязательность нравственного закона, объективировать последний, ибо в противном случае каждый сможет произвольно истолковать и даже нарушать его. Следовательно, этот проницательный мыслитель ясно понимал, где «зарыта собака» (хотя его попытку разрешения проблемы при помощи подстановки {256} божественной воли и нельзя в настоящее время признать остроумной).
Но принципиальный подход Фихте не нашел после его смерти последователей. В связи с этим интересно проследить, как в Германии, исходя от Канта и ориентируясь на «субъективную справедливость», постепенно пришли к полному отрицанию общеобязательных нравственных законов и к безоговорочному признанию приспособленной к каждому отдельному случаю утилитарной точки зрения, между тем как в Англии, исходя от Гоббса и базируясь на учении Юма о симпатии, пришли к полному признанию объективированных норм.
Кантовская мораль зиждется на субъективном категорическом императиве, и нет ничего удивительного в том, что пессимист Артур Шопенгауэр, радикал Штирнер и сверхчеловек Ницше — все они опираются якобы на Канта. И если нельзя допустить, что кто-либо из этих трех мыслил неэтично, то все-таки несомненно, что из их школы вышли такие люди, как Мольтке и Бернгарди, которые провозгласили право сильного на беззастенчивое выявление себя и своей воли всеми средствами, не исключая и насилия.
Эти взгляды, к сожалению, глубоко проникли во все слои нашей общественной и частной жизни и нашли свое выражение в «Руководстве по ведению войны на суше», изданном генеральным штабом, где настойчиво проводится взгляд, что военная необходимость должна быть поставлена выше всяких международных соглашений. Подобным указанием достигается, очевидно, то, что разные ограничения в способах ведения войны, например постановления Гаагской конференции, теряют всякое значение и соблюдение их зависит исключительно от усмотрения воюющих сторон. Никто не оспаривает у генерального штаба права быть того мнения, основанного на военном опыте, что нападение на Францию не может быть успешно осуществлено, минуя Бельгию; это мнение основано, в сущности, на том соображении, что Франция, полагаясь на международные соглашения, оставила свою северную границу сравнительно менее защищенной. Но тут идет речь не о целесообразности подобного образа действия, а о том, что Германия, подписав в 1839 г. акт, гарантирующий нейтралитет Бельгии, тем самым воздвигла непреодолимую преграду на ее границе и затруднила как себе самой, так и Франции ведение войны. {257} Но она не посчиталась с этим затруднением, пренебрегла объективно установленным правом и стала на ту точку зрения, что ее положение настолько серьезно, что, не смущаясь никакими соглашениями, она должна выбрать наиболее для себя полезное. Я глубоко убежден, что как генеральный штаб, так и Бетман-Гольвег, защищавший его позицию, субъективно были глубоко уверены, что в этом частном случае они имели право вместо морали руководствоваться утилитарными соображениями и что закон справедливости разрешал им такой образ действия. Но законы справедливости можно истолковывать различно; поэтому немцы не должны удивляться, если другие народы отказываются понимать подобную точку зрения. Оттого-то Англия, охраняя нейтралитет Бельгии, и объявила войну Германии, к чему, по ее мнению, ее обязывал буквальный смысл упомянутого соглашения.
Подобного рода объективные правонарушения имели место и в дальнейшем. Я не стану говорить здесь об единичных случаях проявления жестокости и зверства, вызванных страхом и смятением и объяснимых отсутствием дисциплины или контроля. Но некоторые приемы германских военачальников, идущие вразрез с постановлениями Гаагского соглашения, нельзя мотивировать ничем иным, как соображениями исключительно «утилитарного» свойства. Так, например, наложение контрибуции на отдельные общины, может быть, очень полезно, но запрещено ст. 50 Гаагского соглашения; потопление торговых судов причиняет, конечно, врагу ущерб, но противоречит соглашению о призовых судах; применение ядовитых газов, убивающих целые полки, обходится дешевле, чем необходимая для этого при стрельбе из ружей трата 1 000 патронов на человека, но и это запрещено международными конвенциями. Все это не хорошо, но это еще далеко не худшее!
Война не считается, разумеется, с принципами нравственности, и кто ее начал, тот вынужден и дальше действовать в том же духе, с чем, пожалуй, приходится примириться. Но с чем никак нельзя примириться, это с распространившимся повсюду лицемерием тех, кто пребывает в тылу воюющих армий. Еще в мирное время у нас, в Германии, постоянно проповедовали, ссылаясь на Канта, индивидуалистический или, в лучшем случае, социальный эвдемонизм; во время же войны это учение стало у нас модным. Может быть, на самом деле не существует никакой морали, ни {258} абсолютной, ни относительной, а потому и не приходится считаться с какими-либо нравственными принципами. Может быть, наши воинствующие философы правы, но, когда настанет время более спокойного размышления, им трудно будет признаться в этом перед вечными истинами кантовской морали.
Вот еще, в заключение, небезынтересная параллель: допустим фикцию, что в Германии господствует кантовская этика, а в Англии — утилитаризм, и вспомним последний разговор английского посла Гошена с Бетман-Гольвегом, происходивший 4 августа 1914 г. Бетман, который считается кантианцем, спросил собеседника, неужели из-за пустого слова «нейтралитет», которым в военное время так часто пренебрегают, из-за какого-то клочка бумаги Англия решится объявить войну родственной ей нации, которая ничего другого не желает, как жить с нею в мире и согласии. Ведь по чисто стратегическим соображениям переход границы Бельгии и нарушение ее нейтралитета — для Германии вопрос жизни. На это Гошен ответил: «Для достоинства Англии в такой же мере вопрос жизни — выполнить данное ею торжественное обещание: в случае посягательства на нейтралитет Бельгии защитить эту страну, хотя бы для этого пришлось прибегнуть к крайним мерам».
Бетман: «Но ценой каких жертв достигается выполнение этого обязательства?»
Гошен: «Я должен заметить вашему превосходительству, что боязнь последствий не может служить оправданием нарушения торжественно принятых на себя обязательств».
Тут каждое слово английского посла проникнуто сознанием долга, каждое слово немца — принципом пользы.
Но как бы ни смотреть на морапь, в отношении государственного деятеля важно, как говорит Спиноза, не то, почему он исполняет свой долг, а чтобы он его вообще исполнял. И я думаю, что ввиду приведенных фактов нашим профессорам-философам следовало бы прекратить свои нападки на английскую якобы торгашескую мораль и признаться, как это и сделал позже Бетман-Гольвег, что, увлеченные событиями, мы слишком рьяно старались соблюсти наши собственные интересы и тем самым согрешили против принятых нами на себя обязательств, но что мы надеемся загладить наши грехи впоследствии. Или, быть может, они предпочтут сказать, что они убедились в том, что Кант — заблуждающийся идеолог, и что то, за что мы до {259} сих пор упрекали англичан, — утилитаризм — единственно правильное мировоззрение; и вот мы, приспособляющиеся ко всему немцы, станем отныне такими, какими мы представляли себе англичан.
Но есть еще третий исход о котором я едва дерзаю писать. Наши профессора или, если они этого не пожелают, наша столь легко вдохновляющаяся молодежь должны признаться: «Мы зарвались, мы должны вернуться к тому, с чего начинает первобытный человек: искать добра и стремиться к истине». С тяжелым сердцем решаюсь я высказать это и не теряю надежды на то, что это так и будет.
§ 93. Постановка проблемы мировой души в Древней Греции. Из чего бы ни вытекала наша любовь к ближнему, из религиозного ли чувства или из эгоизма, в том и другом случае мы можем вести жизнь вполне согласную с правилами нравственности, но ни в том ни в другом случае у нас не будет достаточно сильной опоры против наших личных эгоистических устремлений. Дело в том, что если альтруизм есть не что иное, как прирожденное, но притом не вызываемое какой-либо видимой причиною чувство, то он будет проявляться в действительности, конечно, лишь настолько, насколько он к тому пригоден именно как врожденное чувство. Если же кто-либо в том или ином случае поступит не как альтруист, а как эгоист, то всякие рассуждения будут излишни: природного чувства никакая философия изменить не может. Если же альтруизм не что иное, как обратная сторона того же эгоизма, то этот первичный, основной эгоизм имеет, конечно, право (да и обязан) следовать своим альтруистическим влечениям лишь постольку, поскольку это будет оправдываться высшим эгоистическим принципом.
До тех пор пока наша нравственность остается без реального, видимого основания, она витает в воздухе, и {260} современный человек это ясно сознает. Так, например, известный исследователь жизни Иисуса Христа Древе (Drews) говорил (в 1910 г.), что эмпирической нравственности вообще не существует и что без Бога она просто немыслима; но так как без нравственности обойтись нельзя, то приходится придерживаться идеи божества. Подобный же взгляд высказывает и Карл Иентш («Zukunft»), придерживающийся довольно странного мнения, что «благо отдельной личности является тою целью, к которой стремится народное хозяйство». Он находит, что если нет веры в Бога, то нет более высокой цели, к которой стоило бы стремиться, чем благо единой личности, а так как народное хозяйство должно быть независимо от религии, то не остается ничего другого, как построить этику на идее блага отдельной личности. Ход мыслей у обоих ученых различен, но оба показывают, к каким неудовлетворительным выводам приводит отрицание возможности существования эмпирической морали. Чтобы избежать этого, Древе сознательно оперирует абсурдами, а Иентш, вместо того чтобы из факта существования народного хозяйства сделать единственно возможный вывод, что именно существует нечто высшее, чем благо отдельной личности, предпочитает отрицать самый факт, ибо считать целью народного хозяйства отдельную человеческую личность — в сущности, значит отрицать факт существования народного хозяйства
И все это происходит оттого, что земная, эмпирическая нравственность кажется им чем-то чудовищным. Причина такого морального и интеллектуального отречения от нее кроется в нашем антиномистическом образе мышления или, вернее, в слишком широкой распространенности антиномистической философии. Люди думают, что если нравственность не базируется на категорическом императиве, то это вовсе не нравственность и об ней не стоит говорить. Между тем правильно как раз обратное: если признать за кем-либо абсолютное право на хорошее отношение к нему, то оно не должно быть основано на субъективном чувстве другого и представлять собой как бы добровольно предоставленное ему право, а необходимо, чтобы именно во мне существовало известное, независимое от моего чувства и моей воли, право другого лица на подобное отношение. {261}
Попытаемся найти в самой природе реальные предпосылки для такой объективной нравственности, которые — и в этом будет заключаться громадное практическое преимущество их — не зависят от нашего субъективного чувства порядочности.
Это вполне возможно ввиду того, что человечество, как таковое, представляет собою на деле, что научно доказано, единый организм. Эта идея проникла в сознание людей лишь постепенно. Начатки ее восходят к первобытным временам, и так как испокон веков философская мысль занималась сперва вопросами души, а потом только тела, то все мыслители говорили о мировой душе прежде, чем выработалось понятие мирового организма. Так как развитие мысли в этом направлении послужило одной из существеннейших основ того миросозерцания, которое я изложу в последующем, я позволю себе, хотя бы в самых общих чертах, изобразить ход этого развития.
Чтобы описать известное явление с точки зрения естествознания, необходимо разобрать тот механизм, при посредстве которого оно приводится в движение. Отделение желчи, например, становится понятным на основании тех сведений» которые мы имеем об анатомическом строении печени; понимание психических процессов требует знакомства с деятельностью мозга. Точно так же и для того, чтобы объяснить альтруизм, надо найти соответствующее органическое основание. Подобно тому как эгоизм объясняется и с необходимостью вытекает из факта проникнутой единым сознанием личности, так и неоспоримый факт существования альтруизма предполагает лежащий в основе его органический субстрат, который может состоять единственно в том, что все человечество, представляя собой единый организм, обладает как бы некоторого рода коллективным сознанием. Уже первобытным народам бросалось в глаза сходство между реальной связью общины и животным организмом; на это указывают разные легенды, — между прочим, известная басня Менения Агриппы, о которой рассказывает Тит Ливий1. Однако внешнего сходства недостаточно, чтобы доказать что-либо: необходимо установить не только аналогию, но и гомологию, необходимо доказать, что человечество является не только понятием, но и реальностью. Эта мысль может {262} показаться абсурдной, но ведь нельзя отрицать того, что во все времена человечество верило в реальное существование мировой души. В конце концов, все более или менее возвышенные религии основаны на том глубоком сознании, что человек как отдельная личность не представляет собой высшей ступени органических образований, а является только частью более обширного органического целого, существование которого он смутно себе представляет в виде мистического образа Бога.
Когда впервые постигли эту идею божества, когда в Элладе впервые появилась философия, тогда об этой мировой душе говорили как о чем-то общеизвестном. Все, что мы знаем о существовавшей некогда гармонии эллинского миросозерцания сводится к тому, что в этом наивном и вместе с тем умном народе жила божественная идея единства мира Гилозоизм Фалеса и других шести первых мудрецов Греции был не чем иным, как убеждением, что весь мир — единый организм. И Гераклиту все казалось одушевленным, все полно демонов; он полагал, что все одарено сознанием и отчасти даже мышлением. Так рассуждали все мудрецы до Сократа; так же думал и греческий народ: свои представления о существовании мировой души он воплотил в созданном его воображением столь гармоничном в своем построении мире богов, об утраченной красоте которого так сокрушался Шиллер.
Только со времен Сократа, которому в остальном мы стольким обязаны, гармония эта была нарушена. Он первый превознес человека, противопоставив его высокую мораль всей остальной природе. Провозглашая такие этические заповеди, изумительный пафос которых никогда не померкнет и значение которых Сократ ясно сознавал, хотя и не умел его логически доказать, он находил, что этики вообще нельзя ни объяснить, ни обосновать: ее можно только проповедовать. Не следует, однако, думать, что нарушение этой гармонии целиком обнаружилось в учении самого Сократа; в его «даймонионе», стоящем над людьми и управляющем их судьбой, живет еще кое-что от того древнего фатума, которому поклонялись его предки, от того Рока, которому обязана своим возникновением античная трагедия.
Все это были мистические символы того, что мы, отдельные личности, со всеми нашими гордыми и своевольными стремлениями, подчинены вечным железным законам судьбы. Но так как {263} в те времена стремились не только чувствовать, но и мыслить и так как уразумение того, что до тех пор только чувствовалось, было не особенно легким делом, то и решили обойти это затруднение тем, что старались примирить обнаружившиеся противоречия, утверждая, что «свободная сама по себе мораль человека стоит вне всякой связи с непреложными законами природы». К каким бы прекрасным результатам ни привела нас эта воображаемая свобода человеческой морали, все-таки приходится сказать, что таким путем человек ставится как бы «вне закона природы». У Сократа это еще едва заметно, но возникшие после него религии и этические учения представляют собой не что иное, как попытки найти логическое обоснование такому положению вещей.
До тех пор пока не подошли к самому источнику указанных противоположностей, все попытки устранить их приводили либо к мистицизму, либо к рационализму. Так продолжалось вплоть до Канта, который, правда, тоже определенно не разрешил данного противоречия, но подготовил почву для его разрешения тем, что эти противоположности, созданные чисто рассудочным подходом к существующему в действительности, он резко и определенно противопоставил друг другу; если бы Кант в конце концов не попытался найти мистическое (трансцендентальное) разрешение рассматриваемой нами проблемы, то, вероятно, преимущество его точки зрения казалось бы еще более значительным.
На протяжении двух тысячелетий, от Сократа до Канта, люди жили верой в то высшее начало, которые древние мудрецы считали мировой душой. Однако постепенно это начало стало принимать образ божества, идея которого также была недоступна человеческому пониманию. Таким путем мало-помалу улетучилась та гармония земного мира, на которой покоилось учение пифагорейцев, уступив место гармонии трансцендентального мира Уже у Платона источником единства мира является демиург, творец всего мира, эманацию которого представляют собою небесные светила. Человек же, согласно его учению,— маленький бог, существующий сам по себе, созданный по образу бессмертных богов и как бы воплощающий в самом себе все единство мира.
У Аристотеля можно найти только отрывочные представления об этой мировой душе. Он говорит, например, о душе {264} растений. Для него, так же как и для Платона, государство — живое существо xvon субстанция, которая «заключает в себе принцип движения и имеет склонность к изменениям». Таким образом, государство стало предметом естествоведения, который должен быть исследован тем же методом, как и все живые существа вообще, т. е. при помощи экспериментального анализа. Впрочем, у Аристотеля имеются на этот счет и другие подобные же указания; так, например, он говорит, что рабы — члены организма семьи, «часть своего господина, как бы самостоятельно существующая часть его тела». А о народном собрании он говорит, что это — единое сознание, единый разум. Совещание, в результате которого получается единое общее решение, есть не что иное, как совещание отдельного индивидуума с самим собою — с той только разницей, что коллективный человек проявляет больше мудрости, потому что он обладает большим числом органов и более обширным и разносторонним опытом. Аристотель ясно высказывает также ту мысль, что механическое соприкосновение отдельных частей имеет мало значения и что организация базируется преимущественно на жизненных взаимоотношениях. Таким образом, и у Аристотеля имеются указания на то, что отдельные группы людей должны рассматриваться как организмы, но представление о всечеловеческом организме отступает у него на задний план, и о всеобщей мировой душе он более не говорит.
Эта мысль была выражена более отчетливо у стоиков, у которых пневма (pneuma — нечто движущееся и мыслящее) обнимает весь мир и потому представляет собой более интенсивно прочувствованное преобразование понятия старой гиоло-зоистической мировой души. К этой концепции примкнули впоследствии Платон (рассуждающий об единстве отдельных душ), манихеи и христиане, в особенности Ориген.
§ 94. Христианская эра. Христианство верило в «пневму гагион» (pneuma hagion), в святую, животворящую и воодушевляющую силу, объединяющую все отдельные души. Эта «пневма» была, однако, не душой мира, но телом его, о котором апостол Павел выразился так: «Подобно тому как на нашем теле имеются разные члены, и все они действуют не одинаково, так и все мы {265} составляем тело Христово, а по отношению друг к другу мы — члены единого тела». Это лучшее из существующих и, во всяком случае, самое яркое определение организма и взаимоотношений его частей.
С изумлением спрашиваешь себя, каким образом первые христиане, эти простые люди, авторы священных книг, постигли такую премудрость. Ведь они не имели, вероятно, никакого представления об организме, как таковом, и едва ли знали, что такое человеческое общество. И тем не менее они нашли столь ясное определение для него! Понятным становится это лишь в том случае, если мы докажем, что мы и собираемся доказать, что «любовь ко всему человечеству есть здоровое чувство общечеловеческого организма». Эти две вещи находятся в функциональном соотношении друг с другом, и древнее христианство было столь глубоко проникнуто любовью к ближнему, что в этой священной любви оно почерпнуло силу интуитивно распознать реальную сторону своей любви. Не следует, разумеется, придавать особого значения подобным интуициям, но всякий, кто верит в познавательную силу души, должен начертать золотыми буквами эти слова «Послания к Римлянам».
Насколько тесно и прочно связан этот взгляд с понятием человеческой любви, можно усмотреть хотя бы из того, что Сенека, который в этом отношении мыслит совершенно по-христиански, видит в отдельных людях, подобно апостолу Павлу, членов единого высшего живого организма.
Итак, христианство, казалось бы, было призвано распространить по всему миру древнеэллинскую идею гармонии, и в первые века нашей эры хилиасты, по крайней мере, действительно ожидали наступления царствия Божьего на земле (в особенности Тертуллиан). Даже Ориген, который оспаривал их учение, был в этом отношении согласен с ними; по его словам, «весь мир представляет собой как бы животное (velut animal quidam), имеющее особую единую душу». Этим он приобщился к мудрости апостола Павла и тем самым высказал тот основной принцип, который должен стать общепризнанным и на современном языке может быть выражен следующим образом: «Подобно тому как сумма всех клеток в одном животном составляет отдельный организм, так и сумма всех отдельных личностей составляет {266} отдельный организм высшего рода». Это должно быть понимаемо не в переносном смысле, а как реальный факт.
Однако со временем христианство стало увлекаться схоластикой, и в течение многих веков этот взгляд на человечество представлялся лишь в символе, прикрытом христианской мистикой. Уже Августин преобразовал эту чисто натуралистическую концепцию на духовно-религиозный лад; за ним последовала вся средневековая христианская философия. Мыслители стали отрицать за человеческим обществом характер природной организации, присваивая ему характер искусственного (и даже сотворенного дьяволом) механизма и противопоставляя ему, в качестве настоящего живого организма, царство небесное, мнимая реальность которого здесь, как и во всех других случаях, затрудняла понимание действительной жизни.
Перемена во взглядах произошла лишь тогда, когда натуралистическая философия эпохи Возрождения вернулась к панпсихическим идеям греческой мифологии. В ту эпоху, когда весь мир погряз в вечных битвах и убийствах, в душах лучших по тому времени людей возрождалось стремление к человеколюбию. Они были истыми в широком смысле этого слова гуманистами. Они вспомнили эллинскую гармонию и идею единства (называя это равенством), восприняли из учения древнехристианской церкви идею братства и опирались на ту свободу, которую дала им наука. Но эта триада, победное шествие которой начиная с того времени стало очевидным, понималась в ту пору просвещенными умами не в одностороннем политическом, религиозном или социальном смысле, а служила для них с самого начала основанием нового миросозерцания, влияя главным образом на понимание сущности природы. Поэтому не удивительно, что тогда снова стала чувствоваться внутренняя связь человека с природой и что к моменту кончины Лейбница даже в наиболее отдаленные уголки Европы проникли кое-какие сведения относительно бого-и звероподобия человека. Эта эволюция, о которой речь будет ниже, предопределила будущность данной идеи, хотя в то время она и не была господствующей. Ибо в массе своей люди до сих пор еще не мыслят ни по-эллински, ни по-христиански, ни научно, а потому и не гуманно; ни равенства, ни братства, ни свободы они не знают! Им {267} известно только чинопочитание: они третируют подчиненного и преклоняются перед начальствующим.
Как поступают отдельные индивиды в своих взаимоотношениях, так хотели бы действовать и одни народы по отношению к другим; в том же духе ведет себя и весь человеческий род как целое, причем Бог представляется ему начальством, а животное подчиненным. То, что проделали с Богом, интересует нас здесь только как параллель: он все более и более обособлялся и терял всякую связь с человечеством; дошло до того, что в 1854 году пытались установить догму о беспорочном зачатии Богородицы. Одновременно и животным все чаще стали отказывать в свойствах, приближающих их к человеку, Декарт, считавший животных машинами, может служить в этом отношении ярким примером. Наступило даже время, когда церковь стала помогать созданию преград между отдельными группами людей, и идея, что человечество составляет единый организм, казалась совершенно забытой.
Влияние подобных тенденций сказалось еще в XVII веке. В то время старались доказать, что человек обладает не только чисто природными, но вместе с тем и духовными свойствами, которые ставят его выше природы. Гоббс заявляет в своем «Левиафане», что естественное общение животных, например пчел, муравьев и бобров, по существу своему не что иное, как основанное на разуме человеческое общество. Спиноза считал, как известно, весь мир одушевленным и говорил, что если множество людей действует, основываясь на своем общем праве, то возникает предположение, что у них общая душа; таким образом, он как бы возвращается к древним аристотелевским взглядам. Однако эта новая «государственная душа» является у него продуктом сознательного человеческого духа, а не наоборот.
Для Лейбница возврат к древнегреческой идее гармонии был бы сравнительно прост. Так как он предполагает, что индивидуальный организм состоит из бесчисленного множества отдельных монад то было бы вполне последовательно распространить это представление о составляющих одно целое отдельных частицах и на человеческое общество. Он говорит в одном месте, что каждое растение и каждое животное можно рассматривать как большой сад, полный цветов, или как пруд, полный рыб; каждую ветку растения, каждый орган животного {268} и даже каждую каплю его соков можно, в свою очередь, рассматривать как подобный же сад или пруд. Несмотря на такой взгляд, фактически представляющий собой описание организма, Лейбниц ни в одном из своих сочинений, насколько мне известно, не говорит о том, что он рассматривает мир как организм. Возможно, что он не считал нужным выразить словами то, что ему казалось само собой понятным. Может быть, он верил в мировую душу, но умалчивал об этом; другие также не возбуждали этого вопроса.
Такое положение вещей существовало долго, и даже Руссо в своем «возврате к природе» опирается не на натуралистические или хотя бы только естественные основы. Для него «природа», в соответствии с которой он хочет построить общество, представляется лишь идеей, как у Платона, и притом формируемой по собственному усмотрению человека. Тогда как в действительной природе наблюдается зависимость явлений от законов природы, у Руссо, напротив, природа является символом свободы. Этот ход мыслей построен на неясном и неправильном понимании чувств.
Космополитическое направление господствовало в течение всего XVIII века. Своего апогея оно достигло в немецком классицизме. Люди вроде Лессинга, Шиллера, Гете, Жана Поля, Гердера, Фихте, Шеллинга и Гумбольдта, несмотря на все различие воззрений, сходились в том, что все они верили в общечеловеческий идеал. Вообще в те времена в Германии и не существовало ни одного выдающегося человека, который не был бы настроен космополитически. Однако эта идея не проникла еще в плоть и кровь народа, а покоилась на чисто рассудочных основаниях, и если тогдашняя гуманитарная мысль совершенно исчезла во всем мире, в особенности в Германии, то это было вызвано событиями того времени. Воинственный завершитель Французской революции захотел внушить народам кровью и железом идею единой Европы, вызвав по этому поводу протест со стороны лучших людей всего мира. Будем надеяться, что на этот раз не произойдет ничего подобного, будем надеяться, что не битвами окончится и разрешится эта война, а волей народов. Похоже на то, что так и случится, что на этот раз дремлющие в народах инстинкты всемирного братства пробудятся. Это и означало бы, что время исполнилось. {269}
§ 95. Современный эмпиризм. Вера, что весь мир представляет собой в некотором роде законченный организм, продолжала жить, и, невзирая на притеснения церкви, наука позаботилась о том, чтобы тлеющая искра этой веры не погасла. Было бы интересно проследить всю историю развития этой идеи, но, не имея возможности сделать здесь это настолько подробно, как бы хотелось, я отсылаю интересующихся данным вопросом к объемистому труду Рикснера и Зибера (1819 г.), где приведены соответствующие взгляды мыслителей XVI и XVII века. Рационалистический XVIII век отнесся менее сочувственно к этой идее, которая, при тогдашнем состоянии науки, казалась не лишенной некоторого мистицизма. Скорее созерцательное, чем строго научное увлечение этой идеей можно проследить вплоть до Фехнера (Zendavesta, 1851 г.), который не только верил в организм человечества, но и все звезды и солнечные системы считал одушевленными существами. В общем, подобные пан-психические фантазии скорее вредили делу. Считали, что одушевлять все окружающее — дело поэтов, а не мыслителей. Наше время вполне оценило значение эмпирических исследований и полагает, что пора спекулятивной философии миновала. Стали обращать главное внимание на реальные явления, и отныне мы встречаем все чаще и чаще указания на такие факты, которые предполагают существование взаимной связи между отдельными личностями, другими словами, существование огромного общечеловеческого организма.
Эмпирические данные с течением времени накоплялись. На них основывался Кант, но в своих выводах он опирался не на какого-нибудь deus ex machina, а на методы современной науки; он один из первых вступил на этот путь. Он исходил из противоположности между фактической зависимостью поступков человека от окружающих условий и воображаемой свободой его самоопределения и с самого начала указал на то, что органические законы человечества, очевидно, ограничивают свободу человеческой деятельности, подобно всем остальным явлениям природы, подчиненным ее законам. При этом он ссылался на установленный статистикой факт постоянства числа браков, рождений и смертей, сравнивая это постоянство с постоянством погоды, произрастания растений, течения рек и прочих явлений природы, наступающих с неуклонной последовательностью. Но подобно тому как климат можно определить, исходя из тех {270} законов природы, которым подвержена земля, как самостоятельное небесное тело, так, казалось бы, и необъяснимые законы человечества могут быть раскрыты, если рассматривать человечество как единый, целостный организм. Однако Кант не знал еще, что данный вопрос разрешается таким именно образом. Хотя он и признавал, что поступков отдельного человека нельзя объяснить исключительно свойствами его индивидуальности, он все же не разъяснил, в чем же тут дело. Но, во всяком случае, ясно осознанные и точно сформулированные Кантом противоположности указали путь дальнейшим исследователям естественных наук. Нужно было только попытаться органически примирить эти противоположности: с одной стороны, коллективную взаимную зависимость, а с другой стороны — личную свободу, отнюдь не сводя их к антиномистической, неразрешимой проблеме.
В отделе «свобода и принуждение в природе» (§§14—16) мною было указано, как достигается это примирение, сделавшееся возможным благодаря фактически состоявшемуся освобождению мозговой деятельности от подчинения организму. В последующих отделах я постараюсь доказать, что достигнутая свобода снова ограничивается тем фактом, ясно осознанным естествознанием лишь в прошлом столетии, что человечество, как таковое, представляет собой организм в прямом смысле этого слова. Тем самым, думается мне, можно разрешить окончательно ту противоположность, которая выражена, например, в понятиях: свобода и принуждение, индивидуализм и социализм, сила и право и т.д.
В течение XIX столетия эта мысль развивалась в различных направлениях. Если мы пожелали бы проследить все ее разветвления, то это завело бы нас слишком далеко: поэтому я ограничусь указанием на то, что яснее всего она выражена у Герберта Спенсера. По его мнению, человеческое общество есть настоящий организм, или, как он выражается, органическое образование. Спенсер детально описывает отдельные органы общества и их функции и подробно останавливается на взаимодействии отдельных социальных сил. Но такую организацию общества он выдвигал лишь для обоснования идеи безграничной свободы индивида. Для него общественный организм не является конечной целью отдельной личности, а наоборот, отдельные личности создали, как он полагает, такую организацию только для того, {271} чтобы иметь возможность успешно преследовать свои личные цели. Нам же важно установить, что именно организм человечества является приматом и, в сущности, единственным вечным и реальным моментом, отдельные же личности, как бы гордо и независимо они себя ни чувствовали, подобны осыпающимся листьям векового дуба
В этом направлении, однако, индивидуалистически мыслившее XIX столетие не обнаружило прогресса; настоящие же социалистические мысли были слишком далеки от естественных наук, чтобы они могли воспользоваться их идеями.
§ 96. Культура. Деятельность отдельных людей проявляется в весьма разнообразной форме. Обобщая ее, можно выразиться так: жизненные проявления человечества как единого организма заключаются в его культуре. Культура представляет собой нечто единое; в этом не сомневаются даже те, кто далек от мысли, что человечество — единый организм. Поэтому-то так легко было доказать, что культура и шовинизм, даже культура и патриотизм исключают друг друга. Если и существует отвлеченная культура, то таковая возможна лишь при условии подчинения патриотического чувства культурному идеалу.
Ницше сказал однажды, что война делает победителя глупым, а побежденного варваром. Это следует понимать в том смысле, что война убивает всякую культуру, но Ницше совершенно не объясняет, почему в одном случае страдает умственная культура, а в другом нравственная. Это произвольное разделение понятия культуры звучит как-то странно в устах Ницше, который всегда придерживался того взгляда, что может и должна существовать единая человеческая культура, та культура, которую эллины противопоставляли понятию варварства.
Все истинно культурные люди давно сознавали, что «дифференцированная культура» не есть настоящая культура. Так, например, Кант говорит, что культура — «проявление разумного существа к любой целесообразной деятельности». Гумбольдт находит, что «высшая и конечная цель каждого человека — наиболее гармоничное развитие совокупности его индивидуальных сил, для чего ему необходима свобода». Фихте, выражаясь {272} не столь ясно, полагает, что «культура есть развитие всех сил, направленное к достижению полной свободы». Но определеннее и яснее всех высказывается Ницше, говоря: «Культура — это согласование противодействующих друг другу сил».
Художник, музыкант, скульптор — никто из них сам по себе не может считаться представителем известной культуры, как не может считаться им и ученый, техник или философ. Даже известное сословие не может само по себе представлять культуру. Величественное здание целого культурного периода является результатом того, что все эти и еще многие другие силы соединились воедино, слились в один организм, в котором каждый из многочисленных моментов получил полную свободу для своего развития. Существуют, правда, эпохи преимущественно религиозные (средние века), художественные (Ренессанс), научные (рационализм XVIII столетия), политические (Французская революция) или, наконец, технические (наше время), когда преобладает одно какое-нибудь направление; но если это преобладание выражается настолько ярко, что подавляет все другие стремления человеческого духа, то такой период нельзя назвать культурным.
Подобно тому как нельзя отрубить человеку руку без того, чтобы от этого не пострадал вместе с тем и мозг, или повредить мозг без того, чтобы это не отразилось на руке, как вообще нельзя изменить части, не изменив вместе с тем и целого, так и культура теряет свое общее значение, если известная отрасль ее атрофирована. Если немного подумать, то не трудно убедиться в этом. Какую роль играет, например, музыка во всех прочих искусствах, да и в науке! Вспомним только происхождение трагедии и лирики, учение Пифагора и происхождение религий.
Каждый организм можно расчленить различно, в зависимости от того, будем ли мы делить его по частям тела (руки, ноги, голова и т.д.) или по органическим системам (кровеносная система, нервы, органы пищеварения), которые проникают во все части тела. То же самое наблюдается и в культурном организме: его можно разделить на территориальные области — греческую, римскую, германскую, романскую, славянскую, китайскую и т.д.; но его можно разделить и по системам — на духовную, естественнонаучную, техническую и т.д., которые, в свою очередь, проникают во все области культуры. {273}
Это врастание одной культурной зоны в другую («прослойка» культуры) приобрело в последнее время, благодаря интенсивности международного общения, особенно большое значение. В этом заключается смысл современной техники, на том же зиждется и наша надежда на будущее, которое мы мысленно связываем с победой техники во всех областях.
Техническую культуру вообще нельзя себе представить ограниченной государственными пределами. Почта, телеграф, железнодорожный и водный транспорт — все это по существу своему мировые учреждения, и касающиеся их постановления обнаруживают явную тенденцию к их объединению в международном масштабе.
Научная культура также давно уже утратила свой национальный характер. Метеорология, международное соглашение об определении атомного веса, археологические исследования, статистика землетрясений, астрономия — все эти наугад взятые мною примеры неопровержимо доказывают каждому знакомому с современным состоянием науки человеку, что в данном отношении весь мир охвачен известной, независимой от какой бы то ни было национальности, организацией. Подобное положение как бы официально санкционируется существованием множества учреждений, управляемых на международных началах: таковы, например, всемирный почтовый союз в Берне, высший призовой суд в Гааге, бюро мер и весов в Париже и др.
Кроме того, существует масса международных соглашений, которыми руководствуются правительства отдельных стран. Фрид1 перечисляет в своем руководстве 86 конвенций, касающихся торговли, путей сообщения, правовых вопросов, науки, социальных проблем, войны, политики и т.д.
Интернациональной является также та громадная область культуры, которую именуют цивилизацией: нравы, обычаи, моды, танцы и т. п. Как люди, так и их жилища носят интернациональную окраску, и притом довольно бесцветную. Дома Парижа едва заметно отличаются от лондонских, берлинских и петербургских зданий. Хотя Москва, Бухарест, Константинополь и Мадрид имеют свои характерные особенности, но и им не чужда тенденция интернационализироваться. Портовые территории Гамбурга, Гонконга, Порт-Саида и Нью-Йорка имеют почти одинаковый внешний {274} вид Подобное же сходство обнаруживают и аристократические кварталы всех больших городов.
Остается область искусства Оно тоже стало интернациональным. Толстой, Ибсен, Бернард Шоу создали свои школы почти во всех странах; натурализм, импрессионизм и футуризм одновременно господствуют едва ли не повсюду. Между тем именно от искусства можно было бы ожидать некоторого национального устремления, и было бы даже желательно усмотреть в нем некоторый возврат к старому родному, так как искусство живет традициями и напоминает нам о прошлом. Однако у нас нет сейчас людей, способных на подобное ретроспективное творчество. Недостаток самобытности нельзя заменить ложным пафосом, а в остальном мы проникнуты интернациональным духом, и самобытные национальные поэты, вроде Сервантеса, Данте, Рабле и Якова Бёме, более не нарождаются Поэзия, как и все другие виды искусства, стала интернациональной.
§ 97. Единство человечества во времени и пространстве. Человек как отдельное, самостоятельное существо немыслим не только потому, что он является потомком бесчисленного ряда предков, живших на протяжении миллионов лет: это факт, на котором останавливаться не приходится. Достойна внимания необыкновенная сложность, обнаруживающаяся в создавшемся благодаря этому механизме. Так как каждый человек через идиоплазму продолжает жить в своих детях и внуках, то, предполагая, что в среднем у каждого рождается трое детей, он уже через двадцать одно поколение (т. е. приблизительно через 500 лет) будет жить в таком количестве людей, которое равняется численности всего населения земного шара. И. наоборот, в каждой капле нашей крови содержится частица тех людей, которые жили 500 лет тому назад. Вследствие этого создается такое многообразие взаимоотношений, детальное выяснение которого в каждом отдельном случае решительно невозможно.
Чемберлен говорит, что все выдающееся создано германской кровью. Возможно! Но столь же возможно и то, что, как это утверждает Судай, все создано кельтскою кровью, и если кто-нибудь станет утверждать нечто подобное относительно славянской крови, то и это едва ли опровержимо. Никто не в состоянии указать, в ком из предков какого-либо гениального человека идиоплазма получила такую форму, что от нее {275} произошел именно данный гений: он стал ведь таким не сам по себе, а как продукт целого ряда неизвестных предков, которые, оставшись неизвестными каждый в отдельности, должны быть рассматриваемы как определенная совокупность. Еще важнее, чем эта непосредственная органическая связь, связь духовная (в конце концов также органическая). Если мы говорим, например, что человек продолжает жить в своих творениях, то это старая истина. Однако, в сущности, это явление покрыто мраком неизвестности, анонимности происхождения так как часто отдельная личность оказывает сильное влияние на будущие поколения, не имея об этом никакого представления Какой-нибудь доисторический человек, тело которого давным-давно истлело, от скуки, может быть, испещрил стены своей пещеры в долине Везера каракулями, изображающими мамонтов и зубров, а ныне на этом строятся теории относительно происхождения изобразительного искусства. Какая-нибудь невольница, быть может, круглая идиотка, много тысячелетий тому назад играя, слепила нелепый глиняный сосуд и озадачила тем самым всех археологов XIX столетия.
Влияние, оказываемое отдельной личностью на все человечество, представляется неизвестной величиной. Разве мы знаем, какое событие, слово или даже только жест неизвестного, быть может, человека побудили таких лиц, как Иисус или Сократ, высказать те мысли, которые имели решающее значение для судеб человечества? Знаем ли мы, какое влияние оказали родители и воспитатели на развитие известных нам великих людей? Напрасно было бы над этим задумываться Надо только уяснить себе, что подобная возможность имеется и представляется нам в виде целого ряда причин и следствии которых в отдельности мы не знаем и которые заставляют нас поэтому считаться с их совокупностью. Человечество в целом было бы нам непонятно, если бы мы не представляли его себе в виде единого организма.
Однако оставим эти неизвестные причины. Не подлежит сомнению, что те или иные мысли, раз они высказаны, продолжают жить в человечестве самостоятельной, отдельной жизнью, проникая в сознание других людей и действуя там подобно идиоплазме. Как эта последняя, так и мысли живут вечно и свидетельствуют о том, что человечество, как гласит древняя мудрость, {276} представляет собой организм. В этом смысле, как говорит греческий философ Эмпедокл, нет ни рождения, ни смерти, ни начала, ни конца; существует только смешение и обмен всего перемешивающегося; смерть и рождение — громкие слова, придуманные человеком. Большего мы не знаем и в настоящее время.
Материальное и духовное единство всех людей особенно бросается в глаза, когда мы занимаемся исследованием пространственных взаимоотношений между одновременно живущими людьми. Человек говорит и учится только потому, что видит, как это делают другие, по мере того как он вступает с ними в известные отношения. Он может работать лишь постольку, поскольку он опирается на работу других. Я могу, например, писать только потому, что одни люди где-то срубили дерево, другие его переработали в бумагу, третьи изготовили перо, четвертые — чернила; чтобы написанное могло появиться в печати, нужен был, в свою очередь, целый ряд людей, начиная с рудокопов, добывающих свинец для шрифта и железо для типографских машин, и т.д. Если обратиться к первопричинам, то нетрудно убедиться в том, что необходимо содействие всего существующего для того, чтобы малейшая мысль могла перейти от автора к читателю: эта мысль есть результат усилий миллионов голов, ее родивших, и она может быть понята читателем лишь благодаря тому, что его мозг достаточно подготовлен к ее восприятию.
Разделением труда называется принцип, согласно которому совершается работа человека; но ведь разделить можно только то, что было когда-то целым. В данном случае имеется в виду труд человечества, являющийся функцией его организма. Тот факт, что разделение труда иногда бывает бессознательным, лучше всего доказывает, что тут есть нечто реальное, стоящее выше воли отдельной личности.
Еще Кант указывал на то, что существует масса таких чисто физических свойств, которые подчиняются общим законам, вследствие чего можно создать тип среднего человека, в действительности нигде не встречающегося. Такой человек, в отношении населения Германии, на 50,6% был бы мужчиной и на 49,4% женщиной; он заключил бы 0,8 браков, имел бы 2,5 детей, съедал бы 2 500 калорий, совершал 0,0002 самоубийств и 0,0001 убийств и жил бы 40,5 лет. Мы воображаем, {277} что мы можем вступать в брак, иметь детей и т.д. по свободному выбору, а на самом деле мы «делаем все это по необходимости, чтобы пополнить определенную норму».
Кроме того, в человечестве, как и в отдельном человеческом организме, наблюдается то, что Дарвин называет коррелятивным изменением; он подразумевает под этим тот факт, что благодаря неизвестному нам соотношению частей организма изменение в одной части вызывает изменение и в другой. Легко доказать, что этот принцип господствует и в жизни человечества: изобретение, например, новой ротационной машины в Америке повлияло на все печатное дело в Европе; эмиграционное движение в Европе отзывается на экономическом положении Америки и Австралии и т.д. Но больше всего заслуживает внимания тот факт, что часто великие открытия и изобретения совершаются одновременно в разных частях земного шара, и притом совершенно независимо друг от друга. Кажется, как будто в известное время мысль различных народов одновременно тяготеет к одной и той же идее. Не только зависть и самолюбие заставляют народы оспаривать друг у друга первенство какого-либо важного изобретения, например книгопечатания, которое голландцы приписывают Костеру, итальянцы Памфилию Кастальди, немцы Иоганну Гутенбергу. Во всяком случае, в конце XV столетия эта проблема занимала умы многих. Метод вычисления бесконечно больших и бесконечно малых чисел был почти одновременно найден Лейбницем и Ньютоном, которые сами друг у друга оспаривали первенство, хотя претендовать на него могли бы, пожалуй, и другие, например Декарт, Галилей, Кеплер, а в известной степени даже Архимед.
То же имело место и в отношении изобретения паровой машины. Дени Папэн во Франции и Савери в Англии одновременно произвели удачные опыты в этом направлении. Из новейших изобретений такую же судьбу разделяет телеграф; а в конце XIX века почти одновременно и повсеместно люди занялись авиацией, и решить, кому принадлежит первенство в разрешении этой проблемы, весьма затруднительно.
Аналогичное явление отмечается также в области духовных течений, в особенности религиозных. Что в Европе периодически происходит усиление религиозного чувства, отмечено многими исследователями; в последнее же время установлено, что почти в то же время испытывает подобные потрясения буддизм в Азии. {278}
В политической сфере еще Токвилль (1856) обратил внимание на сходство государственного устройства средневековой Франции, Германии и Англии, которое наблюдалось вплоть до Французской революции. По его мнению, условия, вызвавшие последнюю, были налицо во всех странах Европы, чем и объясняется столь быстрое распространение ее идей в названных странах Другой пример: в XVIII веке увлечение республиканскими идеями было всеобщим, в то время как в XIX веке господствовали монархические тенденции. Как бы то ни было, не подлежит сомнению, что в известные времена преобладают определенные течения мысли.
А в настоящее время! Кто бы мог допустить, чтобы отдельная личность была способна на такую безумную ненависть, какой загорелись все народы в конце 1914 года. И в самом деле, в душе единичного человека ничего подобного возникнуть не может: каждый в отдельности является только отражением своей эпохи.
Все это доказывает, что, подобно тому как в отдельном человеческом организме ни одна клетка не может измениться без того, чтобы это не повлияло на все тело, так ни один человек в мире не может что-либо сделать или испытать без того, чтобы это не отразилось, хотя бы незаметным образом, на всем человечестве. Затем, подобно тому как единичная, изолированная клетка организма не может продолжать своей жизни, так и человек, будучи изолирован, погибает. В отношении ребенка это само собой понятно; но и взрослый человек, испытавший на себе влияние окружающей среды, может избегнуть смерти в одиночестве лишь при исключительно благоприятных условиях. Этими бессознательно связующими нас отношениями обусловливается то обстоятельство, что не только в теории, но и на деле человек стоит над пространством и временем, составляя часть того общечеловеческого организма, который простирается за пределы того, что может объять единичная личность.
§ 98. Общение и язык. Итак, все человечество — единый организм, покоящийся физически-материально на идиоплазме (см. § 100), а духовно-динамически на взаимодействии. Но в то время как отношения, которые создает единая идиоплазма, незыблемы, динамические взаимоотношения постоянно меняются, так что человечество в этом смысле представляется постоянно совершенствующимся организмом. {279}
Эти динамические отношения, этот обмен духовными силами и есть то, чем определяется степень достигнутой человечеством организованности. Если модно было бы окончательно выяснить эти отношения, мы могли бы установить степень развития человеческого рода и знали бы, в какой мере можно требовать от него братских чувств по отношению друг к другу. Все то, что мы называем культурой, цивилизацией, нравами, законами, правом, техникой, искусством и наукой, все это — выражения подобных взаимоотношений и средства к их развитию. Препятствий для подобных достижений имеется только два — преступление и война! — и больше ничего.
Совокупность этих отношений можно охарактеризовать в общих чертах как гуманизм, ибо именно они обеспечивают человеческому роду (genus humanum) выдающееся, обособленное положение в природе. Идеал будущего заключается поэтому в укреплении и усовершенствовании ныне существующих отношений и в борьбе со всем тем, что препятствует этому, т. е. с преступлениями и с войной.
Тот, кому слово «гуманизм» кажется слишком расплывчатым, а выражение «человеческие отношения» слишком бесцветным, может употребить вместо них термин «общение». Под этим словом следует понимать не только торговлю, почту и железные дороги, но вообще все то, что заставляет человека общаться с себе подобными, причем исследование эволюционного развития этого общения доказывает происхождение его от одного корня — взаимной любви. Таким образом, гуманизм, любовь и общение — в некотором смысле синонимы.
Историю подобного общения (с точки зрения гуманизма) следовало бы написать в видах его поощрения. Я лично чувствую себя недостаточно подготовленным к этому, и для меня достаточно указания, что в этом отношении мы за последнее время переживаем кризис. Минувшее столетие ознаменовало себя таким скачком в развитии и усовершенствовании технических средств общения (следовательно, и общения вообще), который выразился не только в ускорении переездов, в увеличении корреспонденции, ввоза и вывоза, тоннажа, потребления металла, хлопка, стекла и т. п., но и во всякого рода духовных и моральных рефлексах, обусловленных этим прогрессом.
Социалистическое движение XIX века, какое-то неопределенное влечение человечества к идее любви, в котором {280} усматривалось возрождение христианского духа, пацифизм, развитие принципов интернационализма вообще, все это и многое другое представляет собой бессознательное выражение мечтаний, порожденных усовершенствованной техникою. Но так как мечты эти жили в человечестве бессознательно и в скрытом виде, то массы, находившиеся под влиянием своего инстинктивного консерватизма, невольно противились новому течению мысли, и неизбежная реакция вылилась в форму войны 1914 года.
К сожалению, на известной ступени развития общение с другими народами может вызвать войну. Пока известное племя живет замкнуто в своей долине, оно не испытывает соблазна ограбить труднодостижимую соседнюю местность. Общение, сблизившее людей, открыло им вместе с тем доступ к сокровищам чужих стран, и так как в те времена нужда заставляла людей воевать, то это должно было, конечно, вызвать не одну войну. Впрочем, война только эпизод, общение же представляет собой эпоху, так как со временем сближающий и объединяющий элемент общения делался господствующим; народы познакомились друг с другом и научились уважать друг друга. Благодаря развитию общения между народами расширилось понятие права, что, в свою очередь, повело к ограничению произвола и насилия.
Все международное право является, таким образом, функцией международного общения.
Произнесенные Вильгельмом II в 1891 году слова: «Мир на исходе XIX столетия находится под знаком развития путей сообщения; уничтожая заставы, изолирующие народы, пути сообщения содействуют установлению между народами более тесных отношений» — заключали в себе именно эту мысль и, казалось бы, легко могли убедить его самого в том, что подготовка к войне, возбуждение шовинизма и подавление всякой свободы общественного мнения только препятствуют сближению народов. Но, к сожалению, лишь очень немногим дано не забывать тех слов, которые им подарила мысль в счастливую минуту. Подобный же взгляд высказал довольно консервативно настроенный Рошер: «Пока, — заявил он, — мы еще только подготовляемся к созданию общечеловеческого народного хозяйства. Мы приближаемся к нему путем приобретающей все более и более космополитический характер науки, путем увеличивающегося в международном масштабе разделения труда, путем улучшения {281} средств сообщения, эмиграции и т. д.» Еще в 40-х годах Карл Бек, назвав железнодорожные рельсы «свадебными лентами», напоминающими нам о браке, правильно угадал их будущую роль. Будем надеяться, что оправдаются и заключительные слова его: «Брак этот означает европейскую федерацию народов».
Язык был первым средством общения между людьми, и до настоящего времени он является одним из точнейших мерил культурного уровня всякого народа Увеличение запаса слов того или иного народа свидетельствует о том, что его сношения с другими народами стали оживленнее. Правда, можно сказать, что это относится только к представителям одной народности, т. е. группы людей, говорящих на одном и том же языке, но, с другой стороны, следует заметить, что по мере роста культуры разнообразие наречий в пределах известной территории постепенно уменьшается. Больше всего наречий в Америке; за ней следует Африка, потом Азия, а в Европе, издавна населенной культурными народностями, насчитывается всего лишь 50 наречий из существующей на земном шаре тысячи. Объясняется это отчасти тем, что в более культурных местностях, где, следовательно, общение между отдельными народами интенсивнее, различные наречия перемешиваются, одни языки обогащаются, другие же, более бедные, ими вытесняются. Так, например, Англия обязана богатством своего языка своей культуре, тому обстоятельству, что в английском языке содержатся корни почти всех германских и романских наречий. Усвоение иностранных слов свидетельствует не только об обогащении языка, но и о росте культуры. Позаимствовав в средние века ряд слов от латинского и греческого языков, немецкий язык ассимилировал их, и это служит доказательством того, что он приобщился к тем понятиям, предметам и отношениям, которые обозначались этими словами. Великие германские завоевания V века ввели в романские наречия множество немецких выражений, относящихся главным образом к войне и охоте. До сих пор во Франции многие выражения военного характера обнаруживают свое немецкое происхождение, и это никого не смущает; например, marechal = Märenschalk (конюх); lansquenette = Landsknecht. canon = Kanone и т.д. Интересно, что все современные языки, даже романские, слово, означающее войну, позаимствовали не {282} от латинского betlum, а от немецкого Wehr (по-французски guerre, по-итальянски duerra, по-английски war).
Другим средством международного общения и преодоления государственных границ и расстояний, их разделяющих, служит письмо. Писаное слово, будучи зафиксировано, способно обойти весь мир, в то время как устное едва может распространиться в пределах родного края. При помощи письмен узы, соединяющие отдельные народы, распространяются в необъятном пространстве и не прерываются во времени. Эта возможность пространственного объединения народов осуществилась лишь в XIX веке, когда установились почтовые отношения. Во времена греческих гемеродромов и римских табеллариев количество пересылаемых писем едва достигало, по приблизительному подсчету, одной тысячи в течение года; в настоящее же время в одну только Германию прибывает из-за границы ежегодно до одного миллиарда почтовых отправлений. При учреждении всемирного почтового союза, приблизительно сорок лет тому назад, в странах, вступивших в этот союз, подано было до трех миллиардов почтовых отправлений; в 1896 году число это увеличилось в 12 раз, а перед последней войной оно достигло почти 60 миллиардов. Вместе с тем увеличилась и скорость доставки почты. В средние века письмо из Германии в Италию шло почти месяц, а теперь доходит в сорок часов. Изобретение телеграфа и телефона почти совершенно уничтожило расстояния.
Когда в былые времена шкипер отправлялся на своем корабле в далекие страны, он для судовладельца становился недосягаем. Это в силу необходимости обеспечивало ему некоторую самостоятельность в распоряжении экипажем, принятии обратного груза, выбора пути и т.д. Ныне же в месте прибытия он находит телеграмму, содержащую распоряжения, которым он должен следовать, будучи простым исполнителем. Тут оказывается, что телеграф уничтожил частицу индивидуальной свободы в угоду организованному общению. То же можно сказать и относительно послов, коммивояжеров, представителей фирм и даже военачальников, морских и сухопутных Прежде последние были самостоятельны, теперь же они связаны проводами с центром и превратились в марионеток. Это, однако, отнюдь не свидетельствует об унижении их достоинства; это лишь доказывает, что современная техника умаляет самостоятельность отдельной личности в интересах общей согласованности {283} действий. Возможность запроса понижает ответственность в сознание таковой. Вообще техника средств общения уменьшает значение индивидуальности, создавая некоторую повсеместность однородных условий. Американский плантатор и мекленбургский крестьянин жили прежде каждый своей жизнью; ныне, благодаря газетам и письмам, они приобщились к общим интересам, и захолустный житель стал в некотором роде космополитом. Это может не нравиться, но изменить этого нельзя
§ 99. Размеры государств в зависимости от средств сообщения. Указанные зачатки космополитизма со временем окажут свое влияние и на политику. Скорость, преодолевающая пространство, имеет непосредственное отношение к вопросу о возможном размере государств. Очевидно, что централизация в большом государстве, без хороших дорог и средств сообщения, без участия почты, денег и кредита, просто немыслима. Отсутствие денег у крестьян делает невозможным взимание с них налогов, а без хороших дорог невозможен сбыт того хлеба, от продажи которого они выручают деньги. Карл Великий вынужден был поочередно посещать все более значительные центры своей обширной империи, в целях реализации накопившихся там натуральных податей.
Не касаясь здесь этого вопроса во всем его объеме, постараемся установить лишь некоторые факты, наглядным образом свидетельствующие о зависимости размеров государства от средств сообщения. Государство не может, очевидно, простираться до бесконечности; притом оно должно иметь возможность воздействия на все части своего организма, и это воздействие должно осуществляться на практике с известной быстротой. Размеры государства зависят, таким образом, до известной степени от той скорости, с которой происходит общение в нем. Опыт прошлого доказал, что жизнеспособными организмами оказались лишь такие государства, из определенного центра которых можно было добраться до отдельных частей его хотя бы в течение нескольких дней. Нет сомнения, что величина государства находится в известной зависимости от развития в нем путей и средств сообщения; условия этого соотношения могут быть установлены в общих чертах
Исходя из того расчета, что пешеход может пройти по лесным тропам за сутки не более 20 километров, что по почтовому тракту можно за то же время проехать 100 км, а по {284} железной дороге, исходя из технически возможной в настоящее время скорости, 10000 км в сутки1,— мы видим, что скорость передвижения возросла по сравнению с примитивным способом в 500 раз. Если бы государства разрослись в той же пропорции, то диаметры их должны были бы увеличиться тоже в 500 раз, а в площади в 250000 раз.
И в самом деле, если взять, например, Германию в то время, когда она еще была почти непроходимой страной и была населена кочующими народностями, она охватывала приблизительно 100 племен (Тацит насчитывает около 50. но имеет при этом в виду далеко не все); они занимали отдельные области размером примерно в 5000 кв. км каждая. Такую область можно было пройти в 3—4 дня. Когда появились дороги и тракты, вся Германская империя была в административном отношении разделена на десять округов, из которых каждый можно было тоже проехать в 3—4 дня. Теперь в такой срок можно проехать по железной дороге через всю Европу, от Петрограда до Барселоны или от Лондона до Константинополя. Европа, следовательно, соответствует по своей величине нормальным размерам государства современного типа.
Площадь государства, которое могли создать люди, не располагавшие никакими техническими способами передвижения, жившие в дремучих лесах, не могла быть больше городской территории. Нормальные размеры государства с сообщениями по почтовым дорогам соответствовали прусской провинции; с железнодорожным сообщением старого времени — Пруссии; с современными средствами сообщения — Европе; с будущими — всему земному шару. Как видно, настоящие размеры современных государств сильно отстали от мощного развития техники средств сообщения в XIX веке. Если вышеизложенные рассуждения применить к действительности, то окажется, что для господства первобытных народов, пользовавшихся своими ногами как единственным средством передвижения, достаточно было горной долины; народы, организовавшие почтовые сообщения, нуждались в территории, соответствовавшей величине возникших в средние века и поныне существующих в таком же приблизительно размере стран; для современных же условий эти {285} государства слишком миниатюрны, и лишь такие государственные образования, какие мы встречаем в Америке, Африке и Австралии, могут считаться соответствующими теперешнему уровню техники путей и средств сообщения.
Вследствие развития техники исчезли мелкие государственные образования средних веков, и по этой же причине прекратят свое существование и современные государства; в будущем, когда в два дня можно будет переместиться с одного конца земного шара на другой, весь мир станет единым государством. Такая универсальная политическая организация возникнет с непреодолимой необходимостью тогда, когда современные государства завершат цикл своего развития. Это следует понять и этому следует добровольно идти навстречу, чтобы ускорить наступление того, к чему ведет эволюция человечества.
Когда-то существующая организация мира казалась совершенной. Это было в те времена, когда отдельные народы жили настолько уединенно, что каждый из них составлял самостоятельное, законченное целое; позже началось общение между ними; оно их сблизило, но одновременно вовлекло их в борьбу и соревнование. Этот период завершится лишь тогда, когда теснейшими узами общения будет объят весь земной шар, когда возникнет один исполинский народ. С этой точки зрения тысячелетия длящийся воинственный период истории человечества кажется преходящим великим заблуждением; с исчезновением его мы снова вернемся к тому моменту, в который прекратилось наше нормальное развитие.
Если усвоить этот образ мыслей и рассматривать слияние Европы в одно целое как неизбежный результат нашего постепенного развития, то станет понятно, что было совершенно несвоевременно подходить к проблеме всеобщего мира и универсального государства в такое время, когда необходимые для того условия еще отсутствовали. Поэтому неудивительно, что преждевременные мечты лучших людей былых эпох не осуществились. Но идея объединения Европы под тем или иным главенством всегда занимала выдающихся людей. Не говоря уже о том, что к этому постоянно стремились папы и императоры, ту же идею высказывали такие люди, как Фома Аквинский («Summa theologia»), Данте («Tractatus de monarchia»), Лейбниц («De jure suprematus ac legationis principus Germaniae»), Руссо {286} («Abrégé dune paix perpetuelle»), Бентам («A plan for an universal and perpetual peace»), Кант («Zum ewigen Frieden») и др.
В прежние времена думали, что управлять миром придется из определенного единого центра, и только впоследствии убедились в том, что это было бы невозможно, и поэтому остановились на идее конфедерации равноправных государств. Один лишь Наполеон, упоенный и увлеченный военной славой, надеялся объединить Европу в виде единой монархии, а в последнее время подобные стремления обнаружила Германия, собиравшаяся, хотя и нерешительно, подчинить себе Европу. Очень жаль, что печальная тень великого корсиканца не предостерегла ее от подобных замыслов! Европа может быть объединена только под знаменем свободы.
§ 100. Материальная основа общечеловеческого организма. Если нельзя обосновать какое-либо положение определенными фактами, то строится гипотеза. Так, например, если невозможно объяснить некоторые явления света, то прибегают к гипотезе о движении эфира. Чем больше фактов объясняет гипотеза, тем общепризнаннее становится она; если же обнаруживается факт, ей противоречащий, то она, конечно, отпадает. Так, например, была отброшена теория лучеиспускания, когда оказалось невозможным согласовать с ней явления поляризации; ныне вызывает сомнения теория световых волн, так как некоторые электрические феномены, несомненно связанные со световыми явлениями, по-видимому, противоречат этой теории.
Все теории проблематичны и гипотетичны и остаются таковыми до тех пор, пока не удастся подвергнуть точному наблюдению лежащие в их основе явления; в последнем случае гипотеза превращается в то, что на обыденном языке называется достоверным фактом.
То же самое приходится сказать и по поводу теории общечеловеческого организма. Хотя очень многое в существующих между отдельными лицами и целыми народами отношениях указывает на наличие органической связи между людьми, все-таки было бы гораздо ценнее и убедительнее, если бы эта связь сделалась предметом непосредственных наблюдении. {287}
Современный человек страдает чрезмерной верой в значение материи, хотя многие и отрицают это. Наличие динамических взаимоотношений между людьми, послуживших еще Аристотелю достаточным основанием для того, чтобы усмотреть в социальных образованиях организм, нас уже не вполне удовлетворяет, и мы настойчиво требуем доказательства реального физического единства человечества Ибо каждый читатель будет, пожалуй, недоумевать, не представляя себе, как можно сравнивать все человечество с единичным животным, составляющим, начиная с головы и кончая оконечностью хвоста, органически связанное, живое целое. А какая же связь наблюдается между европейцем и жителем Огненной Земли или хотя бы между отцом и сыном?
Идя навстречу материалистическим требованиям нашей эпохи, постараемся доказать, что на самом деле существует такая «непрерывная, живая и никогда не умиравшая связь» между людьми всех времен и всех стран и что эта связь актуальна. При этом, однако, не следует забывать того, что для эволюции человечества больше значения имеют те динамические отношения, о которых мы говорили выше, так как именно они обратили человечество в единый организм, развивались и будут развиваться дальше, в то время как реальная, т. е. телесная основа их остается неизменной.
Такая телесная связь обусловливается непрерывностью идиоплазмы. Еще в 1878 году эту мысль высказал Иегер, а два года спустя Нуссбаум; общее же признание она получила после обширных исследований Вейсмана над водяными медузами. В настоящее время эта теория настолько упрочилась, что Делаж и Гольдсмит считают «довольно банальной истиной» существование «различия между сомой и идиоплазмой, из коих первая умирает вместе с индивидуумом, а вторая продолжает жить в потомстве и, следовательно, бессмертна и непрерывна». Гипотетичны лишь те специальные выводы, которые делает Вейсман и которые нас здесь не интересуют. Нам достаточно «банальной истины», понятной для всякого, даже не знакомого с физиологией.
Всякая яйцевая клетка, из которой впоследствии формируется животное или человек, разделяется прежде всего на две части; из них первая, быстро разрастаясь, образует тело и с телом же умирает, т. е. исчезает навсегда, другая же не растет, а остается живой идиоплазмой и только иначе располагается, образуя либо {288} сперматозоиды, либо новые яйцевые клетки. Эти последние находятся в непрерывной связи с материнской клеткой А. Эта связь сохраняется и после того, как производные клетки стали взрослыми особями. В них или, точнее, в их яичках или яичниках продолжает жить частица родителей, и эта частица опять-таки переходит непрерывно и неизменно в яйцевые клетки нисходящих. Таким образом, частица деда, внука, правнука и т.д. состоит — в буквальном смысле этого слова и совершенно реально — из одной и той же живой субстанции. И так как мы можем и должны продолжить этот ряд беспредельно, то беспрерывно разветвляющееся, так сказать, дерево представляет собой единый целостный организм, состоящий из бесконечного числа идиоплазм. Из него вырастают, как яблоки на дереве, отдельные люди в виде частичек организма; обособляются от него, становятся, таким образом, самостоятельными индивидуумами и затем умирают.
Древо идиоплазмы, наделяющее отдельных индивидуумов формой и жизнью и составляющее поэтому наиболее существенную часть человечества, живет вечно в виде целостного организма Частица же этого целостного организма живет в каждом отдельном индивидууме, и через нее мы органически связаны с целым. Правда, эту частицу можно удалить из тела, не уничтожая, однако, жизни, но то, что остается затем от мужчины, на это указывает нам жалкая участь кастрированных людей и евнухов, а последние опыты решительно подтверждают, что все жизненные инстинкты, делающие человека таковым, неразрывно связаны с той долей общечеловеческого организма, которую мы носим в себе и которая живет в нас. И если эгоизм выявляет, так сказать, самосознание тела, то альтруизм выявляет самосознание идиоплазмы. «Другой человек», как мы видим, имеет некоторое воплощенное в нас право в виде частицы его живого «я», живущей в нас.
Подавление в себе эгоизма и есть «умерщвление плоти», так как плотью является наше бренное тело, отделяющееся от древа человечества. Вечно живущее же в нас, порождающее любовь, т. е. в широком смысле всю мораль, есть идиоплазма или, как говорит Священное Писание, «святая, способная к оплодотворению, пневма» (pgeuma xvo poiuun). Лютер перевел это словами «святой животворящий дух», {289} придав этому выражению символическое значение. Но выражение «пневма» имеет более обширное значение и не может быть понято иначе, как в связи с историей его возникновения в греческой мифологии, особенно у стоиков. Мы не станем рассматривать этого вопроса подробно и сошлемся только на Диогена Лаэртского, который определенно говорит: «Мы обязаны общностью происхождения пневме»; следовательно, Диоген Лаэртский говорит здесь именно о том, что мы в настоящее время называем идиоплазмой. Шопенгауэр, указывая на заключающийся в этом выражении глубокий смысл, говорит о воплощенном в семени понятии вида. Подобно тому как мы представляем себе действие почти невесомого количества идиоплазмы на все наше тело, превосходящее ее в тысячу биллионов (1 000 000 000 000 000) раз, так представляли себе в древности таинственное действие «Святого Духа». У Иоанна сказано: «Пневма творит все живое, плоть бессильна в этом отношении». Значит, и Священное Писание позаимствовало у стоиков «понятие вида» и, что очень важно, использовало его в области морали. Само собой разумеется, что эта пневма ни у греков, ни в священном писании не выражает отчетливо того, что мы понимаем под идиоплазмой; тем не менее в Библии как бы интуитивно нащупывалось нечто в этом роде. Дело в том, что понятием умерщвления плоти впоследствии часто злоупотребляли, отождествляя «плоть» с чувственностью и чувственной любовью (да и с любовью вообще), а пневму с «высшими» психическими свойствами. Что это неправильно, неопровержимо доказывает 1-е послание ап. Павла к Коринфянам, где душа (svma jucicon) ясно противопоставляется пневме. Там говорится о пневматическом теле (svma jucicon), которое, если придерживаться древнего смысла пневмы, материально и реально воплощается в физическом теле всех людей; таким образом, здесь опять идет речь об идиоплазме...
...Нередко приходилось задумываться над вопросом, зачем необходимо, чтобы воспроизведение человеческого рода совершалось при посредстве двух разнополых существ, и почему человеческое потомство не могло бы, подобно тому как это наблюдается у низших животных организмов, просто отделяться от своих бесполых родителей. Вопрос о причинах нас здесь не может интересовать; нас занимает лишь вопрос о последствиях. {290}
Если какое-нибудь существо создаст путем партеногенеза (бесполого воспроизведения) шесть новых существ, то каждое из них, как показывает опыт, несколько отличается от других, и если представить себе, что от этих шестерых детей в свою очередь возникнет путем партеногенеза шесть поколений, то таковы будут еще менее похожи друг на друга, так как каждое поколение наследует все больше и больше новых признаков; таким образом, каждый индивид делается родоначальником нового поколения. Организмы становятся в связи с этим все более разрозненными, и если бы к известному моменту какой-нибудь вид стал господствовать (как ныне человечество) над миром, то немедленно началось бы новое расщепление. Если бы воспроизведение людей происходило без полового совокупления, то до настоящего времени сохранились бы грешные потомки Каина или добропорядочные потомки Авеля, и если бы потомки Каина убили всех потомков Авеля, то все-таки Каиново племя снова разделилось бы на несколько частей, которые со временем становились бы все более и более непохожими друг на друга, и опять началась бы борьба между ними. Словом, бесполое размножение человеческого рода неизбежно привело бы к крайней расщепленности и одновременно к вечной войне всех против всех. Ибо унаследованные всеми общие признаки вида в конце концов сделались бы настолько незначительными, что ни о каком господстве их не могло бы быть более речи.
Однако мы появляемся на свет не таким образом, а в результате половых сношений родителей, и если у них есть, например, шестеро детей, то, хотя каждый и отличается чем-либо от других, все эти отличия постепенно сглаживаются благодаря скрещиванию потомства; поэтому резкие отличительные признаки не успевают заметным образом выделиться. Половое влечение и процесс совокупления являются, таким образом, факторами, обеспечивающими сохранение однородности воспроизводящей субстанции данного животного вида, — они как бы поддерживают единство всего расового организма...
Основа изложенных здесь взглядов известна уже сравнительно давно. Еще в 1853 году Лейкарт говорил о том, что половое размножение противодействует вырождению (тому, что мы выше назвали расщеплением расы). Дарвин еще в 1859 году {291} заявил совершенно определенно, что скрещивание (в противоположность бесполому размножению) играет важную роль в природе в том отношении, что особи одного и того же рода сохраняют в чистом и однообразном виде особенности своего характера. Того же мнения придерживались Спенсер, Нэгели, Гатчек, Гертвиг, Шрассбургер и Вейсман.
Значение полового размножения подробно разъяснено Яницким («Возникновение и значение амфимиксиса», 1906)1. На стр. 784 он говорит: «Мир вовсе не распадается на массу отдельных самостоятельно существующих частиц, которые, оставаясь навсегда изолированными и составляя части одного целого, должны были бы идти своими собственными путями по прямолинейно нисходящей, лишь дихотомически разветвляющейся линии; нет, путем двуполого размножения амфимиксиса, периодически, но постоянно в каждой частице органического мира воспроизводится картина макрокосма в виде микрокосма; этот макрокосм растворяется в тысяче микрокосмов. При помощи амфимиксиса природа создала как бы компромисс между индивидуализацией и гипотетическим состоянием панмиксиса. Индивид должен быть, насколько это возможно, самостоятелен, должен передвигаться свободно и т.д.; но, с другой стороны, все индивиды должны составлять единую материальную непрерывность и находиться в постоянной связи. Это достигается исключительно путем периодического смешения воспроизводящих субстанций, благодаря чему необходимая непрерывность материи проникает в каждый отдельный индивид, как бы это ни казалось парадоксальным. Непрерывность тут налицо, хотя и в микроскопическом виде. Каждый индивид развивается как бы на почве невидимой системы ризоменов, соединяющих воспроизводящие субстанции бесчисленных индивидуальностей. Все это означает отрицание необходимой в целях произрастания индивидуализации, и если мы станем рассматривать под микроскопом парамецию, то в первый момент мы не будем в состоянии представить себе, каким образом в этом кусочке живой протоплазмы может заключаться бесконечно сложное множество, одно целое, {292} которое незримыми нитями связано с суммой индивидов, составляющих вид и живущих или живших когда-либо рассеянно по всему свету». А на стр. 789 мы читаем: «Как у одноклеточных, так и у многоклеточных организмов периодический амфимиксис является физиологической необходимостью. В том и другом случае этим путем создается непрерывно возобновляющаяся материальная связь с суммой той живой материи, которая составляет данный вид. В этой тесной связи с целым изменяется с течением времени простейшая монопластида; невзирая на многочисленные деления, она не подвержена естественной смерти и тем самым полному преобразованию, помимо произрастания; тело только переформировывается, как у пластической субстанции. В такой же связи с целым, как бы в сгущенной протоплазме, коренится жизнь полипластидов. Непрерывность жизни обеспечивается единственно воспроизводящей субстанциею. Сомы представляются рядом прерывающихся кривых, последовательно излучаемых непрерывной кривой суммирующихся воспроизводящих субстанций. Тела потеряли свою пластичность и после каждого амфимиксиса преобразовываются путем онтогенеза».
К этим словам едва ли нужно что-либо прибавить. Яницкий фактически исчерпал проблему; остается только сделать необходимые выводы для ее согласования с принципами нравственного поведения людей.
§ 101. Мутация воинственных инстинктов. Прежде всего надо доказать, что эта чисто органическая связь — помимо того, что она служит реальной основой для альтруизма, — имеет еще другое практическое значение для жизни народов. Если, например, эта живая субстанция когда-нибудь, по тем или иным причинам, приобретет способность изменяться по прошествии некоторого времени, скажем, через тысячу лет, то не придется удивляться, если после истечения этого срока все те, которые носят в себе частицу этой субстанции, внезапно изменятся одинаковым образом.
Огромное значение этого явления вполне ясно. Оно означает не что иное, как то, что в телах современных людей заключается будущая история человечества как функциональная реальность. Относительно мозговых функций на это указывалось уже в § 15. {293} Но, оказывается, это может служить общим принципом всего органического мира.
Такие изменения, такие внезапно наступающие вариации действительно наблюдаются и особенно подробно изучены в отношении растительного царства, где исследованию благоприятствует быстрая смена поколений. Врис1 указал на то, что в целом поле царских свечей, у которых на протяжении многих столетий потомки походили на предков, внезапно происходят существенные изменения таким образом: в определенном поле ежегодно появляются отдельные экземпляры с некоторыми аномалиями, в общем незначительными. Вдруг, в известном году одна из таких аномалий, например длинные листья, появляется у большого числа растений и становится тотчас же константной, т. е. передается по наследству в чистом виде и независимо от внешних условий. В следующем году этот новый вид царских свечей встречается почти исключительно, и в результате такой внезапной вариации или мутации, как ее называет Врис, возникает совершенно новый вид царских свечей.
Есть ли механизм этих изменений то, что Врис называет мутацией, или это, как говорят другие, лишь ретрогрессивные вариации (выявление скрытых свойств),— для нас неважно. Существенно то, что между отдельными экземплярами наблюдается какое-то взаимодействие; другими словами, совокупность царских свечей составляет, несмотря на наличие телесной индивидуализации, единый организм. Что таковой возможен, доказывают непрерывность и бессмертие идиоплазмы. Подобная же связь существует несомненно и между людьми; и так как мы, люди, подобно прочим животным, варьируем преимущественно тем органом, который за последний период нашего развития подвергся наибольшим изменениям, а именно мозгом, то большую часть доказательств этой мутации мы найдем в области психических явлений. Без сомнения, и в человечестве происходят относительно неожиданные перевороты, после которых человеческая психика представляется в корне изменившейся: кажется, будто вырвавшаяся из глубины наших самых сокровенных внутренних переживаний волна нового мировоззрения снесла в своем внезапном порыве все старое, отжившее. {294} Самый факт, что существуют эпохи, когда преобладает ненависть или любовь, религиозное чувство или скептицизм, для каждого историка несомненен.
Доказательство того, что тут происходит нечто подобное мутациям царских свечей, я усматриваю не столько в самом факте видоизменения (который можно было бы объяснить одинаковыми условиями среды, массовым внушением и т.п.) и не в том, что, как указывалось выше, великие открытия часто делаются одновременно и независимо друг от друга в разных частях света и как бы носятся в воздухе (и это можно было бы объяснить тем, что люди делают именно те открытия, в которых они в данный момент больше всего нуждаются, и что их стремления в этом направлении обусловливаются одинаковыми условиями жизни). Я усматриваю доказательство этого в одном хотя и побочном, но достойном внимания обстоятельстве. Дело в том, что во все времена существовали люди с таким своеобразным строением мозга, что те взгляды, которые они высказывали, казались из ряда вон выходящими, вследствие чего, смотря по настроению и вкусу, их считали либо сумасшедшими, либо гениями. Являются ли они тем или другим, это зависит не только от них самих, но и от того, что произойдет в будущем или, вернее, от тех мутаций, которые в скрытом виде содержатся уже в миллионах людей, кажущихся пока еще совершенно нормальными. Тот, кто высказывает взгляд, не соответствующий общепринятому, прежде всего объявляется сумасшедшим; затем, если через сто лет большинство людей разделит этот взгляд его провозглашают гением, опередившим свое время; если же и тогда никто не одобрит его воззрений, он окончательно будет причислен к разряду анормально мыслящих. В таком же духе можно было бы описать те явления, которые мы наблюдаем у царских свечей. Пока удлинение листьев заключено в их идиоплазме лишь в скрытом виде, растения с слишком короткими, слишком толстыми или слишком тонкими листьями представляют собой анормальные явления, быстро исчезающие и не имеющие значения; если же среди анормальных растений встречаются такие, у которых вырастают длинные листья, то и они — «гениальные» предтечи предстоящей в будущем мутации. Так же и у людей. Пока время еще не созрело, пока в мозгу еще не существует в {295} скрытом виде предрасположение к изменению, до тех пор никакое гениальное пророчество не приведет ни к чему; когда же время созрело, пророчество становится уже излишним, и для выявления скрытых сил достаточно малейшего повода Гус ничего не мог достигнуть там, где Лютер без всякого труда одержал победу. Гремевший во всей Греции Сократ был забыт вскоре после того, как он выпил чашу с ядом, в то время как распятый Христос этот неизвестный мечтатель, самое существование которого подвержено сомнению, оставил после себя мировую религию.
Эти и многие другие эволюционные циклы закончены, и, обозревая их, мы всегда найдем подтверждение сказанному. Волнующие наше время проблемы ждут еще своего разрешения в процессе будущей эволюции, и, как всегда, накануне окончательного разрешения их обостряются противоположные течения мысли. Мольтке вскрыл, например, этическое значение войны в то самое время, когда Толстой с небывалой до того резкостью требовал безусловного уничтожения ее. Кто из них представитель сумасшедшей и кто — гениальной вариации, пока еще сказать трудно; это зависит от того, на чью сторону встанет большинство нашего потомства. Я хотел бы только указать на то, что азарт, с которым велась война 1914 года, вовсе еще не служит доказательством того, что Мольтке был гениальным предтечей, потому что у организма, которому со временем предстоит пережить мутацию, уже заранее обнаруживаются значительные вариации в ту и другую сторону. Отмеченный выше факт, что теперь мы расходимся во взглядах на войну более, чем когда-либо, служит, по-моему, подтверждением тому, что в ближайшее время общий взгляд на войну радикально изменится. А так как из всех возможных мутаций естественно должна сохраниться наиболее приемлемая для окружающей среды, то все, что нами было сказано в предыдущих главах о вреде современной войны, дает нам основание предполагать, что мутация произойдет в сторону обращения людей в безусловно миролюбивые существа и что выходящие из рамок обыкновенных человеческих рассуждений взгляды Мольтке и его последователей, вплоть до Бернгарди, могут быть рассматриваемы лишь как благоприятный признак близкого наступления подобной мутации. Все свидетельствует о наступлении сумерек войны. {296}
§ 102. Преобразование религии. Доказать вероятность только что высказанных мною мыслей составляло одну из моих задач, ho если бы мне даже и удалось убедить кое-кого из читателей, то этим все-таки было бы достигнуто не слишком много, ибо я имел в виду воздействовать настоящей книгой на читателей в том направлении, чтобы, по моему глубокому убеждению, неизбежный крах идеи войны был ускорен самими людьми. Для этого, однако, недостаточно одного убеждения; человек руководствуется в своих действиях не столько отчетливо сознанной истиною, сколько смутно ощущаемыми внутренними инстинктами, которые, раз они касаются только высоких идеалов, никто не мешает нам называть даже верой.
Наперекор истине мы, конечно, не можем и не должны действовать; это бесспорно, но истина восторжествует только в том случае, если она инстинктивно чувствуется нами или — по образному выражению древности — живет в нас. Так это бывает со всем, и в частности с войной. Не политика спасет от войны человечество и не естествознание, а исключительно изменение его образа мыслей. Выше мною было указано, почему я нахожу, что существование метафизической или религиозной потребности необходимо и вполне основательно; здесь я хотел бы только добавить, что она всегда будет оправдывать себя, ибо наши желания, наши надежды всегда опережают наши знания. Знания в этом отношении могут действовать только отрицательным или задерживающим образом: они могут нам сказать, что то и другое желание неисполнимо и потому не может быть предметом наших вожделений. То же, чего мы можем ожидать от будущего, во что мы должны верить, этого разум никогда не сможет нам доказать с такой очевидностью, чтобы мы могли почерпнуть отсюда силы для действительно положительной деятельности. Между тем необходимо именно это, а потому мы всегда будем испытывать потребность в чем-то метафизическом или, если хотите, в религии. Спрашивается, может ли факт существования общечеловеческого организма — независимо от того или иного естественнонаучного значения его — быть в то же время источником подобного позитивного, религиозного чувства, т. е. можно ли данный факт истолковать в религиозном смысле, ибо только тогда он в состоянии воодушевить человечество на смелый подвиг. {297}
В наше время смысл религии не может, конечно, заключаться в том, чтобы вдохновлять людей мистической верой в существование даже абстрактного, а тем более конкретного понятия божества и в необходимость поддерживать господство какой-либо церкви; если религия может вообще иметь какое-либо значение, то только постольку, поскольку она доставляет человечеству известные этические ценности, т. е., с практической точки зрения, поскольку она внушает ему уважение к достоинству ближнего и содействует осуществлению идеи братства между людьми. Но как раз в этом отношении религии не оправдали себя; это, как мы видели выше, выразилось, между прочим, в том, что со временем все они пришли к отрицанию идеи братства и санкционировали войну.
Неудача в этом отношении всех религий имеет свою совершенно естественную причину. Всякая религия (от слова religo — связываю) пытается связать человека с известными толкованиями, известными этическими принципами, соответствующими первобытному пониманию, провозглашая их в избытке наивного самомнения незыблемыми истинами; она коренится, следовательно, в традиции и связывает человека с прошлым. Ей недостает, таким образом, возможности приспособления к новым условиям, и, несмотря ни на какие обещания и надежды на будущие блага, она по существу своему ретроспективна. Можно основывать новые религии, можно протестовать против уже существующих, но все-таки с выражением «религия» связано нечто сковывающее нас; в лучшем случае удавалось влить новое вино в старые мехи, дать новое содержание старым формам. Это было бы не так плохо,— говорят же, что новое вино в старых мехах становится вкуснее и ценнее, — если бы человечество не цеплялось за внешность, не переоценивало форму в ущерб содержанию. Ведь до сих пор всякая религия застывала в догматизме и потому в конце концов тормозила всякое дальнейшее развитие.
Никто, однако, не в состоянии вести нравственную жизнь, не будучи связан с чем-либо выше его стоящим: человек может, правда, добровольно ограничить самого себя, но для этого он должен верить в какой-либо закон или в какое-либо существо, над ним стоящее и им управляющее. Не следует только верить в нечто нереальное. Кто, следовательно, сознает, что Бог — реальность, тот может и даже должен искать в нем нравственную {298} поддержку. Тот же, кто знает, что Бога не существует, а между тем создает себе фантастическое представление о какой-то силе, которую он называет божеством, тот поступает глупо, и в этом отношении самый наивный идолопоклонник гораздо разумнее иного архиученого философа Не следует только при этом смешивать две вещи. То неопределенное чувство, которое говорит всем хорошим людям, что существует нечто высшее, чем их маленькая персона, что существует звездное небо, существует нравственный закон, такое чувство самое высокое из тех, которые он может испытать, и если он его испытывает, то этого совершенно достаточно, но воплотить это чувство во что-нибудь несуществующее, это — да простят мне резкость выражения — попросту чушь.
На вопрос о том, какой же должна быть эта основа нашей нравственности, приходится ответить: незыблемой и все-таки изменчивой, стоящей выше человека и все-таки человечной, идеальной и все-таки, вместе с тем, реальной. Это как будто антиномистическая философия; тем не менее существует нечто, удовлетворяющее всем этим требованиям:
Если можно было бы основать религию, которая, оставаясь как бы неизменной в своей вечной юности, все-таки была бы настолько гибка, что могла бы приспособляться к изменчивым потребностям человеческой души, она должна была бы базироваться на чем-либо постоянном и тем не менее способном к изменениям. Мы знаем,— этого доказывать не приходится,— что ничего абсолютно неизменного вообще не существует, но что для нас, людей, человек сам является абсолютом. Наш организм со всеми его возможностями к своеобразному восприятию окружающего его мира, другими словами, человек и среда, в которой он находится, для нас — вполне реальный факт; правда, развиваясь, он принимал на протяжении тысячелетий различные формы и в течение грядущих тысячелетий изменится еще больше, но в каждую данную минуту он представляется нам чем-то абсолютным. Таким образом, и человечество само по себе вечно меняется, но для нас, составляющих часть его, в каждый данный {299} момент оно — единственное абсолютное мерило всего существующего.
Кроме того, оно стоит над человеком, оставаясь тем не менее человечным. Человечество развилось и развивается по пути и в направлении, пожалуй, случайном, но предопределенном раз навсегда. Позади нас лежит целый ряд эволюции: мы были животными и стали людьми; но и относительно своего будущего мы с уверенностью можем сказать, по крайней мере, что человек грядущего будет несколько иным, чем человек современный, хотя первый, быть может, уже заключается в последнем.
Поэтому сверхчеловек не представляет собою чего-либо нового, и все же он нечто иное. Не стоит задумываться над тем, хороша ли подобная эволюция. Она совершается, а потому было бы безрассудно (и даже преступно) противиться ей. Животное, человек и будущий сверхчеловек составляют одно объединенное во времени целое, а потому и сверхчеловек останется существом человеческим, хотя он и превзойдет человека. Таким же нераздельным целым останутся человек и сверхчеловек и в том случае, если мы будем рассматривать сверхчеловека как синтез всех ныне живущих людей, как человеческий род. Здесь перед нами одно пространственно нераздельное целое. Итак, понятие сверхчеловека в пространстве и во времени шире понятия отдельного человека, и тем не менее оно неразрывно связано с последним.
Наконец, понятие человечества одновременно идеально и реально. Что человечество в этом смысле есть величина реальная, это мы старались доказать выше. Но если согласиться с моими доводами и признать человечество реальностью, то все-таки в известном смысле оно остается идеею в платоновском смысле. Оно является регулирующим человеческие отношения принципом, хотя и следует признать, что, будучи только частью его во времени и пространстве, мы не обладаем органами, благодаря которым мы могли бы полностью охватить его; для нас оно остается идеей совершенства, творящей в целом лучшее из того, что у нас творят или хотят творить в отдельности. «Мы несемся по волнам, они поглощают нас, и мы тонем в пучине», а этого нельзя себе представить без идеи «вечного потока», возвещенной древним греческим {300} мудрецом. Итак, человечество само по себе реально, и все-таки оно навеки останется недосягаемым идеалом.
Таким образом, человечество удовлетворяет всем условиям, необходимым для того, чтобы построить на нем твердую религию. Это, в сущности, и понятно, ибо никто — а следовательно, и человечество — не может достигнуть совершенства без веры в самого себя. Все великие мыслители прошлого, создавая религию, находили основы для нее в своей собственной душе. Современная наука доказала, что первобытные люди поступали так же, что «по образу и подобию своему сотворили себе люди своих богов». Но так как сотворенным таким путем божествам (или, поскольку речь идет о более развитых людях, идеям божества) приписывали более или менее абсолютное существование, благодаря чему оно становилось независимым от наших внутренних переживаний, этим божествам постоянно угрожала опасность превратиться в мумии, неспособные вместе с людьми переживать их жизнь.
Реальная вера должна базироваться на реальном бытии человека, а не на вымышленных идеалах. Из этой постоянно изменяющейся реальной жизни, которая с течением времени все более совершенствуется, само собой вытекает, что будущее всегда будет казаться высшей реальностью, в которую мы можем верить, которую мы должны любить и на которую нам следует надеяться. Эти три добродетели служат краеугольным камнем всякой истинной религии; не следует только верить в то, истинность чего не доказана, любить то, чего уже не существует, и надеяться на то, что представляет собой одну лишь мечту.
Заслуживает ли подобное миросозерцание названия религии? Да и нет! В сущности, оно его заслуживает, так как оно говорит о связанности (religio), требуя лишь, чтобы мы чувствовали себя связанными с тем, с чем мы нераздельно слиты, т. е. с нашим телом и нашими чувственными восприятиями. В сущности, это должно было бы быть столь понятным, что особое название явилось бы излишним. Называть ли это религией или нет,— верить в человечество должен был бы всякий, кто гордится тем, что он человек.
Все необходимые моменты, вытекающие из того факта, что мы представляем собою людей определенной организации, и {301} понимаемые нами как требования морали, принято называть гуманностью. Быть гуманным — значит понимать историю эволюции человечества, знать, откуда мы пришли, сознавать, куда мы идем, и в соответствии с этим приспособляться ко всему, происходящему в природе, и к тому, чему нас учит история развития человечества Мы верим в эту историю эволюции, любим человечество и надеемся на свое дальнейшее развитие, т. е. на постепенное оформление сверхчеловека В признании этих очень понятных фактов заключается всякий нравственный закон, и если бы мы пожелали изложить в такой форме десять заповедей, то пришлось бы сформулировать их следующим образом:
1. Нет нравственности без веры в сверхчеловеческое.
2. Не верь в то, нереальность чего тебе известна Поэтому из всего сверхчеловеческого одни лишь общечеловеческие начала да будут основой твоей нравственности, ибо только она обладает видимой реальностью.
3. Ощущать в себе реальность человечества — значит чувствовать свою связь со всем миром, значит иметь религию, значит любить ближнего. Борись за добрые традиции (полезные при современных условиях инстинкты), в частности:
4. Люби и почитай органы и символы человеческих коллективов.
5. Люби и почитай жизнь.
6. » » размножение.
7. » » труд.
8. » » истину.
9 и 10. Борись с дурными традициями (инстинктами, ставшими бесполезными).
Впрочем, дело не в формулировке, а в том, чтобы одуматься и понять, что человек — индивид и в то же самое время часть организма высшего порядка. Кто это знает и ощущает не только как извне воспринимаемую истину, а как живущий внутри его закон, тот — человек Кто этого не ощущает, тот, как бы он ни был по своей внешности похож на человека, т. е., по выражению Канта, «цивилизован», тот не человек, так как ему недостает самого существенного, недостает того, чем человек отличается {302} от всех прочих тварей,— сознания принадлежности к человеческому роду.
|
Scio et sentio genus humanum esse simplex et unum, Scio et volo me esse hominem. Scio et spero numquam oblivisci1. |
Кто вообще человек, тот существо нравственное. Все частности с этой точки зрения имеют лишь преходящее значение. Так и война. Когда победит человечность, война умрет. Но только тогда, ибо человечество не может переломить и не переломит меча до тех пор, пока оно не придет к сознанию того, что меч не входит в понятие человечества, а является чем-то чуждым ему и может быть свободно отброшен.
1 «Au-dessus de la mêlée» («B стороне от схватки», статья «Pro aris»).
1 Воззвание к культурному человечеству, подписанное 93 представителями германской науки и искусства и обнародованное в первые дни октября 1914 года.
1 Во имя истины приходится констатировать, что, по крайней мере, некоторая часть подписавших воззвание в настоящее время сожалеет о своем участии в этой манифестации.
2 Имена отдельных подписавших нами для сокращения опущены. Многие к тому же отреклись впоследствии от своих подписей. Прим. ред.
1 Это нисколько не противоречит тому факту, что он позже снял «посвящение консулу», когда Наполеон провозгласил себя императором. Император Наполеон представлялся Бетховену врагом братства людей.
1 Совершенно безразлично, будет ли эта воля к охране Европы осуществлена с помощью орудий насилия или законодательным путем.
1 Под европейской культурою я разумею здесь, в широком смысле, все стремления, проявляющиеся на всем земном шаре и первоначально возникшие в Европе.
1 Фриц Рейтер (1810—1874) — один из наиболее видных юмористов Германии, творец очень популярного героя германской литературы — инспектора Брезига. Мекленбуржец по происхождению, Р., в силу особого склада своего характера, навсегда остался бы, пожалуй, безвестным юмористом, если бы в 1831 г. он не попал в Йенский университет, где увлекся студенческим движением (буршеншафт). В 1833 г. он был в связи с этим арестован, судим и приговорен к смертной казни, замененной 30-летним тюремным заключением. Главное из предъявленных ему обвинений гласило, что он принимал участие в составлении проектов введения в Германии свободной и единообразной формы правления. Рейтер 7 лет провел большею частью в строгом одиночном заключении в ряде крепостей, затем был помилован и влачил печальное существование, перебиваясь частными уроками, статьями и т.п. По предложению друзей он издал написанные им в разное время на нижненемецком диалекте повести, имевшие шумный успех («Lauschen und Rimals», «Ut de Franzosentid», «Ut mine Stromtid» и др.). Заключение свое в различных крепостях, между прочим в Грауденце, Рейтер описал в популярной книжке «Ut mine Festungstid». Прим. ред.
1 Характерно, что превосходный знаток и любитель животных К.Флерике (K.Floerike, «Saugetiere fremder Lander», Stuttgart, 1910) усматривает у гиббона близкое родство с человеком ввиду миролюбивого, добродушного и кроткого нрава этого животного, считая наличность анатомических свойств, общих у гиббона с человеком, лишь дополнительным обстоятельством, подтверждающим его предположение.
1 По мнению всех знатоков первобытных племен, одной из причин возникновения каннибализма послужило то обстоятельство, что, став «суеверным», человек начал думать, что, проглотив другого, он усвоит себе качества последнего. Подобно тому как суеверие — свойство человеческое, таковым является и вытекающее из него людоедство.
2 По мнению всех новейших этнологов, каннибализм тоже предполагает известную степень культурности.
1 Для того, например, чтобы санскритолог мог совершенно спокойно отдаться своей науке, приблизительно 150—200 рабочим семьям приходится целиком предоставлять ему весь излишек своего труда.
1 Кесслер, «Отчеты петербургского О-ва естествоиспытателей», т. XI (1882).
2 Петр Кропоткин, «The mutual aid»(1890—1896) (есть русск. перевод).
3 Особенно в «Les luttes entre les societes humaines» (Paris, 1904) и в «Gerechtigkeit und Entfaltung des Lebens» (Berlin, 1907).
1 Этот закон роста предугадывал еще в глубокой древности Эмпедокл.
2 По этому вопросу интересна книга Цендера «Die Entstehung des Lebens», вышедшая в Тюбингене в 1910 году.
1 Это применимо преимущественно к млекопитающим. Но и тут имеются замечательные исключения, в большинстве случаев объяснимые особыми привходящими обстоятельствами, как, например, уменьшение роста островной фауны. Принципиальное исключение представляют насекомые. Наряду с брахиоподами они и являются поэтому наиболее долговечными существами на земле.
1 Новейшие исследования (Heim, «Lehrbuch der Bakteriologie») установили еще большую быстроту размножения. Согласно им, один холерный вибрион мог бы в течение 24 часов размножиться до 30000 триллионов, образовав куб, ребро которого имело бы в длину около пяти метров.
1 Детальное подтверждение этих фактов завело бы нас слишком далеко. Для того чтобы подчеркнуть единственное в своем роде значение энергии, я упомяну лишь о том, что — по крайней мере, теоретически — все отдельные составные части излишни или, во всяком случае, заменимы. Даже температура, атмосферное давление и т.п. имеют значение лишь для определенного вида организмов. Единственное безусловно необходимое для жизни — это потенциал энергии, т. е. наличность текущей энергии. Между прочим, отсюда следует, что жизнь никогда не может возникнуть на центральном теле, а лишь на спутнике, обладающем более низкой по сравнению с центральным телом температурою. На остывшей луне могли бы существовать организмы, равно как и на раскаленном Юпитере; но они совершенно невозможны на нашем солнце, хотя бы оно постепенно и охлаждалось.
2 Относительно незначительные источники земной и космической энергии существенной роли не играют.
1 Поскольку размножение базируется на иных основаниях, оно обусловливается усовершенствованием породы, т. е. подходит уже к третьей категории методов борьбы.
2 Под калориею разумеется мера энергии. Человек нуждается ежедневно примерно в 2500 калориях.
1 Во время войны Германия имеет возможность питать приблизительно 120 чел. на один кв. километр. Между тем Германия не отличается ни особым плодородием, ни законченной интенсивной хозяйственной культурой. Китай (без Монголии и Тибета), несмотря на свое «ненаучное сельское хозяйство», достиг возможности пропитания 52 чел. на кв. километр. В применении к поверхности всего земного шара это дало бы 71/2 миллиарда человек. В плодородной Южной Сибири и в Туркестане, как показывает опыт, каждая семья кочевых народов (стоящих на более высокой ступени развития, чем варвары) требует для своего существования в среднем около 1000 моргов. Это дало бы для всего земного шара население в 150 миллионов. С другой стороны, надел («гуфа») с прирезком общинной части леса и пастбища достигал у живших в условиях примитивнейшего полевого хозяйства германцев V и VI веков размеров примерно в 150 моргов. Это дало бы для всего земного шара население круглым счетом в один миллиард человек.
1 Принципиально новым и не имеющим примера в природе является колесо. С принадлежащей к нему осью оно не может быть создано ни одним целостно питаемым организмом. Знакомство с этим фактом облегчило бы ряд проблем, например, в области авиационной техники.
1 Если бы, например, в Германии народонаселение возросло настолько, что на каждой десятине жило бы по одному семейству, то в ее пределах могло бы поместиться такое количество людей, какое ныне живет на всем земном шаре.
2 Выражение «потасовка» отнюдь не должно быть принимаемо как проявление неуважения по отношению к тем бесчисленным жертвам, которых потребовала эта борьба, столь тяжелая и убийственная для каждого участника ее в отдельности. Но, помимо всякого уважения, с натуралистической точки зрения битвы являются потасовками ради объектов минимальной ценности.
1 Самбук — римский струнный инструмент вроде арфы. Прим. ред.
1 Следуя идеям Оствальда, Габер усовершенствовал также методы добывания азота, следовательно, также работал на пользу борьбы, творящей жизнь. Но эта заслуга его не устраняет и другого факта. С другой стороны, и образ Фишера как человека несколько затушевывается его деятельностью в Бельгии и Северной Франции.
1 Эта функция не сводится к простой пропорциональности. Формула здесь была бы примерно такова: вес мозга = al + bl3 + cl3 + di, причем l означает длину животного, i — его интеллект, a, b, c и d — величины, определяемые опытным путем.
1 Kapp: «Grundlinien einer Philosophie der Technik» (1877), а также Noiré: Das Werkzeug und seine Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte der Menschheit» (1880). Оба они базируются, по существу, на труде L.Geiger'a «Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft» (1868). Первым, высказавшим эту мысль, был, впрочем, Фердинанд Лассаль: в 1860 году он заявил: «Абсолютное самопроизводство является важнейшим свойством человека».
2 Еще Гельмгольц как-то сказал: «Если бы какой-нибудь оптик принес мне человеческий глаз, я отверг бы его как неудачный инструмент».
1 Ср. Lazar'us Geiger «Ursprung und Entwicklung der Sprache», 1868. Там приводятся доказательства в пользу того, что камень служил первейшим орудием для разрыхления почвы.
1 Poultney Bigelow: «The German Emperor and his eastern neighbours» (1892). Бигело воспитывался в Потсдаме и является личным другом германского императора. Это не мешает ему относиться в общем весьма несочувственно к прусскому милитаризму.
1 Мы предоставляем каждому самому решить, следует ли считать это прогрессом.
1 Разумеется, нечего и говорить о том, что такое развитие нашего мозга сопровождается соответствующим развитием всего нашего тела. Главнейшее об этом было уже сказано в отделе о свободе и принуждении природы. Здесь мы позволим себе попутно заметить: мозг многим обязан руке, и следует обратить внимание на то, что все, что утончает руку, способствует процессу развития человечества, а все, заставляющее ее грубеть, по меньшей мере не имеет ничего общего с его развитием. Кто действительно понял это суммарное соображение, тот не усмотрит противоречия сказанному в том, что мозолистая рука рабочего нередко ценнее выхоленной руки франта.
1 Это было написано в 1915 году. Теперь их уже гораздо больше! Но мне страшно делать подсчет. К чему? Ведь оставшиеся в живых будут знать эти цифры.
1 И эти цифры в настоящее время, вероятно, сильно возросли.
2 Так, например, несмотря на колоссальные общие потери, многочисленные коронованные семьи пострадали весьма незначительно.
1 Просматривая гербы европейских стран и областей, мы находим, например, орла в 30 случаях, льва в 25, быка в 5, леопарда, грифа и коня — каждого — в 3. Итак, в 70 случаях фигурируют эти животные, очевидно, в связи с их воинственностью. Славянский хорек, сибирский соболь и галицийский ворон, хотя и хищники, взяты, по-видимому, по иным, чисто географическим, соображениям. Равным образом причинами местного характера, а не миролюбивыми наклонностями, объясняется выбор ирландской трески, козла с Фарерских островов, истрийской козы и шаффгаузенского барана. Впрочем, эти геральдические животные — единичные примеры «миролюбивых гербов» в Европе (поскольку вопрос идет о животных). У американцев и азиатов, напротив, встречаются чаще миролюбивые животные; указанное явление вытекает из того, что эти народы предпочитают украшать свои гербы представителями фауны своих стран.
1 Во всяком случае, постольку, поскольку спорт, как это наблюдается ныне, служит самоцелью. Впрочем, чтобы оправдать свою позицию в вопросе, на котором я здесь не в состоянии остановиться подробнее, мне хотелось бы упомянуть, что я сам занимался почти решительно всеми видами спорта, не достигнув в них совершенства, но добившись средней успешности. Лишь тогда, когда я попал на военную службу, мне пришлось забросить свои физические упражнения, и это мне сильно повредило: определенная мера методически выполняемых телесных упражнений необходима, по крайней мере полезна всякому здоровому человеку. Занимался я спортом и с научной точки зрения и основал в Шарлоттенбурге, совместно с профессором Цунцем, лабораторию для научного исследования спорта. После того как меня, по политическим соображениям, отправили в провинцию, эта лаборатория прекратила свое существование.
1 Колониальные войны, в том числе бурская и Крымская, мало затронули ядро английского населения.
1 За эту общеизвестную ныне книгу автор подвергся преследованию и был отправлен, в виде наказания, в Герц. Тогда происходило совершенно то же, что и теперь.
1 Древнейшее, удостоверенное находками из доисторической эпохи, пиршество каннибалов имело место в Крапинской пещере, в Хорватии.
2 Число людоедов и теперь еще значительно больше, чем это принято думать. Меня обуяло своеобразное чувство, когда в центральной части Суматры, столь цивилизованной на побережьях, мне довелось увидеть заключенного человека, о котором мой проводник сообщил, что его вскоре съедят. По осторожному подсчету Р. Андре (R. Andrée: «Die Anthropophagie», Lpz., 1887), численность каннибалов около 1870 года составляла почти 2000000 чел.; таким образом всякий 750-й человек на Земном шаре был тогда людоедом.
1 Herder (1784): «Ideen zur Geschichte der Menschheit», VIII, 5. Этот беспристрастный ученый понимал, что поведение несчастных дикарей нравственнее современной войны, для которой он не мог найти никакого оправдания (там же, V).
2 По аналогичным соображениям, бирманцы, индусы, римляне, сербы, германцы, а позже, в эпоху христианского средневековья, почти все европейские народы замуровывали при закладке зданий живого человека: душа его должна была стать духом-хранителем дома.
1 Подробнее см. Sсhurz: «Urgeschichte der Kultur», Leipzig. 1900.
2 По вычислениям профессора Томазиуса, количество сожженных до 1700 года церковными и светскими судами ведьм и еретиков достигало почти сказочной цифры в 9 миллионов человек.
3 По умеренному подсчету, каждый день мировой войны уносит в среднем почти столько же жертв.
1 W.Hollander «Der Krieg als Zustand» («Berliner Tageblatt», № 10 от 6 января 1916 года).
1 Так, например, Мария-Терезия объявила 22 июля 1778 года во всеобщее сведение, что в Богемии повешен человек, у которого был найден мышьяк для отравления колодцев.
2 Когда впоследствии русские стали распространять нечто подобное о немцах, сравнительно легко удалось восстановить истину: некий генерал Жилинский, не знавший, что найденные в германских лазаретах пузырьки с холерными бациллами предназначены для предохранительных прививок, решил, как это и подобает военному, что германцы отравляют ими колодцы.
1 Напротив, в Дании и других странах демонстрировались бельгийские дети, которым германцы будто бы выкололи глаза. И хотя эти слухи, естественно, не так легко могут быть нами проверены, совершенно ясно, что и в данном случае мы имеем дело с злостной клеветой.
2 Случай с английскою сестрою милосердия, которой немцы якобы отрезали груди, обнаружил, как возникают подобные вздорные слухи. Английские власти, к счастью, самым внимательным образом расследовавшие этот случай, установили, что указанная сестра милосердия страдала неизлечимым раком груди.
1 Приличная печать не могла или едва могла дышать из-за цензурных строгостей, превзошедших все дотоле известные; во всяком случае, с ней не считались вовсе.
1 Так как сейчас еще трудно сказать, кто в настоящей войне первым сделал нечто подобное, то приходится взять для примера эти давно вымершие американские племена.
1 В то время, когда я пишу эти строки, румыны как раз колеблются, сделаться ли им народом подлым или благородным.
2 См. «Der Tag» от 19 января 1910 года.
1 Конкретный и весьма поучительный пример этого в чисто интеллектуальной области я дал в в своей работе о фактических основах миогенной теории биения сердца («Archiv für Anatomie und Physiologie», 1910).
1 W. Rüstоw: «Kriegspolitik und Kriegsgebrauch» (Zürich, 1876).
1 См. «Kölnische Zeitung» от 17 сентября 1914 года, № 1035.
2 См. «Berliner Tageblatt» от 9 сентября 1914 года.
1 Th. Cooper: «Lectures on the elements of political economy» (1896).
2 Norman Angell: «The great illusion», London, 1910.
1 Подобное опасение не совсем беспочвенно: хорошее состояние шоссейных дорог в Персидской монархии значительно ускорило ее завоевание Александром Великим.
2 Этот мотив не подчеркивается в официальных документах, но глава имперского железнодорожного ведомства в беседе со мной определенно выдвинул вышеуказанные соображения.
1 Эта цифра получается, если положить в основу исчисления официальные списки германских потерь и допустить (это приблизительно соответствует истине), что текущая война поглощает в общем в 4 раза больше жертв. Если на войне ежеминутно умирает 4 чел., то за 4 истекших года настоящей войны погибло почти 10 миллионов человек.
1 Оккупация Францией Рура в последнее время звучит как бы насмешкой над этим утверждением автора Прим. ред.
1 Roscher und Ianasch: «Kolonialpolitik und Auswanderung», Leipzig, 1895.
1 Моntesquieu: «De l'esprit des lois», Livre X, ch. 14, 1748.
2 Steinmetz: «Dig Philosophie des Krieges», Leipzig, 1907.
3 Stengel: «Weltstaat und Friegensproblem», 1909.
1 Около 600 лет до нашей эры.
1 Нынешняя война также революционизировала Россию, доказав тем самым, что вышеприведенные слова Троцкого, сказанные им в начале войны и вызвавшие насмешку как плод фантазии, заключают в себе могучую правду.
1 Приведенные данные заимствованы из статьи К.Т.Гейгеля и В. Гаузенштейна. (Heigel und Hausenstein: «Das Zeitalter der nationalen Einigung».)
1 Эти цифры тем убедительнее, что уже в 1870 г. Германия вела оптовую торговлю, превышавшую на 700 миллионов торговлю Франции. Несмотря на очень сильный рост населения Германии, это преобладание за последние 30 лет уменьшилось. Если в Англии отмечается еще более значительное ухудшение (в %), чем в Германии, то это объясняется тем, что в 1870 г. Англия имела чрезвычайно большой перевес; абсолютно торговля Англии, по сравнению с торговыми оборотами Германии, все-таки несколько увеличилась.
2 «Atlas zur Festschrift des Kg!. Stat. Bureau». № 58. S. 71.
1 Max Lehmann: «Freiherr v. Stein», 1902, I.
2 Там же, II.
1 Если эта убыль ускользала в течение продолжительного времени от внимания широкой публики, то это объясняется тем. что за последние годы сильно уменьшилась смертность. Таким образом, абсолютная численность населения все еще значительно возрастала. Однако само собой разумеется, что такой «рост числа стариков» отнюдь не доказывает общего роста населения; против этого не станет спорить ни один статистик.
1 Пример Франции не доказывает обратного, так как ее население еще до войны, в течение всего XIX века, увеличивалось в самой ничтожной мере. Утверждают даже (принимая в расчет приобретение Ниццы и Савойи и утрату Эльзас-Лотарингии), что численность французов за 20 лет, непосредственно предшествовавших франко-прусской войне (1851—1871), увеличилась на 4,5%, а за первые двадцать лет после этой войны (1871—1891) увеличилась на 6%. Поэтому, если вообще придавать какое бы то ни было значение подобным относительно небольшим колебаниям, пришлось бы в данном случае опять-таки признать благотворным результат поражения.
1 Основание Польского королевства показало, сколь смехотворно было положение победоносной Германии, которая принуждена была поддержать своих польских врагов (!).
1 W.Windelband. Geschichteder Phitosophie, 1892.
1 Karl Lehrs: «Die Philosophie und Kant», 1886.
1 Paul Deussen: «Die Dementeder Metaphysik»(1877).
1 Cyrano de Bergerac: «Histoire comique du voyage dans la lune» (1650).
1 В этой басне отдельные сословия уподобляются органам животного.
1 Fried, «Handbuch der Friedensbewegung» (1911).
1 В 1850 г. можно было проехать за сутки только 600 км, а в настоящее время, исходя из обычной средней скорости движения поездов, — 2000 км.
1 Janicki: «Ueber Ursprung und Bedeutung der Amphimixis». Ein Beitrag zur Lehre der geschlechtlichen Zeugung. («Biolog. Zentraiblatt», XXVI, № 22).
1 Н. de Vries: «Arten und Varietaten und ihre Entstehung durch Mutation» (1906).
1 Я знаю и чувствую, что род человеческий прост и един.
Я знаю, что я человек, и хочу быть им.
Я знаю и надеюсь никогда не забыть этого.
| {303} |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
8 | ||
Книга первая. Критическое исследование эволюции войны. | ||
Часть первая. Естественные условия войны. | ||
26 | ||
44 | ||
79 | ||
134 | ||
Часть вторая и третья. | ||
171 | ||
Книга вторая. Преодоление войны. | ||
Часть четвертая. Преодоление войны в теории. | ||
175 | ||
204 | ||
Часть пятая. Преодоление войны на практике. | ||
226 | ||
259 | ||
| {304} |
Г. Ф. Николаи
Биология войны. — СПб. Издательство «Манускрипт», 1995. — 304 с.
ISBN 5-87593-006-3
Г. Ф. Николаи
Издательская лицензия №062986 от 14.09.1993г.
Сдано в набор 13.06.95. Подписано в печать 30.06.95.
Формат 84×1081/32. Гарнитура Гельветика. Печать офсетная.
Печ. л. 19. Тираж 12000 экз. Зак. 269
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ордена Трудового Красного Знамени ГП “Техническая книга”
Комитета Российской Федерации по печати.
198052, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29